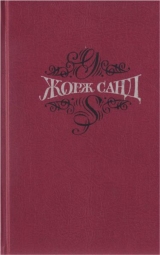
Текст книги "Собрание сочинений. Т.4. Мопра. Ускок"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
За шесть лет во мне произошла огромная перемена: я стал почти таким же человеком, как все. Отныне инстинкты мои уравновешивались побуждениями сердца, впечатлительность – велениями рассудка. Я следовал только урокам жизни и советам друзей, и этого оказалось достаточно, чтобы превратить дикаря в существо общественное. До образованного человека мне было далеко, но я достиг уже той ступени, когда мог быстро приобрести основательные знания. Я имел обо всем довольно правильное представление, насколько это было по тем временам возможно. С той поры человеческая наука, я знаю, шагнула далеко вперед; я следил за нею из своего далека и ничуть не собираюсь отрицать ее успехи. Однако же не всякий в моем возрасте обнаруживает столь трезвые взгляды, оттого-то мне и хочется думать, что меня смолоду направили по верному пути и это помогло мне выйти из тупика заблуждений и предрассудков.
Мое духовное и умственное развитие, по-видимому, удовлетворило Эдме.
– Меня ничуть не удивляют ваши успехи: видно было по письмам, как вы преобразились, – сказала она. – Но я испытываю чувство материнской гордости.
У дядюшки уже не было сил вступать, как бывало, в бурные споры, иначе он, право, пожалел бы, что потерял во мне неутомимого спорщика, который некогда столь ожесточенно с ним препирался. Он даже попробовал было разок-другой мне противоречить, желая меня испытать; но я счел бы преступлением доставить ему это опасное удовольствие. Дядюшка немного обиделся, полагая, что я щажу его как глубокого старика. Желая его утешить, я переводил разговор на события прошлого, которым он был свидетель, и начинал расспрашивать его о вещах, в которых житейский опыт помогал разобраться намного лучше, нежели моя благоприобретенная ученость. Таким образом, я усвоил надлежащие понятия о правилах личного поведения, а законное дядино самолюбие было полностью удовлетворено. Если раньше он усыновил меня, движимый природным великодушием и родственными чувствами, то теперь проникся ко мне подлинно дружеским расположением. Дядя не скрыл от меня, что заветнейшее его желание – видеть меня супругом Эдме, прежде чем он уснет вечным сном; когда же я признался, что это мечта моей жизни, страстное мое чаяние, дядя ответил:
– Знаю, знаю, все зависит от нее; думаю, что у Эдме нет более причин колебаться. – И, помолчав с минуту, он с некоторым неудовольствием добавил: – Не вижу, какие возражения сможет она привести теперь.
Дядя впервые заговорил касательно предмета, интересовавшего меня всего более. Из его слов я заключил, что он давно уже относится благосклонно к моим намерениям и что если есть еще препоны, то чинит их Эдме. В последнем замечании дядюшки прозвучало некоторое сомнение; это сильно меня обеспокоило, но я не осмелился его расспрашивать, Легко уязвимая гордость Эдме внушала мне такой страх, а ее неизреченная доброта – такое благоговение, что я не осмеливался открыто обратиться к ней с просьбой о решении моей участи. Я счел за благо поступать так, будто и не чаял никогда быть для кузины никем иным, кроме брата и друга.
Но тут одно обстоятельство, долгое время казавшееся необъяснимым, на несколько дней отвлекло мои мысли от этого предмета. Вначале я отказался было наведаться в Рош-Мопра и вступить во владение поместьем.
– Вы непременно должны взглянуть, какой порядок я там завел, – сказал дядя. – Земли теперь хорошо обработаны, на всех фермах восстановлено поголовье скота. Надо же вам наконец ознакомиться с вашими владениями, показать крестьянам, что вам небезразлично, как они работают, иначе после моей смерти все пойдет прахом: имение вам придется отдать на откуп, что, возможно, и принесет больше дохода, зато снизит ценность ваших земель. Я стар, присматривать за вашим поместьем не могу, уже два года я не расстаюсь с этим несносным халатом, аббат же в делах ничего не смыслит. У Эдме – светлая голова, но она не отваживается наведаться в Рош-Мопра: говорит, там очень страшно; но это, конечно, ребячество.
– Чувствую, что должен бы проявить больше мужества, чем кузина, – ответил я, – однако, дорогой дядюшка, нет для меня ничего тягостнее, нежели подчиниться вашему требованию. Нога моя не ступала на эту проклятую землю с того дня, как я покинул ее, спасая Эдме от похитителей. Право же, вы как будто хотите изгнать меня из рая в ад.
Дядя пожал плечами; аббат заклинал меня исполнить волю господина Юбера; мое упорство весьма раздосадовало дядюшку. Я подчинился и, решив побороть себя, на два дня разлучился с Эдме. Аббат предложил сопутствовать мне, желая отвлечь меня от мрачных мыслей, но я постеснялся даже на такое короткое время лишить Эдме его общества, зная, как она в нем нуждается. Будучи прикована к отцовскому креслу, Эдме вела жизнь столь однообразную и замкнутую, что любое самое незначительное происшествие становилось для нее событием. С каждым годом одиночество ее возрастало; когда же господин Юбер одряхлел и веселые детища вина – песня и шутка – были изгнаны из-за его стола, Эдме стала почти совсем одинокой. Господин Юбер был когда-то страстным охотником, и в день его именин – на святого Юбера – вокруг него собиралась вся местная знать. Было время, заливистый лай гончих раздавался на псарне; было время, на конюшне двумя рядами тянулись сверкающие стойла и в них били копытом ретивые кони; было время, над окрестными пущами неслись звуки охотничьего рога, а под окнами пиршественной залы, при каждом тосте блистательных сотрапезников, раздавались фанфары. Но это чудесное время давно прошло. Господин Юбер уже не охотился, а надежда заполучить руку его дочери не удерживала более подле его кресла молодых людей, коим наскучила его старость, приступы подагры и надоедливые рассказы, которые он повторял вечером, забывая, что их уже слышали от него утром. Эдме отвечала упорным отказом на все домогательства претендентов, но и де ла Марш получил у нее отставку. Все это представлялось весьма странным и давало повод ко всевозможным догадкам. Один из воздыхателей Эдме, которого она выпроводила подобно другим, движимый глупым и низким самолюбием, решил отомстить единственной, как он утверждал, женщине его круга, посмевшей его отвергнуть; случайно узнав, что Эдме была похищена Душегубами, он распустил слух, будто она провела в Рош-Мопра беспутную ночь. В лучшем случае он готов был предположить, что бедняжка принуждена была уступить насилию. Эдме внушала такое уважение и пользовалась такой доброй славой, что ее не осмелились бы обвинить в снисходительности к разбойникам; легче было представить себе, что она стала жертвой зверского принуждения. Теперь на доброе имя Эдме легло несмываемое пятно, и все искатели ее руки отступились от девушки. Мое длительное отсутствие лишь подтверждало сложившееся представление. Поговаривали, что я спас кузину от смерти, но не от позора и потому не решаюсь сделать ее своею женой; будучи в нее влюблен, я избегаю ее из опасения, что не выдержу соблазна и захочу на ней жениться. Все это казалось столь правдоподобным, что трудно было бы заставить окружающих поверить в подлинную подоплеку событий, особенно трудно потому, что Эдме не пожелала отдать руку нелюбимому человеку и тем пресечь злостные слухи. Таковы были причины ее одиночества; все это стало мне известно позднее. Теперь же, видя суровость дяди и грустное спокойствие Эдме, я боязливо оберегал их покой, не позволяя даже опавшему осеннему листу потревожить эту сонную заводь. Вот почему я умолял аббата остаться с Эдме до моего возвращения. Следуя настояниям кузины, не пожелавшей, чтобы я расставался с Маркасом, я взял с собой только верного сержанта, с некоторых пор делившего свои досуги с Пасьянсом в его уютной хижине и помогавшего тому в исполнении его обязанностей.
Туманным вечером я прибыл в Рош-Мопра. Стояла ранняя осень. Тучи застили небо, умолкшая природа уснула в сырой мгле; равнины опустели, только стаи перелетных птиц наполняли воздух движением и криком. Вереницы журавлей чертили в небе огромные треугольники, и аисты, парившие в недосягаемой высоте, за тучами, оглашали даль печальными криками, что неслись над унылыми полями, подобно погребальной песне, оплакивающей счастливые дни прошлого. Тут я впервые ощутил, что уже похолодало, и меня охватила грусть, как то бывает, думается мне, со всяким, кто замечает приближение суровой зимы. Есть в первых заморозках нечто, напоминающее человеку о том, что и он вскоре обратится в прах и тлен.
Не обменявшись ни единым словом, мы с моим спутником миновали леса и вересковые заросли, сделав большой круг, чтобы обойти башню Газо, видеть которую было свыше моих сил. Солнце садилось в серой пелене, когда мы очутились у опускной решетки Рош-Мопра. Решетка была сломана, мост не поднимался; по нему проходили ныне только мирные стада, охраняемые беспечными пастухами. Рвы наполовину засыпало, вода оставалась лишь на самом дне, и над ней уже раскинули свои гибкие ветви синеватые ивняки; у подножия разрушенных башен выросла крапива, но следы пожара на стенах казались совсем свежими. На ферме все было отстроено заново; во дворе полно было скота, птицы, бегали ребятишки, овчарки, громоздились земледельческие орудия. И всему этому так не соответствовали угрюмые развалины, где, чудилось мне, еще вздымается ввысь багровое пламя осады и струится черная кровь Мопра.
Меня приняли без всякой угодливости, с тем невозмутимым и безразличным радушием, какое свойственно беррийским крестьянам. Устроили же меня так, чтобы я ни в чем не нуждался. Я поместился в старом здании, единственном из всех, что уцелело при осаде главной башни и устояло перед разрушительным действием времени. Тяжеловесная архитектура этого флигеля восходила к десятому веку; двери были меньше окон, окна же давали так мало света, что в доме пришлось зажечь факелы, хотя солнце едва только успело зайти. Флигель был кое-как приведен в порядок, чтобы служить пристанищем для нового владельца или его приказчиков. Озабоченный моими делами, дядя Юбер, пока позволяли силы, частенько наведывался в Рош-Мопра, и теперь меня проводили в комнату, которую он отвел для себя; ее называли хозяйской. В эту комнату перенесли все лучшее, что удалось спасти из прежней обстановки; но, вопреки всем стараниям сделать ее пригодной для жилья, комната оставалась холодной и сырой, поэтому служанка арендатора, шествовавшая впереди меня, несла в одной руке головешку, а в другой вязанку хвороста.
Дым от головешки застил мне глаза; вместо прежнего входа пробили новый в другом конце дома, лишние коридоры были замурованы, – все сбивало меня с толку, все стало неузнаваемо. Наконец я добрался до отведенной мне комнаты. Я не мог бы даже сказать, в какое из старых замковых зданий я попал – так не похож был двор на тот, что запомнился мне, так мало я был способен в этом мрачном, смятенном состоянии духа воспринимать окружающее.
Служанка зажгла огонь; опустившись на стул и закрыв лицо руками, я предался грустным размышлениям. И все же мое пребывание в старом доме не лишено было своей прелести, ибо в воображении юношей – самонадеянных властителей будущего – прошедшее обычно предстает в более привлекательном и радужном свете. Тщетно пытаясь растопить камин, служанка густо надымила в комнате и вышла раздобыть уголька. Я остался один. Маркас хлопотал на конюшне около лошадей. Барсук был возле меня; улегшись перед камином, он то и дело недовольно на меня поглядывал, словно спрашивая, почему мы выбрали для ночлега такое неуютное место, где к тому же так плохо топят.
Я обвел глазами комнату, и воспоминания вдруг словно ожили в моей памяти. Сырые дрова, потрескивая в очаге, наконец разгорелись, и яркое пламя озарило все вокруг; в его колеблющемся свете все предметы приняли странные, искаженные очертания. Барсук встал, повернулся к огню спиною и улегся у меня между ног, словно ожидая чего-то необычайного, неожиданного.
Тут я догадался, что комната эта не что иное, как спальня моего деда Тристана, которую после его смерти в течение многих лет занимал его старший сын – ненавистный мне дядя Жан, самый свирепый из моих угнетателей, самый пронырливый и подлый из всех Душегубов. Отвращение и страх охватили мою душу, когда я узнал обстановку, даже кровать с витыми колонками, на которой мой дед, в мучениях медленной агонии, отдал богу свою преступную душу. И кресло, в котором я расположился, было то самое, где сиживал в былые дни Хромуша, как любил, паясничая, называть себя Жан, где обдумывал он свои злодеяния, отдавал свои гнусные распоряжения. В эту минуту мне почудилось, будто мимо меня проходят чередой призраки всех Мопра с окровавленными руками и затуманенным винными парами взором. Я встал и, охваченный непобедимым страхом, хотел бежать; но тут передо мною внезапно возникло видение столь отчетливое, столь знакомое, столь непохожее по всем живым приметам на призраков, обступивших меня за минуту до того, что я упал обратно в кресло, обливаясь холодным потом. Прямо перед кроватью стоял Жан Мопра. Он только что поднялся со своего ложа, ибо еще придерживал рукою приподнятый полог. Жан был все тот же, только стал еще костлявей, бледнее и отвратительней; голова у него была выбрита, тело закутано в какую-то темную хламиду. Он бросил на меня дьявольский взгляд; по его тонким, увядшим губам скользнула ненавидящая, презрительная усмешка. Жан так и застыл, пронизывая меня сверкающим взором. Казалось, он вот-вот заговорит. Я был убежден в ту минуту, что предо мною живое существо из плоти и крови. И все же, хотите верьте, хотите нет, я оледенел, охваченный ребяческим страхом. Не стану это отрицать, хотя позже я и сам никак не мог найти объяснение своему малодушию. Жан не сводил с меня взгляда. Я оцепенел; ужас сковал мои члены, язык онемел. Барсук набросился на пришельца. Тот колыхнул складками своего мрачного одеяния, похожего на позеленевший от могильной сырости саван, и я потерял сознание.
Когда я очнулся, надо мною, пытаясь меня поднять, хлопотал встревоженный Маркас. Я был распростерт на полу и недвижен, как труп. С трудом опомнившись, я вскочил на ноги, вцепился в Маркаса и кинулся вон из проклятой комнаты, таща его за собой. Спотыкаясь и чуть не падая, сбежал я стремглав по винтовой лесенке, и только когда очутился во дворе, вечерний воздух и здоровый запах хлева привели меня в чувство.
Я безоговорочно приписал все происшедшее игре моего расстроенного воображения. Храбрость свою я доказал на войне, и бравый сержант был тому свидетель. Поэтому я не краснея открыл ему всю правду. Я откровенно отвечал на его вопросы и обрисовал страшное видение в таких подробностях, что Маркас был потрясен, словно сам увидел его наяву. Шагая со мной по двору, он несколько раз задумчиво повторил:
– Странно! Странно!.. Удивительно…
– Ничего удивительного, – возразил я, окончательно приходя в себя. – У меня все время душа не лежала к этой поездке. Оказавшись в Рош-Мопра, я испытал донельзя тягостное чувство. Прошлой ночью меня преследовали зловещие сны, а проснувшись, я ощутил такую усталость и тоску, что, если б не боялся ослушаться дяди, снова отложил бы это неприятное посещение. Только я вошел в дом, холод пронизал меня, какая-то тяжесть легла на грудь, дыхание сперло. Может быть, я угорел – там был такой дым; не мудрено, что у меня помутилось в голове. И что тут удивительного, если после всех невзгод и треволнений нашего злополучного плавания, от которых мы с тобой едва успели оправиться, мои расстроенные нервы не выдержали столь тягостного впечатления?
– Скажите-ка, – все так же задумчиво перебил меня Маркас, – вы не заметили, как вел себя при этом Барсук? Что он делал?
– Кажется, набросился на привидение, да только оно тут же исчезло; впрочем, может быть, и это мне только померещилось.
– Гм… – сказал сержант. – Я вошел – Барсук был как в лихорадке: то подбежит к вам, то обнюхает пол, то вдруг заскулит и кинется к постели, то начнет стену скрести, кинется ко мне, опять к вам. Странно!.. Удивительно, капитан, просто удивительно!..
Помолчав, Маркас покачал головой и воскликнул:
– Не привидение! Нет! Какое тут привидение! Умер? Жан? Ну нет! Еще двое Мопра! Почем знать? Но где, черт возьми? Не привидение, нет! Капитан рехнулся? Никогда! Болен? Нет!..
Выпалив все это, сержант раздобыл огня, вынул из ножен свою незаменимую шпагу, свистнул Барсука и, предложив мне остаться внизу, отважно ухватился за веревку, заменявшую лестничные перила. Как ни тошно мне было возвращаться в эту комнату, я, вопреки настояниям Маркаса, не колеблясь, последовал за ним; первым делом мы осмотрели кровать; но пока мы беседовали во дворе, служанка уже постелила свежие простыни и оправила одеяло.
– Кто же это здесь спал? – с обычной осторожностью спросил у нее Маркас.
– Да никто, кроме господина Юбера или господина аббата, когда они к нам наезжали.
– А сегодня или, к примеру, вчера? – продолжал допытываться Маркас.
– Да ни вчера, ни сегодня никого, сударь, не было. Господин Юбер уж года два как не приезжает, а что до господина аббата, так с той поры, что они бывают здесь одни, они никогда и не ночуют. Утром приедут, с нами пополдничают, а вечером и восвояси.
– Но постель-то была разобрана, – пристально глядя на служанку, допытывался Маркас.
– Ну и что же, сударь! – отвечала та. – Оно, может, и так; уж не знаю, застилала я ее, нет ли с того раза, как спали на ней; я, как простыни меняла, и внимания не обратила, видела только, что плащ господина Бернара сверху лежал.
– Плащ? – воскликнул я. – Да я его на конюшне оставил!..
– И я тоже, – добавил Маркас. – Скатал их вместе, да и сунул на ларь с овсом.
– Так их, стало быть, два? – подхватила служанка. – А то я ведь как пить дать один с кровати сняла: такой черный, поношенный!..
Мой плащ был на красной подкладке и обшит золотым галуном. Плащ Маркаса – светло-серый. Значит, это не мог быть ни тот, ни другой, даже если бы слуге и вздумалось вдруг принести какой-нибудь из наших плащей и затем унести обратно на конюшню.
– Куда же вы девали этот плащ? – спросил сержант.
– Право слово, сударь, я положила его тут вот, на кресле, – ответила служанка. – Да вы его, верно, убрали, пока я за свечой ходила? Что-то я его не вижу.
Мы обшарили всю комнату – плаща нигде не было. Мы сделали вид, что плащ этот – наш и крайне нам нужен. Служанка снова разобрала постель, при нас перевернула тюфяки, спросила слугу, куда он девал плащ. Ни в постели, ни в комнате плаща не оказалось, слуга же и вовсе не подымался наверх. На ферме начался переполох. Все опасались обвинения в краже. Мы стали расспрашивать, не было ли, да и нет ли здесь сейчас посторонних. Убедившись, что эти славные люди никого к себе в дом не впускали и вообще не видели ни души, мы успокоили их насчет пропавшего плаща, заявив, что Маркас нечаянно свернул его и спрятал вместе с двумя другими; затем мы с сержантом заперлись в комнате, чтобы осмотреть ее без помехи. Не оставалось сомнений, что если призрак, меня напугавший, и не Жан Мопра собственной персоной, то это был кто-то весьма на него похожий.
Маркас стал науськивать Барсука и за ним наблюдать.
– Будьте спокойны, – горделиво заявил он, – старина Барсук не забыл своего ремесла: ежели только есть там малейшая щель, хоть в ладонь шириной, уж вы не сомневайтесь!.. Возьми, возьми его, Барсук! Уж вы не сомневайтесь!..
Пес, обнюхав все углы, упорно продолжал скрести стену в том углу, где мне померещился призрак. Всякий раз, как острая собачья мордочка натыкалась на одно определенное место в стене, пес вздрагивал. Потом, с довольным видом, виляя пушистым хвостом, он возвращался к хозяину, словно стараясь привлечь его внимание к этому месту. Сержант стал разглядывать деревянную обшивку стены, пытаясь нащупать в ней какую-нибудь щель и просунуть туда шпагу; щели не оказалось. Тем не менее здесь могла находиться потайная дверь, ибо за резным орнаментом деревянной обшивки легко было скрыть искусно сделанную кулису. Надо было найти пружину, приводящую эту кулису в действие; хоть мы и бились целых два часа над тем, чтобы разыскать пружину, это нам не удалось. Напрасно выстукивали мы панель: она издавала в этом месте такой же звук, как и в прочих; правда, звук этот не был глухим, но это показывало лишь, что деревянная обшивка нигде не примыкала вплотную к каменной кладке; однако зазор между ними мог не превышать и нескольких десятых дюйма. Обливаясь потом, Маркас прекратил наконец поиски, говоря:
– Мы, видно, рехнулись! Раз нет тут этой пружины, ищи хоть до завтра, все равно не найдешь; если же дверь запирается с наружной стороны на железные засовы, да еще весьма основательные, как это бывает в старинных замках, нам не вышибить ее и топором.
– Будь здесь потайной ход, мы бы его обнаружили, пустив в дело топор. Но почему ты так твердо убежден в том, что Жан Мопра или кто-то другой, похожий на него, не мог войти и выйти прямо через дверь? Нельзя же утверждать это лишь на том основании, что твоя собака скребет стенку в этом месте!
– Войти он мог сколько угодно, – возразил Маркас, – но выйти?.. Клянусь честью, нет!.. Ведь было так: служанка спускается, я чищу на лестнице башмаки, слышу – что-то там наверху падает. Я сразу туда, мигом, через три ступеньки, и готово дело – я тут как тут, с вами; вы на полу замертво, ну совсем больной. В комнате – никого, за дверью – никого, честью клянусь!
– В таком случае все это нам померещилось: мне – злополучный дядя Жан, а служанке – черный плащ; ведь потайного хода тут наверняка нету. Да если бы и был? И если бы даже все Мопра, живые и мертвые, имели от него ключ, нам-то что с того? Сыщики мы, что ли? Наше ли дело следить за этими негодяями? Да найди мы их где-нибудь тут, разве мы не помогли бы им бежать? Разве предали бы их в руки закона? Оружие у нас есть – нам нечего бояться, что они нас этой ночью укокошат! А вздумают они шутки ради нас припугнуть – честное слово, им несдобровать! Ежели меня неосторожно разбудить, я ни своих, ни чужих не разбираю! Давай-ка лучше закажем яичницу добрым людям, которые здесь живут. Если же мы будем без конца выстукивать стенки да скрести панели, они решат, что мы не в своем уме.
Маркас сдался, движимый скорее послушанием, нежели сознанием моей правоты. Затрудняюсь сказать, придавал ли он особое значение раскрытию этой тайны, терзало ли его беспокойство, но он не пожелал оставить меня одного в заколдованной комнате. Он сослался на то, что мне снова может сделаться дурно и у меня начнется припадок.
– Ну, на этот раз я не струшу! – заявил я. – Плащ меня излечил: больше никаких привидений не испугаюсь! И задирать меня никому не советую.
Идальго вынужден был оставить меня одного. Я зарядил пистолеты и положил их перед собою на стол, но это была излишняя предосторожность: ничто не нарушало тишину комнаты, и тяжелый полог из красного шелка с потемневшими серебряными гербами, вышитыми по углам, ни разу не колыхнулся. Маркас возвратился и, радуясь, что нашел меня в добром здравии, стал готовить ужин с таким усердием, словно мы прибыли в Рош-Мопра с единственным намерением славно закусить. Идальго шутил, будто каплун продолжает и на вертеле кричать «кукареку», а вино дерет горло, словно щетка. Маркас повеселел еще больше, когда арендатор принес несколько бутылок превосходной мадеры, оставленной у него в свое время господином Юбером, любившим, перед тем как сесть на коня, пропустить стаканчик-другой. В благодарность за вино мы пригласили почтенного арендатора отужинать с нами, чтобы не так скучно было говорить о делах.
– В час добрый, – сказал тот. – Оно, значит, как прежде: мужики в Рош-Мопра за одним столом с сеньорами едали. Хорошо, господин Бернар, что и вы так поступаете.
– Вы правы, сударь, – весьма холодно ответил я. – Поступаю так же, но не с теми, кому задолжал я, а с теми, кто задолжал мне.
Услыхав такой ответ и обращение «сударь», арендатор до того оробел, что я с трудом уговорил его сесть за стол; но я настоял на своем, желая сразу же дать ему почувствовать, с кем он имеет дело. Я обращался с ним так, словно возвышаю его до себя и ничуть не собираюсь снизойти до него. Он вынужден был и в шутках сохранять пристойность и балагурить в рамках приличия. Арендатор был человек веселый и простосердечный. Я внимательно к нему приглядывался, пытаясь разгадать, не сообщник ли он привидения, которое бросает где попало на кроватях свой плащ; но это представлялось совершенно невероятным: в глубине души арендатор затаил отвращение к Душегубам и если б не уважал мои родственные чувства, то с большим удовольствием ругал бы их так, как они того, заслуживали. Не желая допускать с его стороны никаких вольностей на этот счет, я предложил ему отчитаться в делах; он сделал это толково, точно и добросовестно.
Когда арендатор уходил, я заметил, что мадера на него сильно подействовала: ноги его не держали, он выписывал кренделя, но все же соображал достаточно, чтобы дельно рассуждать. Я не раз замечал, что крестьянину вино ударяет не в голову, а в ноги и поражает не мозг, а мускулы. Подвыпивший крестьянин завирается редко; крепкое винцо повергает его в состояние неведомого нам блаженства, превращая для него опьянение в удовольствие, весьма отличное от того, какое испытываем мы, и гораздо более заманчивое, нежели наше лихорадочное возбуждение.
Опьянеть мы не опьянели, но, оставшись с Маркасом наедине, сразу же заметили, что благодаря вину стали куда беззаботней и веселей. Если бы не вино, не будь даже происшествия с привидением, мы вряд ли чувствовали бы себя в Рош-Мопра столь безмятежно. Привыкнув говорить друг с другом начистоту, мы по зрелом размышлении пришли к выводу, что все оборотни Варенны, вместе взятые, страшат нас сейчас гораздо меньше, нежели до ужина.
Слово «оборотень» напомнило мне о приключении, которым ознаменовалось малоприятное для меня знакомство с Пасьянсом в ту пору, когда мне исполнилось тринадцать лет. Маркас, наслышанный уже об этом приключении, не знал, однако, какого я тогда был нрава. Забавы ради я рассказал ему, как меня выпорол колдун и как я потом не помня себя носился по полям.
– Думается мне, – добавил я в заключение, – что при столь пылком воображении, как мое, все сверхъестественное невольно наводит страх. Так что давешнее привидение…
– Пустяки, пустяки, – возразил Маркас, проверяя, заряжены ли пистолеты, и кладя их на мой ночной столик. – Не забывайте, что кое-кто из Душегубов остался жив; если Жан не отправился еще на тот свет, он будет пакостить, пока его не придавит могильная плита и сам черт не упрячет его у себя за тремя замками.
Вино развязало идальго язык; в тех редких случаях, когда он разрешал себе изменить привычному воздержанию, обнаруживалось, что он не лишен остроумия. Маркас не захотел меня оставить и постелил себе рядом со мною. Нервы мои были взвинчены всем пережитым. Я разоткровенничался и заговорил об Эдме; впрочем, если б она и слышала то, что я говорю, ей не в чем было бы меня упрекнуть. И все же я не должен был позволять себе подобной откровенности с моим подчиненным, который еще не был в ту пору моим другом, хотя и стал им позднее. В точности не припомню, что я поведал Маркасу о моих печалях, надеждах и тревогах, во всяком случае, признания мои, как вы увидите из дальнейшего, имели ужасающие последствия.
Так, болтая, мы оба и заснули; в ногах у Маркаса лежал Барсук, на коленях – шпага, у меня же под рукою – пистолеты, под подушкой – охотничий нож; лампу мы поставили рядом с собою, двери заперли на все засовы. Ничто не нарушило наш покой. Разбудило нас солнце; на дворе весело пели петухи, а под нашими окнами, приторачивая ярмо, грубовато зубоскалили вологоны. [55]55
Вологоны ремнями приторачивают ярмо к рогам рабочих волов, которые идут в упряжке парой.
[Закрыть]
– Нет, тут что-то неладно!
С этими словами Маркас открыл глаза, словно продолжая прерванный вечером разговор.
– Ты разве что-нибудь видел или слышал этой ночью? – спросил его я.
– Ровно ничего, но это неважно: Барсук метался во сне, шпага моя валяется на полу; а ведь так-таки ничего и не разъяснилось. Что же это было?..
– Ну, и выясняй кому охота, а с меня довольно!
– Зря, зря вы так говорите!
– Может статься, милый сержант; но мне вовсе не нравится эта комната, а при свете дня она такая безобразная, что хочется убраться подальше и глотнуть свежего воздуха.
– Ну что ж, я пойду с вами, но еще вернусь! Не хочу все это так оставить. Я-то знаю, на что Жан Мопра способен, а вам и невдомек!
– А я и знать не желаю! Если мне или кому-либо из моих близких грозит опасность, значит возвращаться тебе сюда ни к чему!
Маркас покачал головой и ничего не ответил. Перед отъездом мы снова прошлись по имению. Маркаса очень поразила одна мелочь, на которую я не обратил внимания. Арендатор захотел познакомить меня со своей женой, но та наотрез отказалась и убежала в конопляник. Я приписал это застенчивости деревенской молодухи.
– Вот так молодуха! – возразил Маркас. – Молодухе-то, как и мне, пятьдесят стукнуло. Нет, неспроста это, неспроста, уж я вам говорю!
– Да что здесь, черт побери, может быть?
– Гм… В свое время арендаторша была накоротке с Жаном Мопра. Хромуша пришелся ей по вкусу. Я-то знаю, я много чего знаю, уж будьте уверены!..
– Ты мне обо всем расскажешь, когда мы сюда вернемся. Но случится это не скоро: тут без меня дела идут куда лучше. Да и не хотелось бы мне, пугаясь собственной тени, пристраститься к мадере. Ты очень меня обяжешь, Маркас, если будешь молчать об этих ночных страхах. Не все питают к твоему капитану такое же уважение, как ты.
– Только болван может не питать уважения к моему капитану! – назидательным тоном возразил идальго. – Впрочем, слушаюсь ваших приказаний: молчу.
Маркас сдержал слово. Ни за что на свете не хотел я смущать воображение Эдме этим нелепым происшествием. Но помешать Маркасу осуществить его замысел я не смог; на следующее же утро он исчез, а от Пасьянса я знал, что Маркас возвратился в Рош-Мопра под предлогом, будто позабыл там какую-то вещь.








