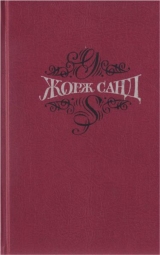
Текст книги "Собрание сочинений. Т.4. Мопра. Ускок"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
Как вы можете себе представить, поклонение, которым была окружена кузина, разожгло дремавшую в моей груди ревность. В свое время я, повинуясь приказанию Эдме, стал усердно учиться. Трудно сказать, осмеливался ли я тогда верить, что она сдержит обещание и станет моей женой, когда я научусь понимать ее мысли и чувствования. Как бы то ни было, это время, на мой взгляд, уже наступило, ибо, конечно, я понимал Эдме лучше любого из поклонников, превозносивших ее в прозе и стихах. И хотя я твердо решил, что не воспользуюсь правом, которое давала мне клятва, насильно вырванная у нее в Рош-Мопра, ее недавнее обещание, добровольно повторенное мне у окна часовни, те выводы, какие я вправе был сделать из ее беседы с аббатом, случайно подслушанной мною в парке Сент-Севэра, ее настойчивое стремление удержать меня близ себя и руководить моим воспитанием, материнская забота, какою она окружала меня во время болезни, – разве все это не давало справедливых оснований надеяться? Правда, стоило мне словом или взглядом выдать свою страсть, и сердечность ее сменялась ледяной холодностью; правда и то, что за все время я ни на шаг не продвинулся вперед, равно как и то, что де ла Марш был частым гостем у нас в доме, а Эдме относилась к нему столь же дружественно, как и ко мне, и если держалась менее просто, чем со мною, зато оказывала ему больше уважения – оттенок, вполне объяснимый различием в наших с ним характерах и возрасте, но отнюдь не являвшийся доказательством ее предпочтения одному из нас. Итак, я мог думать, что свое обещание она дала, повинуясь велению совести; усердие, с каким она занималась моим образованием, я мог объяснить ее верой в достоинство человека, чьи права отныне восстановлены были философией, а спокойную и прочную привязанность Эдме к де ла Маршу – глубоким сожалением, которое она умела не выказывать благодаря своей стойкости и благоразумию. Мучительное недоумение владело мною. Долгое время я питал надежду завоевать ее любовь смирением и преданностью, но и эта надежда постепенно угасла. По всеобщему признанию, я добился успехов незаурядных, проявил усердие необычайное; но был еще очень далеко от того, чтобы в той же мере завоевать уважение Эдме. Ее, казалось, ничуть не удивляла моя, как она выражалась, «необыкновенная сообразительность»; Эдме никогда в ней не сомневалась и неизменно восхваляла ее больше, чем следовало. Но она ни на минуту не закрывала глаза на дурные стороны моего характера, на мои пороки. Она попрекала меня ими с безжалостной кротостью, с терпеливостью, доводившей меня до отчаяния, ибо, по-видимому, она твердо решила, что бы ни случилось, любить меня ничуть не больше и не меньше, нежели до сих пор.
Между тем все за нею увивались, она же никого не удостаивала своей благосклонностью. В свете толковали, что она обещана де ла Маршу, но, так же как и я, никто не понимал, почему она без конца откладывает этот брак. Стали поговаривать, что Эдме ищет предлог отделаться от жениха, и нашли тому лишь одно объяснение: она якобы питает страстную любовь ко мне. Моя удивительная история наделала много шума. Женщины поглядывали на меня с любопытством, мужчины выказывали почтительный интерес, к которому я был довольно чувствителен, хотя и делал вид, что пренебрегаю им. В свете, где верят только в то, что приукрашено вымыслом, необычайно преувеличивали мой ум, способности и знания. Стоило, однако, кому-нибудь увидеть нас вместе – де ла Марша, меня и Эдме, – как наше хладнокровие и непринужденность развеивали в прах любые измышления. Эдме на людях держала себя с нами столь же просто, как всегда; де ла Марш казался бездушным манекеном, превосходно усвоившим светские манеры; я же, раздираемый противоречивыми страстями, был непроницаем, отчасти из высокомерия, отчасти – должен в этом признаться – из-за моих потуг подражать независимым американским повадкам. Надо вам сказать, что в качестве искреннего поборника свободы я имел счастье быть представленным Франклину. Меня удостоил своей благосклонностью и превосходными наставлениями сэр Артур Ли; [40]40
Артур Ли(1740–1792) – американский дипломат, был в составе посольства Франклина при французском дворе.
[Закрыть]все это вскружило мне голову, и я слишком возомнил о себе, как и те, кого я столь жестоко высмеивал; надо сказать, что мелкое тщеславие было во мне удовлетворено, и это принесло мне то облегчение, какого я жаждал. Вы, наверно, пожмете плечами, когда я признаюсь вам, что испытывал величайшее удовольствие, разрешая себе не пудрить волосы, носить грубые башмаки, появляться повсюду в самой что ни на есть простой, сугубо опрятной, темной одежде, словом, подражая, как обезьяна, в одежде и повадках Простаку Ричарду, [41]41
Простак Ричард– персонаж книги Франклина «Наука простака Ричарда» (1732), в которой с просветительских позиций изложены основы поведения и морали «идеального гражданина».
[Закрыть]насколько это было возможно без опасения уподобиться подлинному простолюдину. Мне было девятнадцать лет, и я жил в такое время, когда каждый кому-то подражал; в этом мое единственное оправдание.
Я мог бы сослаться и на то, что мой слишком снисходительный и слишком простодушный воспитатель откровенно меня поощрял, что дядя Юбер, хотя подчас и посмеивался надо мною, смотрел на все сквозь пальцы, а Эдме ни слова мне не говорила, будто не замечая, как я смешон.
Тем временем снова наступила весна, салоны обезлюдели, пора было возвращаться в деревню, а я все еще был в неведении относительно своей участи. Как-то раз де ла Марш невольно себя выдал, обнаружив желание остаться наедине с Эдме. Я заметил это, но словно прирос к стулу: я испытывал наслаждение, терзая соперника. Но тут мне показалось, что на лбу у Эдме залегла так хорошо знакомая мне легкая морщинка; во мне происходила безмолвная борьба, и наконец я вышел из комнаты, решив посмотреть, к чему приведет ее беседа с глазу на глаз с женихом; я должен был знать свою участь, какова бы она ни была.
Через час я вернулся в гостиную. Дядя уже пришел. Де ла Марш остался к обеду. Эдме была задумчива, но не грустна. Аббат кидал на нее вопросительные взгляды, но она не понимала либо не желала их понимать.
Дядя вместе с де ла Маршем отправился во Французскую Комедию, Эдме попросила разрешения остаться дома, сославшись на то, что должна кое-что написать. Я последовал за графом и дядей, но после первого действия ускользнул из театра и вернулся домой. Эдме распорядилась никого не принимать, но я полагал, что этот запрет на меня не простирается; слуги находили мое поведение вполне естественным для члена семьи. Я вошел в гостиную, трепеща при мысли, что Эдме может оказаться у себя в комнате: проникнуть туда я бы не посмел. Эдме сидела у камина, в задумчивости ощипывая голубые и белые астры, сорванные мною на могиле Жан-Жака Руссо. Цветы напомнили мне ту упоительную ночь и лунный свет – может быть, единственные счастливые минуты, о которых стоило вспоминать.
– Уже вернулись? – спросила Эдме, не меняя позы.
– Уже? Как сурово это звучит, – ответил я. – Вы хотите, чтобы я ушел к себе?
– Нет, зачем же, вы мне ничуть не мешаете; но вы извлекли бы больше пользы от представления «Меропы», [42]42
«Меропа»(1743) – просветительская трагедия Вольтера.
[Закрыть]нежели из моей сегодняшней болтовни; предупреждаю – я совсем поглупела.
– Вот и хорошо! Я хоть раз не буду чувствовать вашего превосходства, мы впервые будем на равной ноге. Но скажите на милость, почему вы столь пренебрежительно обращаетесь с моими астрами? А я-то думал, что вы сохраните их как святыню.
– Из-за Руссо? – спросила она, лукаво улыбаясь и не поднимая на меня глаз.
– О, разумеется! Только поэтому! – подтвердил я.
– Я играю в очень интересную игру, – сказала она, – не мешайте.
– Знаю, – сказал я, – все вареннские ребятишки в нее играют, и каждая пастушка у нас верит, что так можно узнать свою судьбу. Хотите, я скажу, о чем вы думали, обрывая лепестки?
– Вы прорицатель? Что ж, говорите!
– Немножко– так вас любит некто; очень– так его любите вы; страстнолюбит вас другой; и вовсе нет– вот как любите вы этого другого.
– А позволено ли будет узнать, господин вещун, – возразила Эдме, и лицо ее стало более серьезным, – что означают эти нектои другой? Боюсь, что вы похожи на древнюю пифию: сами не понимаете смысла того, что вещаете.
– Может быть, вы это разгадаете, Эдме?
– Попытаюсь, если вы обещаете мне, что поступите тогда как сфинкс, побежденный Эдипом. [43]43
Согласно древнегреческому мифу, сфинкс, бросился в море, после того как Эдип разгадал его загадку.
[Закрыть]
– О Эдме, – воскликнул я, – давно уже я бьюсь головой о стенку из-за вас и ваших разгадок! А вы ведь ни разу правильно не угадали!
– А вот и угадала! – сказала она и швырнула букет на камин. – Сейчас сами увидите: господина де ла Марша я люблю немножко, а вас очень. Он любит меня страстно, а вы не любите вовсе. Такова правда!
– Недобрая вы отгадчица! Но от всего сердца прощаю вам это за слово «очень», – ответил я.
Я попытался завладеть ее руками; она резко отдернула их, и напрасно: если б она не сопротивлялась, я ограничился бы братским пожатием, недоверие же пробудило во мне опасные воспоминания. Думается, что в тот вечер в ней самой, в ее манере держаться была немалая доля кокетства, а до того я не замечал у нее и намека на что-либо подобное. Сам не знаю отчего, я осмелел и отважился на колкие замечания по поводу ее беседы наедине с де ла Маршем. Нисколько не стараясь отвергнуть мои догадки, Эдме расхохоталась, когда я попросил ее отблагодарить меня за то, что я был так необыкновенно учтив и удалился, заметив ее нахмуренные брови.
Такое ни с чем не сравнимое легкомыслие начинало меня немного раздражать, но тут вошел слуга; он вручил кузине письмо и сказал, что посыльный ждет ответа.
– Придвиньте стол и очините перо, – обратилась ко мне Эдме.
Она с беспечным видом распечатала и пробежала глазами письмо, я же, не подозревая, о чем там шла речь, приготовил все необходимое для ответа.
Воронье перо давно уже было очинено, бумага с цветными виньетками давно вынута из надушенного амброй бювара, а Эдме, не обращая на это внимания, и не прикоснулась к ней. Она замерла в своей излюбленной мечтательной позе, держа распечатанное письмо на коленях. Положив ноги на каминную решетку, локти – на ручки кресла, она погрузилась в глубокую задумчивость. Я тихонько окликнул ее, она не услышала. Я подумал, что она уснула, позабыв о письме. Спустя четверть часа слуга вернулся и сказал, что посыльный спрашивает, будет ли ответ.
– Конечно, – ответила Эдме, – пусть подождет.
Она чрезвычайно внимательно перечла письмо и медленно стала писать; потом швырнула листок в огонь, оттолкнула кресло ногой, прошлась несколько раз по комнате и, внезапно остановившись прямо передо мной, сурово и холодно на меня поглядела.
– Эдме! – воскликнул я, стремительно вставая. – Что с вами? Какое отношение имеет ко мне это письмо? Оно вас так взволновало!
– А вам-то что? – ответила она.
– Мне! – воскликнул я. – А что мне воздух, которым я дышу? Что мне кровь, текущая в моих жилах? Уж лучше спросите об этом, но не спрашивайте, что значит для меня одно ваше слово, один ваш взгляд! Ведь в них вся моя жизнь, и вы это знаете!
– Не говорите глупостей, Бернар, – возразила она рассеянно, возвращаясь и садясь в кресло, – всему свое время.
– Эдме, Эдме! Не тревожьте уснувшего льва, не раздувайте пламя, что тлеет под пеплом!
Она пожала плечами и с живостью принялась писать. Щеки ее порозовели; временами она погружала пальцы в свои длинные локоны, свободно, «как у кающейся грешницы», ниспадавшие на плечи. Небрежность этой прически делала Эдме соблазнительно-прекрасной; можно было подумать, что она влюблена. Но в кого? Без сомнения, в того, кому писала. Жгучая ревность терзала меня. Я стремительно направился в прихожую и взглянул на человека, принесшего письмо: на нем была ливрея, какую носили слуги де ла Марша. В этом я и не сомневался, но обретенная уверенность распалила мою ярость. Я вернулся в гостиную, сильно хлопнув дверью, Эдме продолжала писать и даже не оглянулась. Я уселся прямо перед ней, бросая на нее испепеляющие взгляды. Она не удостоила меня вниманием. Мне почудилось даже, что на ее алых губах мелькнула легкая улыбка; я терзался, эту улыбку я воспринял как оскорбление. Окончив наконец письмо, она запечатала его. Тогда я вскочил и подошел к ней, охваченный неистовым искушением вырвать конверт у нее из рук. Я научился несколько лучше владеть собою, но у людей страстных – я это чувствовал – единый миг может свести на нет плоды неусыпных трудов.
– Эдме, – сказал я с горечью, и болезненная гримаса, долженствующая изобразить ядовитую усмешку, исказила мое лицо. – Может быть, прикажете вручить это письмо слуге господина де ла Марша. Хотите, я шепну ему на ушко, когда граф должен явиться на свидание?
– Но мне кажется, – заметила она, сохраняя спокойствие, которое приводило меня в отчаяние, – что я сама могу указать этот час в письме; вам незачем сообщать об этом слугам.
– Да пощадите же меня хоть немного, Эдме! – воскликнул я.
– Ничуть не собираюсь, – ответила она и, швырнув на стол полученное письмо, вышла, чтобы лично вручить посланцу свой ответ. Не знаю, рассчитывала ли она, что я прочту это послание. Знаю лишь, что устоять против искушения я не мог. Содержание письма было примерно таково:
«Эдме, наконец-то мне открылась роковая тайна, воздвигнувшая между нами непреодолимую, по вашим словам, преграду. Бернар любит вас: его волнение нынче утром выдало его. Но вы его не любите, я уверен… не может этого быть!.. Вы бы сказали мне обо всем откровенно. Итак, препятствие не в этом! Простите! Я случайно узнал, что вы два часа провели в разбойничьем вертепе. Бедная моя! Несчастье ваше, благоразумная ваша осторожность, редкостная щепетильность еще более возвышают вас в моих глазах! Да почему же вы с самого начала не сказали мне, какая с вами стряслась беда? Одним своим словом облегчил бы я ваши и свои страдания! Я помог бы вам скрыть эту тайну! Я оплакивал бы ваши муки вместе с вами или, более того, свидетельствуя привязанность, способную устоять перед любым испытанием, стер бы из вашей памяти ненавистное воспоминание! Но все еще поправимо; это слово – никогда не поздно его произнести – вот оно: Эдме, я люблю вас сильнее, нежели когда-либо; моя решимость предложить вам свое имя тверже, нежели когда-либо, соблаговолите же принять его».
Внизу стояла подпись: Адемар де ла Марш.
Не успел я прочитать эти строки, как вернулась Эдме. Она в беспокойстве подбежала к камину, словно позабыла там какую-то драгоценность. Я протянул ей только что прочитанное письмо, она взяла его с рассеянным видом и, склонившись над камином, обрадованная, поспешно выхватила из огня едва тронутый пламенем, скомканный листок бумаги. То был ее первый ответ на записку господина де ла Марша, тот самый, который она не сочла возможным послать.
– Эдме! – сказал я, бросаясь к ее ногам. – Дайте же мне взглянуть на этот листок! Каков бы ни был приговор, подсказанный первым вашим побуждением, я ему повинуюсь!
– Это правда? – спросила она с непостижимым выражением. – Вы повинуетесь? Но если я люблю господина де ла Марша, если, отказывая ему, я приношу вам великую жертву, хватит ли у вас великодушия вернуть мне слово?
Минутное колебание овладело мною; обливаясь холодным потом, я пристально на нее взглянул: что у нее на уме? Непроницаемый взор Эдме не выдал затаенную мысль. Если бы я думал, что она меня любит и только испытывает мою добродетель, я, возможно, разыграл бы из себя героя; но я опасался западни; страсть одержала верх. Я не чувствовал в себе сил добровольно отказаться от Эдме, а лицемерие было мне отвратительно. Я вскочил, дрожа от гнева.
– Вы любите его! – воскликнул я. – Признайтесь же, что вы его любите!
– А если и так? – ответила она, пряча свое письмо в карман. – Что тут преступного?
– А то, что, значит, вы лгали мне до сих пор, отрицая это!
– До сих пор– это чересчур сильно, – возразила она, пристально на меня глядя. – Мы с прошлого года не заговаривали с вами об этом. Возможно, что в ту пору я недостаточно любила Адемара, а теперь, может статься, люблю его больше, нежели вас. Сравнивая нынче ваше и его поведение, я вижу в вас человека, лишенного гордости и щепетильности, пользующегося обязательством, которое я дала, быть может, вопреки голосу сердца. А в нем я нахожу превосходного друга; его несравненная верность презрела всяческие предрассудки; он считает меня запятнанной неизгладимым бесчестьем, но по-прежнему настойчиво предлагает мне свое покровительство, дабы не уронить меня в глазах света.
– Как! Этот негодяй думает, что я обесчестил вас, и не вызывает меня на поединок?
– Нет, Бернар, он этого не думает, он знает, что вы помогли мне спастись из Рош-Мопра, но опасается, что вы пришли мне на помощь слишком поздно и я успела стать жертвой разбойников.
– И хочет на вас жениться, Эдме? Что ж, либо он человек подлинно высокой души, либо задолжал больше, нежели полагают.
– Молчите! – гневно воскликнула Эдме. – Надо иметь бесчувственную душу и испорченное воображение, чтобы столь гнусно истолковать этот великодушный поступок! Молчите же, если не хотите, чтоб я вас возненавидела!
– Скажите прямо, что ненавидите меня, скажите, Эдме! Не бойтесь, я и сам это знаю!
– Бояться? Мне? Много чести для вас! Так вот, отвечайте, хоть вы и не знаете, как я предполагаю поступить, но все равно: понимаете ли вы, что должны вернуть мне свободу и отказаться от своих варварских притязаний?
– Понимаю лишь одно, что люблю вас бешено и когтями растерзаю сердце всякому, кто осмелится вас у меня оспаривать. Знаю, что заставлю вас полюбить меня, а если нет, я, покуда жив, не потерплю, чтобы вы принадлежали другому! Если же кому-нибудь вздумается надеть вам на палец обручальное кольцо, ему придется перешагнуть через мой изрешеченный пулями, окровавленный труп. А когда я буду при последнем издыхании, я покрою вас позором, скажу, что вы моя любовница, и омрачу радость того, кто надо мной восторжествует. И ежели перед смертью мне удастся заколоть вас, я это сделаю, чтобы вы стали моею женой хоть в могиле! Вот как я поступлю! Ну что ж, Эдме, расставляйте сети, устраивайте ловушки! Вы тонкий политик и ловко мною вертите; вы можете стократно меня одурачить, ибо я невежда, но все ваши происки ждет один конец, я поклялся в том именем Мопра!
– Мопра Душегуба! – ответила с холодной насмешкой Эдме.
Она направилась к выходу.
Я попытался схватить ее за руку, но тут послышался звон колокольчика: это вернулся аббат. Эдме поздоровалась с ним и, не проронив ни слова, ушла к себе в комнату.
Заметив мое смятение, аббат обратился ко мне с расспросами, считая, что ему дает на это право моя признательность; но был единственный пункт, которого мы с ним ни разу не коснулись. Тщетно доискивался он причины моего волнения. Ни один урок истории не обходился у нас без того, чтобы аббат не привел мне в назидание в качестве примера воздержанности и великодушия историю любви какой-нибудь прославленной личности. Но и тут ему не удавалось вытянуть из меня ни слова. Я не мог до конца простить ему, что он когда-то повредил мне в глазах Эдме. Я догадывался, что он продолжает это делать и сейчас, и относился настороженно ко всем аргументам его философии и даже к его дружбе, как она ни прельщала меня. А в этот вечер я был и вовсе неприступен. Покинув встревоженного и опечаленного аббата, я ушел к себе и, бросившись на кровать, зарылся с головою в одеяла, чтобы заглушить давно уже клокотавшие в груди рыдания, которые одержали беспощадную победу над моею гордыней и моею яростью.
Мрачное отчаяние охватило меня на другой день. Эдме была холодна как лед, де ла Марш не появлялся. Мне показалось, что аббат ездил к нему и доложил Эдме об исходе их беседы. И кузина и аббат сохраняли, впрочем, невозмутимое спокойствие, я же молчал, снедаемый тревогой. Мне ни на минуту не удавалось остаться наедине с Эдме. Ввечеру я пешком направился к де ла Маршу. Не знаю, что я собирался ему сказать: я был в таком отчаянии, что действовал без цели и смысла. Мне ответили, что он уехал из Парижа. Я вернулся. Дядю я нашел сильно опечаленным. Завидев меня, он нахмурил брови и, натянуто поговорив со мной о каких-то пустяках, ушел; я остался с аббатом; тот пытался вызвать меня на разговор, но так же бесплодно, как и накануне. В течение нескольких дней я искал случая переговорить с Эдме, но она неизменно уклонялась. Шли приготовления к отъезду в Сент-Севэр. Эдме не выказывала ни радости, ни печали. Желая побеседовать с нею, я отважился просить ее о встрече и с этой целью засунул меж страниц ее книги записочку. Минут через пять я получил следующий ответ:
«Беседа ни к чему не приведет. Вы упорствуете в своих грубых притязаниях, я же твердо храню верность своему слову. Тот, кто не привык кривить душой, не отрекается от данного слова. Я поклялась никогда не принадлежать никому, кроме вас. Замуж я не выйду, но я не давала клятвы, презрев все, принадлежать вам. Если вы по-прежнему будете недостойны моего уважения, я найду способ сохранить свою свободу. Бедный мой отец недолговечен, и когда единственные узы, которые еще связывают меня с обществом, оборвутся, убежищем моим станет монастырь!»
Итак, я выполнил условия, поставленные Эдме, а она вместо благодарности готовилась их нарушить. Я ни на шаг не продвинулся вперед со дня ее беседы с аббатом.
Остаток дня я провел, запершись в своей комнате, и всю ночь напролет взволнованно шагал из угла в угол; уснуть я и не пытался. Не стану говорить, какие мысли бродили у меня в голове; скажу только, что порядочному человеку не пришлось бы их стыдиться. Едва забрезжило утро, я был у Лафайета. Он снабдил меня документами, необходимыми для выезда из Франции. Маркиз предложил мне ждать его в Испании, где он должен был сесть на корабль, направлявшийся в Соединенные Штаты Америки. Я вернулся домой, чтобы захватить кое-что из пожитков и самые скромные деньги, необходимые для путешествия. Дяде написал я несколько слов, прося его обо мне не беспокоиться и обещая вскоре в обстоятельном письме объяснить причины моего отъезда. Я умолял его прежде времени меня не осуждать и верить, что память о его благодеяниях будет вечно жить в моем сердце.
Ушел я, когда все в доме еще спали, ибо опасался, что при малейшем изъявлении чьих-либо дружеских чувств решимость меня покинет; я сознавал, что злоупотребляю великодушной привязанностью домашних. Но не в силах пройти равнодушно мимо дверей Эдме, я прильнул губами к замочной скважине, потом закрыл лицо руками и как сумасшедший бросился вон. Всю дорогу я ехал без передышки и остановился только по ту сторону Пиренеев. Отдохнув, я написал оттуда Эдме, что она свободна, что я не стану противиться ее решению, каково бы оно ни было, но видеть собственными глазами торжество моего соперника я не в силах. В глубине души я был уверен, что Эдме любит де ла Марша, и твердо решил задушить свою страсть. Я обещал больше, нежели способен был выполнить, но уязвленная гордость внушала мне веру в себя. Я написал также дяде, что буду почитать себя недостойным его беспредельной доброты, покуда не отличусь в сражении. Ослепленный наивным тщеславием, я посвящал его в свои надежды на военную удачу и славу и, будучи уверен, что Эдме прочтет это письмо, расписывал самый безудержный свой восторг и боевой задор, будто бы ничуть не омраченные сожалениями. Я не знал, известно ли дядюшке об истинных причинах моего отъезда, но преодолеть свою гордыню и открыться ему я был не в силах. То же испытывал я и по отношению к аббату; я послал ему, впрочем, письмо с изъявлениями признательности и самых дружеских чувств. В конце своего послания я умолял дядюшку не тратиться ради меня на злополучный замок Рош-Мопра, заверяя, что никогда не решусь там поселиться, и предлагал считать выкупленное им родовое поместье собственностью его дочери. Я лишь просил его предоставить мне мою часть доходов за два-три года вперед, дабы я имел средства на военное снаряжение и преданность моя борьбе за американскую независимость не оказалась в тягость благородному Лафайету.
Поведение мое и письма заслужили похвалу. Прибыв к берегам Испании, я получил от дядюшки ободряющее, но полное мягкой укоризны письмо: он упрекал меня за внезапный отъезд. Давая мне свое отеческое благословение и заверяя честью, что Эдме никогда не воспользуется правом на ленное владение Рош-Мопра, дядя – не в счет моих будущих доходов – посылал мне значительную сумму денег. Аббат, подобно ему, осыпал меня упреками, но сопровождал их еще более теплыми словами поощрения, нежели дядюшка. Нетрудно было заметить, что покой Эдме он предпочитает моему счастью и попросту радуется моему отъезду. А ведь он меня любил, и самая дружеская приязнь трогательно сквозила в письме наперекор переполнявшему его чувству удовлетворения. Аббат завидовал моей участи. Горячо сочувствуя борьбе за независимость, он утверждал, что его не раз одолевало искушение сбросить сутану и взять мушкет в руки. Но то было ребяческое самообольщение: мягкий и робкий по природе, он, даже рядясь в одежды философа, оставался священнослужителем.
Между этих двух писем, словно наспех приложенная, проскользнула тоненькая записочка без адреса. Я сразу догадался, что она исходит от единственного существа на свете, которое мне поистине дорого; но вскрыть ее у меня не хватало смелости. Трепетной рукой сжимая клочок бумаги, я шагал по песчаному берегу моря. Я боялся, что, прочитав записку, утрачу спокойствие отчаяния, обретенное мною в мужественном самоотречении. Особенно опасался я выражения признательности и восторженной радости, за которыми угадывалось бы разделенное чувство любви к другому.
«Что могла она написать? – думалось мне. – И почему она вдруг написала? Жалости ее мне не нужно, а благодарности – еще того меньше».
У меня было искушение швырнуть роковую записку в воду. Я замахнулся было, но тут же прижал ее к сердцу, да так и замер, словно внезапно, подобно приверженцам магнетизма, уверовал в ясновидение, позволяющее мысленно, сердцем читать написанное не менее успешно, нежели глазами.
Я решился наконец распечатать письмо и прочел следующее:
«Ты хорошо поступил, Бернар, но я не стану тебя благодарить: словами не выскажешь, как мне будет не хватать тебя. Ну что ж! Иди туда, куда призывают тебя чувство чести и любовь к святой истине. Мои помыслы и молитвы всегда и везде с тобой. Когда же ты выполнишь свой долг, возвращайся – ты найдешь меня не замужем и не в монастыре».
К записке было приложено сердоликовое колечко, которое Эдме, уступая моим мольбам, надела мне во время болезни. Покидая Париж, я ей его возвратил. Я заказал маленький золотой медальон и, спрятав в него записку и кольцо, стал носить на груди как реликвию. Вскоре после того, как Лафайету, арестованному французским правительством, которое противилось его предприятию, удалось бежать из тюрьмы, он присоединился к нам. У меня было достаточно времени для приготовлений, и я отправился в плавание, полный печали, дерзаний и надежд.
Вы не ждете от меня, конечно, рассказа о войне американцев за независимость. Повествуя о моих приключениях, я опять-таки хочу обособить события моей жизни от событий исторических. Но на этот раз я не буду касаться даже моих приключений; в моих воспоминаниях они образуют особую главу, где Эдме присутствует подобно мадонне, к которой неустанно возносят моления, хотя лицезреть ее не дано. Не верится мне, чтобы для вас могла представлять хоть какой-нибудь интерес та часть моего повествования, где не появляется это ангельское существо, единственно достойное вашего внимания, прежде всего само по себе, а затем и за внимание, проявленное ко мне. Скажу вам только, что начал я с низших чинов вашингтоновской армии, получение каковых сперва меня весьма радовало, и обычным порядком, хотя и скоро, дослужился до офицерского звания. Военную премудрость я одолел быстро. Увлекся я ею от всей души, как увлекался в своей жизни всем, за что ни брался, и мое упорство восторжествовало над трудностями.
Прославленные мои начальники оказывали мне доверие. Превосходное здоровье помогло с легкостью переносить тяготы военной жизни, а прежние мои разбойные навыки пришлись весьма кстати: превратности войны оставляли меня невозмутимым, а этого-то как раз и не хватало – при всей их блистательной храбрости – другим французским юношам, прибывшим вместе со мною. Я же, к великому изумлению наших союзников, проявлял хладнокровие и стойкость, отчего окружающие частенько начинали сомневаться в моем происхождении. Их поражало, как быстро освоился я в лесах и, то проявляя осторожность, то прибегая к хитрости, умело боролся с индейцами, порой тревожившими наши части.
В трудах и походах на мою долю выпало счастье расширить свой кругозор благодаря одному достойному молодому человеку, ниспосланному мне провидением в качестве спутника и друга. Любовь к естествознанию побудила его к участию в нашем походе. Вел он себя как добрый вояка, но легко было догадаться, что политические симпатии играли в его решении лишь второстепенную роль. Не было у него никакой склонности к воинским занятиям, никакого желания выдвинуться. Гербарий и наблюдения над миром животных занимали его много больше, нежели успех войны и торжество независимости. При случае дрался он прекрасно, и никто не мог бы обвинить его в равнодушии к нашему долу. Но накануне битвы и на другой день он, казалось, и не подозревал, что можно интересоваться чем-нибудь, кроме научной экспедиции в саванны Нового Света. Чемодан его всегда был полон, но не деньгами и всяким скарбом, а образцами естественнонаучной коллекции. И пока мы, лежа в траве, настороженно прислушивались ко всякому шороху, который мог означать приближение врага, приятель мой сосредоточенно разглядывал какое-нибудь растение или насекомое. То был чудесный юноша – чистый, как ангел, бескорыстный, как стоик, терпеливый, как ученый, и при этом жизнерадостный и сердечный. Когда нам случалось неожиданно очутиться в опасной переделке, у него не было иной заботы, – ежели судить по его восклицаниям, – кроме бесценных камешков и драгоценнейших травок, которые он возил с собою. Однако если кто-либо из нас бывал ранен, мой друг ухаживал за ним с несравненной добротой и усердием.
Однажды он увидел золотой медальон, который я носил под одеждой, и стал выпрашивать его у меня, чтобы хранить в нем какие-то мушиные лапки и стрекозиные крылышки, которые он готов был защищать до последней капли крови. Понадобилось все мое благоговение перед святынями любви, чтобы воспротивиться настояниям друга. Все, чего он мог от меня добиться, это сунуть в драгоценный медальон прелестное растеньице, которое, по его словам, он первый открыл; оно получило право убежища рядом с запиской и кольцом моей невесты лишь при условии, что будет именоваться «Edmea silvestris». [44]44
«Лесная эдмея» (лат.).
[Закрыть]Приятель мой на это согласился: он уже назвал именем Сэмюела Адамса [45]45
Сэмюел Адамс(1722–1803) – американский политический деятель, видный участник войны за независимость.
[Закрыть]прекрасную дикую яблоню, а именем Франклина – какую-то хлопотливую пчелку; и более всего он радовался, когда мог сочетать свои пытливые наблюдения со служением благородному делу.








