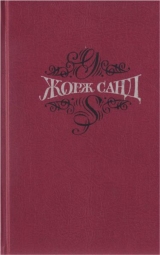
Текст книги "Собрание сочинений. Т.4. Мопра. Ускок"
Автор книги: Жорж Санд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
Прошло несколько дней; с виду все было спокойно. Эдме редко выходила из своей комнаты, сказавшись больной; господин де ла Марш приезжал почти ежедневно: его замок был расположен неподалеку от Сент-Севэра. Несмотря на любезности, какими осыпал меня этот человек, я питал к нему все большее отвращение. Его напыщенные философствования были мне непонятны, я спорил с ним, со всей присущей мне грубостью отстаивая свои предрассудки. В моих тайных муках меня отчасти утешало лишь то, что и он, подобно мне, не имел доступа в комнаты Эдме.
Никаких событий за эту неделю не произошло, разве только что в хижине по соседству с замком поселился Пасьянс. С тех пор как аббат Обер нашел у господина Юбера убежище, где мог укрыться от преследований духовенства, ему незачем было встречаться с отшельником тайком. Аббат горячо уговаривал друга покинуть лесные дебри и переселиться к нему поближе. Пасьянс заставил себя долго упрашивать. Проведя столько лет в одиночестве, он так привык к башне Газо, что не сразу предпочел ей общество друга. Он утверждал к тому же, что общение с «великими мира сего» развратит аббата: вскоре он неприметно для себя попадет под влияние старых воззрений и охладеет к «святому делу». Но сердце Пасьянса покорила Эдме. Она-то и предложила ему поселиться в домике, принадлежавшем ее отцу и расположенном в живописной лощинке у входа в парк. Эдме уговаривала Пасьянса мягко и осторожно, стараясь не задеть его чувствительное самолюбие. Желая разрешить этот спор, аббат и пришел вместе с Маркасом в башню Газо в тот самый вечер, когда, застигнутые грозой, мы с Эдме нашли в ней приют. Последовавшие затем страшные события положили конец колебаниям Пасьянса. Сочувствуя учению пифагорейцев, он страшился всякого кровопролития. При виде умирающей лани у него, как у шекспировского Жака, [21]21
Шекспировский Жак. – Имеется в виду одно из действующих лиц комедии Шекспира «Как вам это понравится».
[Закрыть]навертывались слезы на глаза; тем более тяжко ему было зрелище человекоубийства; с той минуты, как башня Газо стала трагической ареной гибели двух человек, Пасьянсу повсюду мерещились в ней пятна крови; он ни за что не остался бы там даже на одну ночь. Пасьянс последовал за нами в Сент-Севэр и вскоре, поддавшись обаянию Эдме, позабыл о своих колебаниях и мудрствованиях. Да и домик, в котором он поселился, был настолько прост и беден, что Пасьянсу не пришлось бы краснеть за свою явную уступку цивилизации. Здесь не было полного уединения, как в башне Газо, зато Пасьянс не мог пожаловаться, что аббат и Эдме редко его навещают.
Тут рассказчик снова сделал отступление, чтобы подробно описать характер мадемуазель Мопра.
– Эдме жила скромно, в безвестности, а между тем вряд ли нашлась бы во Франции женщина, обладавшая большими совершенствами. Поверьте, что во мне говорит не личное пристрастие. У нее недоставало желания, да и не было нужды показываться в свете, иначе о ней заговорили бы и она затмила бы славой всех женщин ее крута. Но Эдме была счастлива в лоне семьи и при всех своих талантах и высоких добродетелях отличалась трогательной простотой. Она не знала себе цены, да и я недостаточно ценил ее в ту пору. Я был еще зверем алчущим и слышал только голос плоти, полагая, что люблю ее лишь за красоту. Надо сказать, что и жених Эдме, господин де ла Марш, понимал ее немногим лучше, чем я. Его дюжинный от природы ум питало рассудочное учение Вольтера и Гельвеция, а смелый ум кузины зажигало пламенное красноречие Жан-Жака. Пришло время, когда я понял Эдме; но господин де ла Марш так ее никогда и не понял.
Эдме с колыбели не знала матери; бесконечно добрый и беспечный отец доверял ей во всем, не мешал вдохновенным исканиям юной души, поэтому духовный мир Эдме складывался как бы сам по себе. Аббат Обер, у которого она приняла первое причастие, и не думал запрещать ей чтение философов, поскольку сам пленился их учением. Никто из окружающих не спорил с Эдме и даже не прекословил ей – ведь отец, кумиром которого она была, во всем ей потворствовал, так что у нее в голове уживались взгляды, казалось бы, совершенно противоположные: принципы философии, подготовлявшей крах христианства, и принципы христианства, осуждавшего дух философии. Чтобы объяснить себе это противоречие, надо вспомнить о впечатлении, какое произвело на аббата Обера «Исповедание веры савойского викария», о чем я уже рассказывал. Кроме того, как вам известно, в поэтических душах легко соседствуют мистическая вера и сомнение. Разительным и великолепным примером является Жан-Жак, а вы знаете, какое сочувствие возбуждал он в среде духовенства и аристократии, хотя и громил их с таким неистовством. Что за чудеса способен совершить человек, убежденный в своей правоте и наделенный возвышенным красноречием! Эдме пила из этого живительного источника со всей жадностью пламенной души. Изредка бывая в Париже, она и там выискивала людей, разделявших ее воззрения. Но во взглядах этих людей обнаружилось столько различных оттенков, так мало согласия и, главное, невзирая на модные веяния времени, столько закоренелых предрассудков, что она с большой охотой вернулась к своему одиночеству и поэтическим мечтаниям под сенью старых дубов отцовского парка. Уже тогда она говорила о своем разочаровании и с удивительно здравым смыслом, не свойственным ее возрасту и, пожалуй, ее полу, отвергала все представлявшиеся ей случаи завязать личное знакомство к теми философами, чьи произведения давали пищу ее уму.
– А ведь, знаете, я немного сибаритка, – улыбаясь, говорила она. – Предпочитаю вдыхать аромат роз, уже сорванных поутру и поставленных в вазу, нежели самой срывать их под лучами палящего солнца, рискуя уколоться о шипы.
Слово «сибаритка» можно было применить к ней лишь весьма условно. Воспитанная на лоне природы, сильная, подвижная, Эдме была весела и отважна и сочетала в себе прелесть нежной девической красоты с энергией физически и нравственно здорового человека. Эта гордая, бесстрашная девушка была приветлива и ласкова с людьми, ниже ее стоящими. Мне она частенько казалась высокомерной и спесивой; Пасьянс же и все окрестные бедняки считали ее добродушной и скромной.
Почти столь же страстно, как философов-спиритуалистов, Эдме любила высокую поэзию; она прогуливалась всегда с книжкой в руках. Однажды, когда у нее был с собою томик Тассо, [22]22
ТассоТорквато (1544–1595) – выдающийся итальянский поэт эпохи позднего Возрождения, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».
[Закрыть]она встретила Пасьянса. Он, по обыкновению, с любопытством стал расспрашивать ее о книге и авторе. Эдме пришлось пояснить ему, что такое крестовые походы, это было не так уж трудно. Благодаря рассказам аббата и своей удивительной способности запоминать события Пасьянс знал в общих чертах всемирную историю. Но гораздо труднее было ему уразуметь, где проходит граница между историей и эпической поэзией. Поэтический вымысел вызывал у него вначале возмущение: он полагал, что подобный обман нетерпим. Затем он уразумел, что эпическая поэзия, отнюдь не вводя в заблуждение потомство, могучей кистью увековечивает славу героических подвигов; тогда Пасьянс стал допытываться, почему же не все славнейшие деяния воспеты бардами и почему не вся история человечества отражена в столь доступной форме, которая без посредства ученых книг позволяет запечатлеть далекое прошлое в памяти поколений. Пасьянс попросил Эдме растолковать ему строфу из «Освобожденного Иерусалима»; стихи отшельнику очень понравились, и Эдме прочитала ему одну песню из поэмы в переводе на французский. Спустя несколько дней она познакомила Пасьянса с другой песней, а затем и со всей поэмой. Старик обрадовался, услыхав, что это героическое повествование пользуется всенародной известностью в Италии, и попробовал сокращенно изложить его содержание грубой прозой; память его не сохранила ни одного стиха. Пасьянс был, однако, живо захвачен прочитанным, и величавые образы вереницей проходили перед его мысленным взором. Он воплотил их во вдохновенном рассказе, и его варварское косноязычие было побеждено присущей ему поэтической одержимостью. Но повторить свое повествование Пасьянс уже не мог. Следовало записать услышанное из его уст, но это ни к чему бы не привело: если б ему и удалось прочитать эту запись, память его, изощренная в одних только умствованиях, не могла бы воспроизвести дословно даже самый незначительный отрывок. Впрочем, Пасьянс часто цитировал прочитанное, и речь его достигала иногда поистине библейской силы; но, кроме кое-каких излюбленных им выражений да нескольких кратких сентенций, которые он все же усвоил, в голове у него не сохранилось ничего из того множества страниц, которые он неоднократно заставлял вновь и вновь прочитывать себе вслух, всякий раз внимая им с одинаковым волнением. Поистине отрадно было наблюдать за воздействием поэтических красот на эту могучую натуру. Аббат, Эдме, а позже и я постепенно познакомили Пасьянса с Гомером и Данте. «Божественная Комедия» так потрясла его, что он мог пересказать поэму от начала до конца, не опуская ни единой подробности, ни единого эпизода из странствий, встреч и переживаний поэта; но этим возможности Пасьянса исчерпывались. Когда же он пытался восстановить в памяти понравившееся ему выражение, ласкавшее его слух, речь его от обилия нахлынувших метафор и образов походила на бред.
Приобщившись к поэзии, Пасьянс совершенно переменился: он зажил в своем воображении той деятельной жизнью, какой не хватало ему в действительности. В волшебном зеркале поэзии видел он грандиозные битвы, героев в десять локтей ростом; он постиг любовь, которой никогда не знал; он сражался, любил, побеждал, просвещал и умиротворял народы; он обличал заблуждения рода человеческого, сооружал храмы во славу великого духа вселенной. На звездном небосводе видел он всех богов Олимпа – родоначальников древнего человечества; в созвездиях читал историю Золотого века и века Бронзового; голос зимнего ветра доносил к нему песни Морвена, в грозовых тучах приветствовал он тени Фингала и Комалы. [23]23
В конце XVIII в. получили широкую популярность «Сочинения Оссиана» (1765) – поэмы, написанные шотландским поэтом Джеймсом Макферсоном (1736–1796) и выданные им за перевод на английский язык будто бы найденных им творений легендарного ирландского барда ХIII в. Оссиана, сына Фингала, властителя королевства Морвен. Комала – одна из героинь поэм Оссиана.
[Закрыть]
– Пока не познакомился я с поэтами, – говаривал Пасьянс на склоне дней, – я словно был лишен одного какого-то чувства. Я понимал, как важно им обладать, ибо потребность в нем ощущаешь так часто. Ночью я прогуливался в одиночестве, охваченный смятением, и спрашивал себя, почему не могу я уснуть, почему с таким наслаждением созерцаю звезды, глаз от них оторвать не в силах; почему иные краски заставляют мое сердце радостно биться, а иные звуки – тоскливо, до слез, сжиматься. Иногда я пугался: уж не спятил ли я? Ведь другие люди моего сословия не знают этой постоянной душевной смуты и живут безмятежно; я готов был счесть себя безумцем; однако же я утешался тем, что безумие мое сладостно и лучше я умру, нежели соглашусь от него излечиться. А нынче меня успокаивает сознание, что все умные люди во все времена находили подобные цвета и звуки прекрасными, и с меня этого довольно, я готов понять их суть, всю важность их для человека. Меня радует мысль, что нет такого цветка, такого оттенка, нет дуновения ветерка, которые не привлекли бы внимание и не тронули бы сердца людей и затем не получили бы своего особого имени у всех народов. С тех пор как я узнал, что человек может, не теряя рассудка, наполнять мечтами вселенную и с помощью мечтаний находить ей разгадку, я погрузился в созерцание вселенной. И когда зрелище общественных бедствий и злодеяний жестоко ранит мое сердце и возмущает разум, я ухожу в свои мечты и говорю себе: ежели сумели люди единодушно возлюбить творение господа своего, наступит день, когда они единодушно возлюбят друг друга. Просвещенность, полагаю я, возрастет, сыновья будут знать больше отцов. А я хоть и невежда, но, может статься, первый из простолюдинов угадал то, что ни одним намеком не было мне подсказано другими. Быть может, и до меня были мятущиеся души, пытавшиеся себя понять, но жизнь прошла, а для них все окружающее так и осталось загадкой.
– Бедные мои люди! – воскликнул Пасьянс. – Нет нам спасения ни от тяжкого труда, ни от пагубы пьянства, ни от всяческих пороков, что разрушают мозг. У богатых есть деньги, и они покупают рабочие руки, а бедняк надрывается, чтобы прокормить семью; есть у нас кабаки и еще другие, более опасные заведения, и правительство, говорят, получает от них доходы; есть у нас попы: заберутся на кафедру да и читают нам проповедь о нашем долге перед сеньором, но о долге сеньора перед нами – никогда. Нет у нас такой школы, где бы объясняли нам наши права, где бы учили отличать наши истинные, благородные потребности от постыдных и губительных, где бы сказали, наконец, о чем можем и должны мы подумать вечером, пропотев целый день ради чужих барышей, когда сидим на пороге хижины, глядя, как вспыхивают на небосклоне сияющие звезды.
Так рассуждал Пасьянс; поверьте, что в переводе на наш трезвый язык его речь теряет всю свою прелесть, энергичность и силу. Но кто мог бы слово в слово передать рассуждения Пасьянса? Лишь он один обладал столь самобытной речью: то была помесь скупого, но могучего крестьянского словаря и самых смелых поэтических метафор, смелость которых Пасьянс даже усугублял. Его ум, стремившийся все обобщать, придавал порядок и последовательность пестроте этого наречия. Невероятная щедрость воображения восполняла сжатость его речи. Поглядели бы вы, как отважно сражались воля и убежденность Пасьянса с беспомощностью его языка; вряд ли кто-либо другой на его месте вышел бы из положения с честью; уверяю вас, если призадуматься над этим, а не потешаться над неправильными оборотами его речи и дерзновенностью метафор, то крестьянин этот давал пищу для важнейших наблюдений над развитием человеческого разума, заставлял умиленно восхищаться нравственной красотой простого человека.
Настало время, когда в силу исключительности моей судьбы я научился хорошо понимать Пасьянса и сочувствовать ему. Подобно ему я был невежествен; подобно ему, искал в окружающем мире разгадку самого себя, как ищут ключ к раскрытию тайны. Случайные обстоятельства – мое происхождение и богатство – дали мне возможность развить мои способности. Пасьянс же до самой смерти пробирался ощупью в потемках невежества, из которых он не хотел да и не умел выбраться; но то было для меня лишним поводом признать превосходство его могучей натуры, ибо он шел впереди по пути, слабо освещенному проблесками инстинкта, смелее, нежели я шагал при ярком свете факелов, зажженных знанием. Кроме того, у Пасьянса вовсе не было дурных наклонностей, с которыми ему пришлось бы бороться, а у меня их было сколько угодно.
Но в те времена Пасьянс был в моих глазах только чудаком, который забавлял Эдме и давал аббату Оберу повод для сострадания. Когда же они уважительно говорили со мною о старом крестьянине, я их не понимал: я воображал, что они в иносказательной форме хотят доказать мне преимущества образования и необходимость приняться за него смолоду, во избежание напрасных сожалений в старости.
Увидев, что Эдме направляется через парк к новому жилищу Пасьянса, я начинал бродить среди окружавшей домик лесной поросли, в надежде ненароком встретиться с кузиной, когда она в одиночестве будет возвращаться домой. Но всякий раз ей сопутствовал аббат, а иногда даже отец. Если же она и оставалась у Пасьянса одна, он провожал ее потом до самого замка. Частенько, укрывшись в тени гигантского тиса, склонившего свои бесчисленные ветви и пустившего густые побеги неподалеку от хижины, я видел на пороге Эдме. Она сидела с книгой на коленях, а Пасьянс слушал, скрестив руки на груди и понурив многодумную голову. Мне казалось, что Эдме пытается обучить его грамоте; я считал это пустой затеей, а упорство кузины – безумием. Но она была так хороша в лучах заката, под желтеющей виноградной листвой, укрывавшей хижину! Любуясь ею, я твердил про себя, что она моя, и клялся никогда не поддаться ни убеждению, ни силе, если меня попробуют принудить от нее отказаться.
С некоторых пор страдания мои достигли предела, и, не видя иного способа их избежать, я много, почти до бесчувствия пил за ужином. И вот наступала минута столь же для меня тягостная, сколь и оскорбительная: перед тем как уйти из гостиной, Эдме, поцеловав отца и протянув для поцелуя руку господину де ла Маршу, бросала на ходу: «Доброй ночи, Бернар!» – тоном, казалось, говорившим: «Сегодня – так же, как вчера, завтра – так же, как сегодня. Все без перемен».
Напрасно усаживался я в кресло у самой двери, чтобы Эдме, проходя мимо, коснулась меня своим платьем; это было все, на что я мог рассчитывать; я даже не пытался протянуть ей руку, в надежде, что она ответит мне тем же: ведь, наверное, она подала бы мне свою с таким небрежным видом, что я, пожалуй, в ярости мог бы сломать ей пальцы.
За ужином я молча и тоскливо напивался и быстро пьянел. Мрачный, осоловелый, садился я в мое излюбленное кресло и не покидал его, пока не проходил хмель; тогда я шел прогуляться по парку, предаваясь бессмысленным мечтаниям и строя зловещие планы.
Окружающие словно не замечали моей скотской привычки. В семье относились ко мне с такой снисходительностью и добротой, что боялись сделать даже самый справедливый упрек, но мое постыдное пристрастие к вину давно уже привлекало внимание домашних, и аббат говорил об этом с Эдме. Однажды ввечеру, за ужином, она несколько раз пристально и как-то странно на меня взглянула; я посмотрел ей прямо в глаза, надеясь, что она вызовет меня на разговор; но, обменявшись недружелюбными взглядами, мы этим и ограничились. Подымаясь из-за стола, она вполголоса, скороговоркой, повелительно сказала мне:
– Перестаньте пить и старайтесь усвоить все, чему будет учить вас аббат.
Я был так возмущен ее властным тоном и приказанием, не сулящим никакой надежды, что вся моя робость улетучилась в мгновение ока. Выждав, когда Эдме направится к себе в комнату, я подстерег ее на лестнице.
– Уж не думаете ли вы, что одурачили меня, что я не замечаю обмана? Будто я не вижу: вот уже месяц я тут, а вы меня ни словом не удостоили, да еще водите, как простофилю, за нос. Вы мне солгали, а теперь презираете меня за глупое простодушие, за то, что я поверил вашим клятвам.
– Бернар, здесь не место и не время объясняться, – холодно сказала она.
– Ну, еще бы! У вас для меня никогда не найдется ни места, ни времени; не беспокойтесь, зато я сумею их найти! Вы сказали, что любите меня; обняли и поцеловали, вот сюда, в щеку, – я до сих пор ощущаю прикосновение ваших губ, – и сказали: «Спаси меня, и, клянусь Евангелием, клянусь честью, клянусь памятью моей матери и памятью твоей матери, я буду принадлежать тебе!» Я знаю, вы говорили все это, боясь, что я прибегну к насилию, а теперь – это ясно – вы меня избегаете, боясь, что я воспользуюсь своим правом. Но вам ничего не поможет! Клянусь, вам недолго придется меня дурачить!
– Я никогда не буду вам принадлежать, – возразила она ледяным тоном, – если вы не перестанете разговаривать со мною подобным языком и не измените вашего обращения и ваших чувствований. Такого, как сейчас, я вас не боюсь! Я могла уступить вам, отчасти повинуясь страху, отчасти движимая благосклонностью: вы показались мне добрым и великодушным; но теперь, разлюбив вас, я перестала вас бояться. Исправьтесь, получите образование, и тогда посмотрим.
– Превосходно, – сказал я. – Вот что такое ваши обещания! Что ж, я буду поступать соответственно, и если мне не дано быть счастливым, отомстить я сумею!
– Мстите сколько угодно, – сказала она, – вы добьетесь лишь того, что я стану вас презирать.
Сказав это, она достала из-за корсажа листок бумаги и спокойнейшим образом поднесла его к свече.
– Что вы делаете? – воскликнул я.
– Сжигаю письмо, которое вам написала, – ответила она. – Я хотела помочь вам образумиться, но это бесполезно: с грубияном объясняться невозможно.
– Отдайте! – закричал я и кинулся к Эдме отнимать горящее письмо.
Но она увернулась, бесстрашно загасила рукою огонь, швырнула догорающую, словно факел, бумагу к моим ногам и скрылась во мраке. Напрасно поспешил я за нею. Она опередила меня и, добежав до своей комнаты, захлопнула за собою дверь. Я слышал, как щелкнула задвижка, и до меня донесся голос мадемуазель Леблан, осведомляющейся у своей юной госпожи о причине ее испуга.
– Пустяки, – дрожащим голосом ответила Эдме, – так, просто шутка!
Я спустился в сад и в неистовстве зашагал по аллеям. Ярость моя сменилась глубочайшим унынием. Дерзкая гордячка казалась мне сейчас прекрасней и желанней, нежели когда-либо. Противоборство, на которое мы наталкиваемся, всегда лишь возбуждает и разжигает наш пыл; это в природе вещей. Я чувствовал, что Эдме оскорблена, что она не любит меня, возможно, никогда не полюбит, и, хотя не желал отказаться от преступного замысла овладеть ею силой, ненависть ее причиняла мне страдание. Припав во мраке сада к какой-то стене и закрыв лицо руками, я разразился отчаянными рыданиями. Моя широкая грудь разрывалась, но слезы не приносили облегчения – еще немного, и я закричал бы в голос; тогда я впился зубами в свой платок. Звуки моих приглушенных рыданий привлекли внимание: в часовенке за стеной, к которой я, забывшись, припал, кто-то молился. Прямо вровень с моей головой находилось стрельчатое окно с каменным плетением, образующим узор из трилистников.
– Кто там? – спросил чей-то голос, и в неверном свете восходящей луны смутно забелело чье-то лицо.
Я узнал Эдме и хотел бежать, но она просунула прелестную ручку сквозь переплет окна и, ухватив меня за воротник, спросила:
– Бернар, почему вы плачете?
Стыдясь, что меня застали врасплох в минуту слабости, радуясь, что Эдме не осталась к ней нечувствительной, я уступил этому сладостному насилию.
– У вас горе? – продолжала она. – Кто же заставляет вас так рыдать?
– Вы меня презираете, ненавидите – и еще спрашиваете, отчего я страдаю, отчего злюсь до бешенства!
– Так вы от злости плачете? – спросила она, убирая руку.
– От злости, но не только от злости, – ответил я.
– От чего же еще?
– Сам не знаю, может, и от горя, как вы говорите. Одно верно: я страдаю, грудь моя разрывается. Я должен с вами расстаться, Эдме; право же, лучше мне уйти и жить в лесной глуши, я не в силах оставаться здесь больше.
– Вы так страдаете? Отчего же? Скажите, Бернар. Пора нам объясниться.
– Да, теперь, когда нас разделяет стена. Конечно, тут я вам не страшен.
– По-моему, я только то и делаю, что проявляю к вам участие. Разве час тому назад, когда эта стена не разделяла нас, я относилась к вам не так участливо?
– Я думаю, Эдме, вы потому так бесстрашны, что у вас всегда есть способ уклониться от прямого ответа или сбить человека с толку красивыми словами. Эх! Не зря мне говорили, что женщины – все лгуньи и ни одна не стоит любви!
– Кто же это вам говорил? Уж не ваш ли дядя Жан, или дядя Гоше, или, может быть, ваш дед Тристан?
– Смейтесь, смейтесь надо мною сколько вам угодно! Не моя вина, что воспитали меня они. Но им случалось иной раз говорить и правду.
– Хотите, Бернар, я скажу вам, почему они считали женщин лгуньями?
– Скажите.
– Потому что они подчиняли себе слабых с помощью насилия и гнета. А когда властвуешь, вселяя страх, всегда рискуешь быть обманутым. Разве в детстве, спасаясь от колотушек, от жестокой расправы Жана, вы не скрывали свои проступки?
– Конечно, в этом было мое единственное спасение.
– Стало быть, в хитрости если не право, то спасение угнетенных. Понимаете?
– Понимаю, что люблю вас и что это не дает вам права меня обманывать.
– Кто же говорит, что я вас обманываю?
– Вы обманули меня: сказали, что любите, а не любили меня.
– Нет, я любила вас! Я видела, что, вопреки гнусным правилам, внушенным вам, ваше благородное сердце побуждает вас быть справедливым и честным. Я люблю вас и сейчас, потому что вижу, как вы торжествуете над этими гнусными правилами, а поддавшись дурдому порыву, каетесь и льете чистосердечные слезы. Вот что я могу вам открыть как на духу, положа руку на сердце, когда вижу вас таким, как сейчас. Но бывают минуты, когда вы, на мой взгляд, настолько ниже самого себя, что я перестаю вас узнавать, и тогда мне кажется, что я вас не люблю. Только от вас зависит, Бернар, никогда не давать мне повода усомниться ни в вас, ни в себе.
– Но что для этого нужно?
– Избавиться от дурных привычек, слушаться добрых советов, открыть свое сердце велениям морали. Бернар, вы дикарь, но, поверьте, меня оскорбляет в вас не ваша неуклюжесть или неумение говорить любезности. Напротив: ваша грубоватая простота была бы для меня необыкновенно привлекательна, если бы за ней скрывались высокие помыслы и благородные чувства. Но ваши чувства и помыслы так же грубы, как и ваши манеры, а это для меня нестерпимо. Я знаю, вы не виноваты, и, если бы вы решили исправиться, я полюбила бы вас не только за достоинства, но и за ваши недостатки. Сострадание предшествует любви; но я не люблю, не могу любить дурное, и, если вы лелеете его в себе, вместо того чтобы искоренять, я не могу любить вас. Понимаете вы это?
– Нет.
– Как нет?
– Нет, говорю вам! Я не понимаю, чем я дурен. Если вам не претит то, что я не умею шаркать ножкой, что руки мои недостаточно белы, а речи недостаточно изысканны, чем же я могу быть нам противен? Не понимаю. С самого детства мне внушали дурные правила, но я им не следовал. Я никогда не верил, что дурные поступки дозволены, по крайней мере, никогда не находил в них прелести. Если я и чинил зло, то лишь потому, что меня принуждали это делать. Дяди мои, их образ жизни всегда вызывали во мне отвращение. Я не хочу чужих страданий, не хочу грабить; деньги я презираю, а в Рош-Мопра им поклонялись. Я люблю вино, но умею быть трезвым и всю жизнь пил бы одну лишь воду, если бы ради доброго ужина мне приходилось, как моим дядюшкам, проливать чужую кровь. Но ведь я сражался с ними плечом к плечу, с ними и пил; мог ли я поступать иначе? Ну, а нынче, когда я волен поступать как мне заблагорассудится, кому я причиняю зло? Разве ваш аббат, толкующий о добродетели, считает меня убийцей или вором? Так признайтесь же, Эдме, в моей честности вы уверены, не считаете меня дурным человеком, но я вам не нравлюсь: мне недостает ума, а де ла Марша вы любите – ведь он умеет болтать всякий вздор, который я постыдился бы высказать вслух.
Выслушав меня очень внимательно и не отнимая руки, которую, припав к переплету решетки, я держал в своей, она, улыбаясь, сказала:
– Но если бы для того, чтобы мне понравиться, чтобы я предпочла вас де ла Маршу, вам понадобилось, как вы говорите, нажить немного ума, разве вы этого не сделали бы?
– Не знаю, – не сразу ответил я, – пожалуй, я так поглупел, что и на это способен; не могу только понять, чем вы меня взяли? Но это было бы с моей стороны большое малодушие и большое безрассудство.
– Почему, Бернар?
– Потому что вряд ли стоит стараться ради женщины, которая любит мужчину не за его доброе сердце, а за остроумие. Так мне кажется.
Эдме помолчала, потом, пожав мне руку, сказала:
– У вас много больше ума и здравого смысла, чем можно было бы предположить. Что ж! Придется сказать вам все напрямик: признаюсь, вы и такой, как есть, даже если никогда не переменитесь, внушаете мне уважение и дружеские чувства, и я сохраню их до конца жизни. Будьте в этом уверены, Бернар, что бы я вам ни говорила в минуту гнева: вы ведь знаете, что я очень вспыльчива, – это у нас семейная черта. У Мопра кровь никогда не будет течь в жилах так же безмятежно, как у других людей. Пощадите же мою гордость – кому, как не вам, знать, что такое гордость! Никогда не кичитесь передо мной вашими правами. Чувству не прикажешь – его добиваются, его внушают; сделайте так, чтоб я полюбила вас, как прежде; никогда не говорите мне, что я обязана вас любить.
– А ведь это верно, – ответил я. – Но почему же вы иной раз так со мной разговариваете, словно я обязан вам подчиняться? Почему нынче вечером вы запретили мне пить и приказали учиться?
– Потому что, если нельзя приказать чувству, когда его нет, можно как-никак приказать чувству, когда оно есть. В вашем я уверена, потому-то и приказываю.
– Прекрасно! – порывисто воскликнул я. – Но я тоже имею право приказывать вашему чувству: ведь вы признались в нем… Эдме, я приказываю вам меня поцеловать.
– Пустите, Бернар! – вскрикнула она. – Вы сломаете мне руку! Смотрите, вы уже оцарапали меня, а все эта решетка.
– Почему вы заперлись от меня в этой крепости? – сказал я, покрывая поцелуями ее руку и маленькую царапину, которая на ней оказалась по моей вине. – Ах, до чего же мне не везет. Проклятая решетка! Эдме, наклоните же голову, я вас поцелую… Поцелую как сестру. Эдме, ну чего же вы боитесь?
– Но, дорогой Бернар, – ответила она, – в нашем кругу не принято целовать даже сестру, и, уж во всяком случае, целовать тайком. При отце я могу целовать вас хоть каждый день, если пожелаете, но тут – никогда!
– Так вы никогда меня не поцелуете? – воскликнул я, приходя в ярость, как это было мне свойственно. – А ваше обещание? А мои права?
– Если мы поженимся… – сказала она в замешательстве. – Когда вы закончите образование… Ведь я умоляю вас учиться.
– Вот проклятие! Вы издеваетесь надо мной! Да разве о женитьбе идет речь? Ничуть не бывало! Не нуждаюсь я в вашем состоянии – я вам это уже говорил!
– Мое состояние и ваше – теперь одно нераздельное целое. Между столь близкими родственниками «твое» и «мое» – пустые слова. Мне никогда и в голову не придет заподозрить вас в корыстных целях. Знаю, что вы любите меня, что постараетесь это доказать и что наступит день, когда любовь ваша перестанет меня отпугивать, когда я смогу принять ее перед богом и людьми.
– Если вы так думаете, – сказал я, совершенно забыв о своем гневе, ибо мысли мои получили новое направление, – тогда другое дело; но, по совести говоря, мне еще надо подумать… Мне не приходило в голову, что вы так на это смотрите.
– А как же иначе? – возразила она. – Может ли благородная девица, не обесчестив себя, принадлежать кому-либо, кроме супруга? Я не желаю себя бесчестить, но и вы, если любите меня, этого не пожелаете; вы не захотите ведь причинить мне непоправимое зло. Будь у вас такое намерение, вы стали бы моим смертельным врагом.
– Погодите, погодите, Эдме, – прервал я ее, – я ничего не могу сказать о моих намерениях относительно вас; твердых намерений у меня никогда не было. Меня обуревали только желания, и всякий раз, подумав о вас, я начинал безумствовать. Вы хотите, чтобы мы поженились? Ах, бог ты мой! Да зачем?
– Затем, что уважающая себя девица может принадлежать мужчине, только если питает намерение, решимость, уверенность принадлежать ему вечно. Неужто вы этого не знаете?
– Я очень многого не знаю, о многом никогда и не задумывался!








