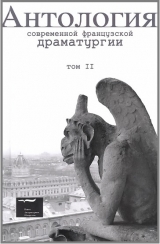
Текст книги "Антология современной французской драматургии. Том II"
Автор книги: Жорж Перек
Соавторы: Жан-Клод Грюмбер,Оливье Пи,Жан-Кристоф Байи,Реми Вос де,Дидье-Жорж Габили,Мишель Дейтч,Валер Новарина,Елена Головина,Жоэль Помра,Фабрис Мелькио
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Ты покашливаешь, и я того гляди шею себе сломаю, спал-то ведь всего ничего, час какой-нибудь, да еще закладывал всю ночь – так что я, владыка мира, гроза квартала, Шугар Рей, Фореман и Харрикейн вместе взятые, – я в данный момент соображаю, что же обещает мне этот полет, целый час полета, мое, можно сказать, исчезновение, потому что все как-то фигово началось и как-то мне не по себе, короче, не в лучшей я олимпийской форме, – но вот если б ты повернула голову и сказала, что находишь меня сексуальным, пусть даже я с такой опухшей от выпивки и драки мордой похож на американских боксеров, все равно, если б ты хотя бы просто спросила у меня, который час, потому что у тебя встали часы или они показывают какое-нибудь не то время, тогда я стопудово поверил бы в чудеса, это уж точно, и усталость бы как рукой сняло и наплевать, что перебрал, и все, что было потом, – все забыл бы.
А ты потряхиваешь своей челкой, которая на несколько сантиметров длиннее, чем надо, и лезет тебе в глаза, но она нужна тебе, чтобы отмахиваться от пацанов и мужиков, и от волков тоже, и в этом есть что-то нарочитое – и, всякий раз как ты ею встряхиваешь, я силюсь понять: что это, какой-то особый дар? И сколько их у тебя, этих даров-приемов, потому что всякий раз, как под челкой мелькают твои глаза, какой-нибудь самолет либо приземляется, либо, черт его дери, взлетает.
Ты прямо командная башня какая-то, центральная диспетчерская, можно сказать, ты превратила лайнеры в игрушечные самолетики, и теперь они порхают по твоей прихоти.
Ты покашливаешь, и, когда ты откидываешь челку и одновременно покашливаешь, у меня возникает ощущение, что самолеты, которые в этот момент касаются земли или отрываются от нее… у меня возникает ощущение, что во всех этих чертовых самолетах что-то там не ладится, – а все ты, ведьма ты этакая! Если только всему виной не джин и не виски и не все, что я успел выпить и пережить за эту ночь, – но клянусь, я не имею обыкновения напиваться, более того, я не верю в ведьм, – но ты, когда я смотрю на тебя в профиль, а потом на твое отражение в стекле и ты кашляешь, кашляешь на моторы самолетов, а они на это как-то по-своему там реагируют, я вижу, как из твоего рта выпархивают райские птицы, а может, и не райские вовсе, черт их дери, а какие-то другие, но того же пошиба, потому что таких птиц ты днем с огнем не сыщешь, разве что в документалке какой, а может, во сне или таким вечером, как вчера был, а может, такой же ночью или когда дерябнешь лишнего, – короче, как-то ночью вроде той, что была сегодня, должен тебе признаться, я своими глазами видел под потолком парящих райских пташек и всяких там колибри, а может, зимовыродков – короче, всяких таких пестратых пернатых, на которых без слез и смотреть-то нельзя, потому как существуют они, только когда состояние джином поправишь, или вискарем, или когда близок к отключению всех услуг, потому как сначала принял на грудь, а потом сверху чем-нибудь заполировал, и уж не за горами апперкот, и все равно уже, сколько еще дрябнешь и чем поправишься, но главное совсем не в этом – главное в том, что все нам кажется несуразным – вот, к примеру, эти птицы.
Ты выпускаешь изо рта райских птиц, и в самолетах от этого что-то происходит – такова истина.
Пауза.
Все, больше на тебя не смотрю, не буду больше смотреть – не хочу, чтобы ты поймала мой взгляд, не отрывающийся от тебя, – нет и нет, я на тебя не смотрю, я вслепую иду на свидание с тобой, изучаю тебя как по азбуке Брайля, чтобы хоть чем-то отличаться от того бугая в расстегнутой рубахе, что хлещет минералку, уж третий литр заливает, сволочь, а сам тебя глазами так и ест, – так вот, не хочу иметь с ним ничего общего, кроме краски, что заливает его мордень, и это отличает меня от всяких там мерзавцев. А в пацанах с космической скоростью прорастают мужики, и вот они в течение минуты, что длится вечность, готовы на все, но в конечном итоге ни на что не годны, моя красавица, потому что таких минут у них впереди еще вагон и маленькая тележка, они еще будут пялиться на телок в других аэропортах, в другое время, мало подходящее для того, чтобы пялиться на телок, потому что будет еще слишком рано, а может, слишком поздно, да и вообще, в смысле времени это не мой звездный час – в такую-то рань, тем более что за всю ночь ну разве что на часок голову преклонил, а это хуже, чем часовой пояс менять. А впрочем, кто их разберет, этих мужиков, что с тебя глаз не сводят, чувствуют они или нет, что превращаются в волков, – одному богу известно, но я думаю, нет – нет, только не в волков.
А на моей физиономии что написано: волк я?
Я вот на тебя не смотрю, а если даже и смотрел бы, то тебе нечего опасаться, потому что после тебя я готов ни на кого больше не смотреть, ни одним глазком, ни на кого, кромё тебя, можешь мне поверить, мне ведь терять нечего, я все продал, все бросил, а что осталось – все в этом красном саквояже, видишь, у моих ног – там все, что было когда-то моей жизнью, да быть перестало, а может, и не было никогда.
Пауза.
Уж поверь.
Пауза.
Ты моя девочка, моя красавица, мой злой эльф, я населяю свой сад твоими чарами и даже в этом аэропорту, на взлетном поле, придумываю тебе сказочную роль, уж поверь. Мне нравится эта оранжевая холщовая сумка, что висит у тебя на шее подобно влюбленному негру из сказки, которого дрозд решил поднять до вершин, а твои глаза – ведь это и есть вершины, я это знаю, а если не знаю, то догадываюсь, во всяком случае, надеюсь.
Пауза.
Гадский красный чемодан, от него перед глазами все плывет, просто спасу нет.
У меня, кстати, на вооружении имеется пара-тройка спецэффектов – так, ничего особенного, далеко от чудес пиротехники, да и жизнь моя никогда не была похожа на фейерверк, но ё-моё, сколько она весит, эта жизнь, которую я влачу, тащу как на аркане, и девять шансов из десяти, что мы окажемся с тобой в одном самолете, и девять шансов из десяти, что я сблюю на твои лаковые туфельки – все ж я немало выхлестал нынче ночью, а ты вся так и светишься – вот кто специалист по спецэффектам, – только, боже упаси, не подумай, что я на что-то там намекаю, я ни за что не стал бы разглядывать тебя ниже подбородка и не потому вспомнил про спецэффекты, не потому, что у тебя в глазах искры, а в жопе дым или что-то в этом духе, – ни в коем случае, нет, нет и еще раз нет.
Вот блин!
Ты повернула голову, блин, и снова отвернулась, блин, потому что поняла, что повернула ко мне голову, – вот придурок, Зорро недоделанный, тебя запеленговали. Зато ты наконец повернула голову, и – святые угодники – какие глаза, сверху и снизу считай ничего нет, одни глаза, бельэтаж какой-то, да там мечтали б жить все и каждый – не-ет, какой там бельэтаж, это же седьмое небо, вот где жить весь год, без всякой цели, так просто жить-поживать, чтобы посмотреть, что будет. Только ни у кого нет времени просто жить-поживать и уж тем более смотреть, что будет.
Я тоже не успел посмотреть, что будет, потому что в результате моего безотрывного смотрения на твой профиль ты не удержалась и повернула голову – чтобы я заткнулся, чтобы показать мне, что прилипчивый взгляд тяжел, как рука, – только не подумай, что я пялюсь на твои сиськи, что я вроде того говнюка, что вылакал три литра минералки, пока наблюдал, как ты сплетаешь-расплетаешь ноги и выпрямляешь бюст, – да я что, я вообще слепой, девочка моя, красавица, мой эльф, я ослеп, на тебя глядючи, потому как вокруг тебя все сверкает, а я того гляди заблюю это твое сверкание, я с этим делом еще не завязал, потому как сегодня ночью… потому как ты… – я имею в виду, вся светишься, а ночь, она никак не кончится, а все тянется, тянется, но, мать честная, твои глаза, я говорю это напрямик, как есть, и плевать, что ты меня не слышишь или, хуже того, что я похож на испорченное радио – или на радиографию легких, гаденько-молчаливую относительно того, что будет, а в легких-то места живого нет, а все потому, что проглотил слишком много обид, – но черт меня дери, ты на меня посмотрела, а я отвернулся – и тут на меня будто нашло, вот сейчас, думаю, что-то будет – но ничего так и не было, блин, потому что у меня защемило шею.
Это ж надо!
Вот ведь черт!
Пауза.
М-да, со смотрением дело не выгорело.
Разве что переместиться куда-нибудь, да только на кой, что это изменит?
А может, пересесть на твою скамейку, чтобы разделить с тобой не только спинку, но и само сиденье, просто плюхнуться рядом, чтобы и смотреть-то было некуда, а только чувствовать, ловить твой запах и жар твоего присутствия, сливающийся с моим, чувствовать, как ты заполняешь собой невидимое пространство вокруг, потому что каждый заполняет свое невидимое пространство не так, как другие.
Я хотел бы почувствовать, как это делаешь ты. Чтобы потом сказать себе и всему этому сброду в аэропорту, сказать мужикам, которые куда-то спешат или чего-то ждут, и теткам, что опаздывают или, наоборот, пришли загодя, – сказать им всем, что я знаю его, твое невидимое пространство и чем ты его заполняешь, сказать им, что оно сливается с моим, потому что мое пространство состоит из тяжелых металлов, это доменная печь, надо тебе заметить, в которой плавятся свинец, сталь, чугун, – моя жизнь вообще – это сплав тяжелых металлов, у меня заклепки в коже, я железный человек, можно сказать, во всяком случае, надеюсь, а моральный облик – закаленная сталь, и вот все это переплавилось и расплавилось, моя красавица, мой эльф, и теперь лежит у моих ног, в этом красном чемодане.
А твое невидимое пространство – это райские птахи, колибри всякие там, хрен знает что за пернатые, да такие легкие все, что тяжесть с меня как рукой сняло. Ты делаешь из меня человеческое существо extra light – правда, шею вот чуть не свернул, на твой профиль глядючи.
Твое невидимое пространство, как мне кажется, – это такая плавная сверкающая линия – траектория в идеале.
Только не спрашивай почему, не то я возьму да и бухну, что люблю тебя, а все из-за тяжелых металлов в моем горниле, а еще из-за этого треклятого красного чемодана, будь он неладен, – прямо как лужа крови у моих ног или пес – раненый преданный красный пес, – только не спрашивай, с чего это я вдруг собираюсь заявить, что люблю тебя, и не думай, что я способен сказать такое первой встречной, кому попало, только не…
А джин и виски там всякие, и вообще ночь, и то, что не спал ни хрена, – не думай, что в них причина, ну то есть что из-за них я могу брякнуть тебе, что люблю, я это скажу без спешки, как Дон Кихот, – он ведь никуда не спешил, – и то сказать, до чего медленно читается эта книжища.
Пауза.
В общем, не знаю, что еще можно почувствовать в твоем пространстве, потому как все еще сижу на другом конце скамьи и далек от того, чтобы переместиться к тебе ближе, – даром что чистил зубья и сгораю от желания придвинуться, да и в придачу чувствую себя extra light и вообще как стеклышко, и даже если, даже…
Пауза.
Девица в громкоговорителе объявляет наш рейс и посадку через полчаса, да таким вещает невинным голоском в этот свой громкоговоритель, что смотри, и выпивоха мгновенно переключился и идет на голос, к ближайшему динамику – вот видишь, видишь!
Я ж тебе говорил.
С этими монстрами надо держать ухо востро.
Сперва они тебя превозносят до небес, втихаря аж делают королевой своего убогого мирка, потом ловят твой взгляд, отражение и, поймав, краснеют как раки – но тут в матюгальнике журчит девический голосок, и их уж след простыл, поминай как звали. Они уж ловят жадным ухом воркование динамика, а тебе так ничего и не дали – вот так вот, наобещают с три короба, да черта лысого потом дождешься – я надеюсь, ты понимаешь, о чем я, потому что с виду ты все сечешь и только прячешься в этих своих ужимках – это тики у тебя такие, вернее, уловки, которыми ты прикрываешься, – я имею в виду, как ты трясешь челкой или делаешь из пацанов мужиков, а то еще покашливаешь. Ты в этом своем укрытии пережидаешь всякие там каверзы и революции, нежданно-негаданные козни или подарков судьбы ждешь – а может, мужиков, которые обещать-то горазды, да ни хрена не дают, кроме обещаний, а только говорят, даю мол.
Знаем мы эти штучки.
Я тоже обещал, но говорил тебе: «Бери, все тебе отдаю, бери».
Пауза.
Ну и что с того, что ты населяешь пространство диковинными птицами, Дульсинея ты моя, – мордашка у тебя все равно печальная.
Должно быть, несладко тебе пришлось – а мне, знаешь, даже хочется этого – чтоб тебе до меня пришлось несладко и чтоб ты мне сказала: знаешь, мне было так фигово, но теперь все прошло, потому что ты, потому что с тобой и все такое прочее, мол, увидела я тебя и теперь желаю разменять вместе с тобой мой последний золотой, и ты мое последнее прибежище, мой последний шанс.
Сам знаю – что я, чокнутый? – никогда мне не услышать от тебя ничего подобного, и твой взгляд, когда ты смотришь прямо – я-то ведь изучал тебя в профиль, досконально, можно сказать, изучил, – твой взгляд – я это чувствую, я ведь не идиот.
Ты меня им одарила, чтоб я понял, что ты ничего мне не даешь и давать не собираешься и ничего нет во мне сексапильно привлекательного, – нормально, в такую-то рань да после бессонной ночи кто хошь тебе будет не в лучшем формате, да еще ежели накануне надраться до бесчувствия, да еще в этом хреновом городе, где шлюхи к тебе подкатывают – и сразу на ты, будто ты им брательник какой, а то еще хуже, сыночек, – и напоят тебя, и приголубят, и ежели ты пойдешь у них на поводу, то и ночи ждать не надо – вон, на Гран-Виа, сколько их мельтешит – от зари до зари, да в три смены – а вы гляньте на их каблуки – тут ежу понятно: на Гран-Виа шлюхи ниже ростом, чем в любой другой точке земного шара, потому как каблуки у них напрочь стоптаны – еще бы, ты поработай в три смены круглые сутки да поди умножь одно на другое – голова кругом пойдет, вот они и смотрят перед собой и видят только то, что у них перед носом. А больше ничего. Только одно слово: вперед, но впереди-то все равно ничего нет. Это как несбыточные мечты, что в них проку?
Пауза.
Чего это на меня нашло, сам не знаю, – ты только не подумай, что я по шлюхам таскаюсь и каблуки их рассматриваю, какая там гадость на них налипла, – не, это не мой жанр – просто мне хреново, а ты так строго на меня зыркнула, что я уж совсем не знаю, что сказать, вот и начал про шлюх.
Хрень какая-то, ни грамма романтики.
Это тебе доказательство, что обычно я не клеюсь к женщинам в аэропортах.
Чувак, который знает чт о говорит, потому что для него это привычное дело – снимать телок в аэропорту, да не только в аэропорту, где хошь, – так вот, такой чувак не стал бы распространяться про путан на Гран-Виа, и про расхристанного водохлеба тоже – а этот, кстати, все еще воду глушит, видать, обезвоживания организма боится, эк ты его распалила – впрочем, ему теперь от всего печет, ты только глянь на этот ходячий бурдюк, ухом так и липнет к громкоговорителю, ждет, что щас оттуда девочка заворкует, специально ради его особы, – но ё-моё, каким же надо быть одиноким, чтоб столько воды выглушить и заторчать от голоса первой попавшейся мочалки.
Пауза.
Ты только не подумай, что это я тебя называю мочалкой, что я вообще могу назвать тебя мочалкой только потому, что ты строго на меня поглядела, вовсе даже наоборот – я скажу, что люблю тебя, – ну вот, помирились.
Теперь можно лететь спокойно.
А то б я парился всю дорогу.
Ну ладно.
Блин, голова кружится.
Уф, вроде отпустило.
А я тебе уже рассказывал про футболку «I am the best»?
Ни хрена уже не помню.
Как дела-дела-дела, ничего-чего-чего.
Ох, чует мое сердце, еще немного – и меня снова потянет рассказывать тебе про шлюх с Гран-Виа, более того, я хоть сейчас готов поведать про галерею Прадо, а может, даже конкретно про «Торжество смерти» – по мне, все лучше, чем «Сад наслаждений», уж лучше Брейгель Старший, чем Эль Боско – Иеронимус, я хочу сказать, потому как у меня к нему особое пристрастие – да-да, представь себе. А то еще неровен час заведу шарманку про китаез на той же Гран-Виа, они там со своими коробами неподалеку от потаскушек торчат, а в коробах всякая жратва и даже джин иногда, а то и натуральное виски бывает – это у китаез с Гран-Виа, я имею в виду, но тебе на них, как пить дать, наплевать с высокой колокольни, потому что, ежели смотреть на тебя в профиль, то не похоже, чтоб ты закупала провиант на улице, даже среди ночи, когда все на фиг закрыто и железными шторами задраено, и рестораны, и бары, и пусто на улице – шаром покати, ты ведь, поди, не знаешь, что это такое, а вот я, моя красавица, мой эльф, столько раз благословлял небо за то, что вот стоят на Гран-Виа косоглазые и продают съедобные продукты в картонках.
Чтой-то я запутался, даже чувствую, что красным стал, под стать чемодану, – я чувствую себя и легким, и тяжелым и уж сам не знаю, что во мне невесомо, а что тянет на сто тонн.
В общем, люблю я тебя, и добавить к этому мне нечего… Значит, так: ты садишься в свой самолет, я тоже сажусь в самолет, мы оба садимся в самолет – и точка.
Пауза.
Ну так что?
Я говорю: ну так что?
Ага, повернула голову.
Привет.
Я говорю: привет.
Отвернулась.
Не вышло.
Не вышло – я это не говорю, я это думаю, но так громко, что ты меня слышишь – отлично.
Что скажете?
Я говорю: что скажете?
Я перешел на вы, чтобы перехватывать на лету собственные громогласные мысли.
Снова повернула голову.
Ё-моё, ну и глазищи у тебя – впрочем, я уже говорил тебе это, я уже это думал, громко думал, так что ты меня поняла, поэтому не будем повторяться.
Я думаю: я люблю вас, моя милая.
Моя дорогая.
Я хочу сказать: ты.
Моя милая дорогая, с позволения сказать.
Я тебе это говорю.
Я говорю тебе: я люблю вас.
Ну вот, покраснел, как чемодан.
Отвернулась.
Что ты на это скажешь?
Я спрашиваю, что ты на это скажешь.
Пауза.
То-то и оно.
Я не тебе говорю: «То-то и оно».
Я самому себе это говорю, чтобы защититься от твоего молчания, – я говорю: то-то и оно – а это лишний раз доказывает, что в подобных обстоятельствах я не теряю чувства юмора. А знаешь что?
Плевать я хотел на чувство юмора.
Пауза.
Ну да ладно.
Я повторяю: «Ну да ладно», только на этот раз ни к кому не обращаюсь. Может быть, даже не говорю, а думаю: «Ну да ладно», сам уже не знаю, – дали б мне сейчас ковер, я бы, наверно, под него заполз.
Молчишь, точно я ничего не сказал, а я, между прочим, сказал тебе кое-что, и не думай, пожалуйста, что для меня это обычная вещь – бросаться словами «ятебя люблю», да еще в такой час, да без какой бы то ни было перспективы, потому как известное дело, перепил и недоспал, – я, можно сказать, все поставил на карту и проиграл, и это, увы, так: моя ставка испарилась, растворилась в неизбывной прозрачности, канула в небытие, а твое отражение улыбается, и я на него смотрю мельком, потом упираюсь взглядом в собственные бутсы, потом поднимаю глаза на любителя минералки – он уж за четвертый литр принялся, а сам от динамика оторваться не может, прямо молится на него, взывает, шепчет заклинания, чтобы уже знакомый девичий голос снова пригласил его на посадку, – а я, я потерпел головокружительное фиаско, можно сказать, сел в глубочайшую грязную лужу, да как сел – волну поднял и сижу теперь в этой самой луже прочно и основательно – вот так вот, чувак, знай свое место.
Пауза.
Не стоило рассказывать тебе про сексокосилок.
Нечего было даже и думать про них, ты ведь такая ведьма, все насквозь просекаешь.
Да никогда я не ходил к этим косилкам, разве чтобы убедиться, что телки на Гран-Виа вкалывают больше, чем любые другие, – вот ведь кретин, болван, идиот, снова я…
Деваха в громкоговорителе вняла наконец мольбам глушителя минералки, посадка через десять минут – а этот разволновался пуще прежнего, ему, видать, голоса мало, ему еще личико подавай, на себя теперь злится, что столько выдул перед полетом, – ну все, хана, ему теперь не до лиц и не до голосов, весь полет в сортире проторчит – эх, если б еще турбулентность добавить, вот бы ему урок был, а то наобещал с три короба, а дать ничего не дал – я вот, к примеру, наоборот, сказал тебе «я вас люблю», да только ты… Ты хотя бы понимаешь, что я не абы кто?
Я отдал все, я подарил тебе эти несколько слов, которых достаточно, чтобы сказать потом «я отдал все», – вот, к примеру, признание вроде моего – как же, ты потом всю жизнь будешь вспоминать, как в Мадридском аэропорту какой-то мужик выдал тебе такое в шесть утра, а все потому, что не спал толком, да еще и выпил лишнего, а все потому, что твой профиль его заворожил и что в тот момент он предпочел сказать тебе «я вас люблю», вместо того чтобы сигануть вниз с самолета, на который собирался сесть, или взорвать его к чертовой матери, чтобы ты погибла вместе с ним и тогда это было бы так романтично, что аж челюсти сводит, – ты всю свою жизнь будешь вспоминать того мужика и, может быть, даже в конце концов начнешь гордиться, что смогла возбудить в мужчине – пусть даже этот мужчина я, с мордоворотом боксера после матча, – что смогла возбудить в нем желание сказать тебе «я люблю вас», при том что ничего больше ты про него не знаешь и знать не хочешь, стерва.
Пауза.
Я тоже всю жизнь буду помнить, как однажды в шесть утра дал маху, признавшись в любви незнакомке, про которую ничего не знал не ведал, ни из какой она страны, ни какого роду-племени, ни на каком языке она говорит и есть ли у нас вообще общий язык, и на всю жизнь у меня останется впечатление, что я прошел мимо чего-то большого, потому что я сделал из тебя птицу и командную башню, а ты…
Прости, что назвал тебя стервой, моя Дульсинея.
Я вот тут…
Дон Кихот, тот не был косноязычным.
Ты читала? Затянуто немного, не находишь?
Слушай, я назвал тебя стервой – прости, забудь, не бери в голову.
Так – это я уже себе, – посмотри в свой билет, проверь в сотый раз время вылета и номер рейса, подумай о чем-нибудь другом, только тихо подумай, не то она тебя услышит и поймет, что это не блажь, это твое «я люблю вас», а всерьез, потому что ты ранен, только не самолюбие ранено – никаких «само» и никакого «любия», все это ерунда, – я действительно ранен и готов все послать к черту – все, потому что ты мне отказываешь, отказываешь даже в улыбке, даже в «спасибо», хотя «спасибо» – это худшее, что можно придумать, но даже на «спасибо» ты не расщедрилась. Скажи, тебе так трудно сказать «спасибо», когда тебе говорят «я тебя люблю»?
Эк меня занесло.
Вот ведь все-таки стерва.
Пауза.
А что ежели в конечном итоге, в результате моей несуразности и твоего молчания, то есть в конце этого тоннеля, где я пытаюсь нащупать выключатель или тропинку под ногами или, в совсем уж крайнем случае, услышать простое человеческое «спасибо», – что ежели в результате моих любовных признаний и твоего отсутствия чего бы то ни было в ответ вдруг обнаружилось бы, что существует малю-ю-юсенькая такая неувязочка, вернее, несостыковочка, а именно наш с тобой язык… я хочу сказать, что твой язык решительно не похож на мой, настолько не похож, что твой и мой языки никогда и нигде не могли бы встретиться и договориться, а это значит – привет-крокет, здравствуй недоразумение. О нет, черт подери, беру все сказанное назад, ты понимаешь, о чем я. Беру назад.
Я буду говорить тебе о любви на всех языках, которые знаю, пока эти языки не иссякнут, пока не найду твой язык.
И не думай, пожалуйста, что я вдарился в лингвистику для отвода глаз, а на самом деле мне страсть как охота поцеловать тебя взасос и почувствовать твой реальный язык, этот сочный и упругий кусок мяса, пока ночь еще липнет по закоулкам аэропорта, а самолеты похожи на ночных птиц и взлетное поле все во мгле и тумане, совсем как я сам, и все кругом серое, что кошки ночью, и ты меня в упор не видишь, и вообще, блин, ты встаешь.
Пауза.
Блинский еж.
Ты отозвалась на приглашение девицы в громкоговорителе, которая в очередной раз объявила посадку на наш самолет, то есть на твой самолет, потому что ты встала, а в руке у тебя зеленый чемоданчик – ну прям кусок зеленого луга – и идешь к гейту, который указала девица.
Нет, я не сдвинусь с места, прежде всего потому, что, когда ты встала, скамейка устрашающе заскрипела, и плевать я хотел на то, из какой ты страны и какой особенный вкус у твоего языка, и нужна ты мне как прошлогодний снег, моя дорогуша, моя красавица, мое пустое место, потому что росточком ты, оказывается, не вышла, и вообще любовь – это чушь собачья на постном масле, а уж моя любовь и подавно, ниже плинтуса, а ты пока что заняла место в очереди на посадку.
Ты достала паспорт, а чувак с минералкой тут же пристроился рядом, вон он, что-то у тебя спрашивает и показывает свой паспорт, и ты, ты тоже показываешь ему свой, вы смотрите друг другу в паспорта, – а я вот думаю, какого черта надо показывать паспорт, если ты с человеком не знаком, это ведь тебе не хухры-мухры, ведь там всёшеньки про тебя прописано, имя-фамилия-где-родился и все границы, которые ты за последние годы пересекал, и куча всяких штемпелей и печатей, доказывающих, что ты действительно летал на самолетах, менял часовые пояса, переживал моменты безвременья и потерянности, когда цепляешься за буй как за последнюю надежду, – короче, весь ты в своем паспорте как на ладони – и ты показываешь все это глушителю минералки. Сказать, что я об этом думаю? Этому палец в рот не клади, оттяпает, а сам в лес, как говорится, так и смотрит, значит, долго не задержится, вот тебе вся правда-матка.
Он аж расплылся, глядя на твою фотку, ты тоже улыбаешься, разглядывая евойную, и если он сейчас не описается, то у него, видать, крепкие нервы, я бы давно уж сблевал от стольких проявлений любви: и паспорт нараспашку, и ты там вся «извольте пожалуйста», без стыда и стеснения, и улыбка в придачу, черт подери, обворожительная улыбка анфас из разряда «солнце из-за тучки», – а я тут, понимаешь, созерцаю собственные штиблеты и красный саквояж и истекаю, можно сказать, кровью, и у крови вкус картона, и башка вращается так, что все плывет… А про шлюх на Гран-Виа я вспомнил исключительно, чтобы тебе досадить, и даже утверждаю, что это лучшее, что есть на свете, а ты им и в подметки не годишься, тебе до них еще учиться и учиться надо, а этот оплывший пузырь с водой, ему тоже рядом с ними делать нечего, от одного его вида с души воротит, – а ты, от одного твоего вида голова идет кругом, ну да будет об этом.
Все, голова встала на место, а Дон Кихот на тебя и смотреть бы не стал.
Ты когда поднялась, под тобой скамейка застонала, и ничего в тебе нет особенного, телки на Гран-Виа те хоть ласковые, а тебя не научили даже «спасибо» говорить.
Пауза.
Останусь сидеть.
Иди в свой самолет, показывай кому хошь свой паспорт.
Пойди трахнись с этим типом.
Подержи ему пиписку, чтоб писал куда надо, только учти, это дело непростое.
Лучше если ты позовешь на помощь пожарных – он столько высосал, этот бугай, что его шланг так просто не удержишь, тут без пожарных не обойтись, моя девочка.
Может, ты сама пожарный, может, ты чужестранка, может, даже ты супервумэн, но это уже ничего не меняет, я остаюсь.
А я привык.
Привык оставаться.
Пауза.
Ты, поди, думаешь, я что ни день на самолетах летаю, что мне куда-то на край света приспичило, что я эти границы пачками перелетаю, да? А вот и нет.
Вся моя жизнь помещается в этом красном чемоданчике – вот тебе про меня вся правда, детка. (Берет свой чемодан, кладет его на колени, открывает. Достает оттуда пачку писем, перевязанную голубой лентой.)
Никто не писал таких писем, как она. Моя жена, я хочу сказать: когда-то у меня была жена, то есть она была моей женой. Никто не писал как она – целый день все письма, письма. Дневные письма: она писала их – как зонтик протягивала, будто хотела защитить меня от всего на свете – чтобы мне грустно не было, чтоб усталость не давила, чтобы жизнь тошной не казалась, – такие вот письма-зонтики. А ночные письма – это был черный полог над Млечным путем, пенка в кастрюле с черным молоком, пульт управления сновидениями – чтобы их распознать и различить, – голос, ведущий сквозь тьму, стакан молока на ночь страх отогнать, спасение от этой муторной жизни, в которой тебе того гляди на голову метеорит какой-нибудь свалится – вот что такое были ее ночные письма. Пенка на Млечном пути.
Читать ее письма было все равно что лезть на Эверест, потому что это были кипы страниц, в них надо было погружаться, как в Пруста или Лопе де Вегу, гиблое дело, – я терялся в ее письмах, написанных днем, терялся в тех, что она писала ночью и которые подавала как сокровенные признания: невысказанные тайны, поведанные тайны – вот какие у нас были отношения.
Пауза.
Кладет письма рядом с собой на скамейку. Достает из чемоданчика черную тетрадь, кладет ее на скамейку рядом с письмами.
Здесь – одна только правда и ничего кроме правды.
Записки, но не такие, которые пишут, чтобы как-то занять время, хотя уж чего-чего, а времени мне не занимать – к тому ж я не из тех, кто боится смерти, во всяком случае, не настолько, чтобы пытаться втиснуть время в страницы, запихнуть его в клетку, помешать ему творить черт знает что, – вовсе нет.
Пруст, как мне кажется, был еще тем трусом, вон сколько всего понаписал, а ночи его, судя по всему, были похожи на огромный дырявый занавес, а в дырках – лучи света, и свет этот – время, все потерянное время, – только я это от балды говорю, сам я Пруста не читал, просто я его так вижу, Пруста, я хочу сказать.
Я лично пишу записки независимо от того, есть смерть или нет, плевать я на нее хотел, я пишу, чтобы ускорить бег времени, а смерть для меня – что те чертовы райские птицы, которых и на свете-то не бывает, хрен с ними со всеми, раз их нет, я люблю то, что есть и что я могу видеть своими собственными глазами, потому что то, что есть – большая редкость, я имею в виду вещи, про которые без малейшей доли сомнения можно сказать, что они есть, они так редки, что их просто надо в музее показывать, – а я всего лишь не хочу говорить сам с собой, не могу говорить сам с собой, не желаю, чтобы пустота вокруг меня прислушивалась к тому, что я говорю, и чтобы она была единственным моим слушателем, я не хочу, чтобы она, как танцовщица-зазывала в кабаре, из жалости угостила меня стаканчиком, не хочу, не хочу прятаться в одинокую пустоту как в уютное гнездышко, потому что это большая редкость – то, что существует и не вызывает сомнений в своем существовании.
Я вот, к примеру, вовсе не уверен, что существую, уже не уверен, а все из-за моей опухшей физиономии – одно слово, боксер на ринге, – и еще из-за этой чертовой ночи, которой нет конца и краю, и из-за этого тоннеля, в котором свет даже не брезжит, из-за всех этих джинов вперемешку вискарем – пьешь-пьешь, а кого обогнать хочешь, сам себя? Никуда-то я отсюда не двинусь, даже с места не встану, покуда не найду хоть кого-то, кому можно сказать правду, выложить всю правду-матку как есть, потому как ведь надо же когда-нибудь ее сказать, хоть раз в жизни, хоть какому ни то незнакомцу, которого и в глаза-то никогда не видел, тогда это будет действительно откровенное признание, – хоть раз в жизни надо заглянуть внутрь себя и рассказать все как есть – эх-ма, а так все хорошо начиналось.








