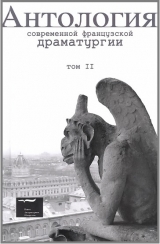
Текст книги "Антология современной французской драматургии. Том II"
Автор книги: Жорж Перек
Соавторы: Жан-Клод Грюмбер,Оливье Пи,Жан-Кристоф Байи,Реми Вос де,Дидье-Жорж Габили,Мишель Дейтч,Валер Новарина,Елена Головина,Жоэль Помра,Фабрис Мелькио
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Входит Клоунесса.
КЛОУНЕССА. Ах, до чего распрекрасны ваши рассуждения! Я вот тоже одинока, бедна, и мне холодно по ночам.
АМФИТРИОН. Ну вы-то хотя бы можете посмотреться в зеркальце и сказать себе: это я!
КЛОУНЕССА. Да откуда вам знать?
АМФИТРИОН. Я примиряюсь с очевидным, как сдаются врагу: храня невозмутимое спокойствие, терпя нестерпимую боль. Ничего не поделаешь: нужно сложить оружие так или иначе, по возможности с достоинством, впустить врага в свои владения, признать поражение, уступить, испить чашу до дна, пасть на колени и произнести: «Я – побежденный».
КЛОУНЕССА. Верно, так-то лучше.
АМФИТРИОН. Я столько лет заблуждался! И вот теперь сдаюсь. Иллюзии, эфемерная слава, воображаемые победы, бесполезная работа над самим собой. И вот доказательство: пытаясь быть самим собой, я собой не был. Это бесспорно, ведь онстал мною. В чем я больше не сомневаюсь. Ему удобнее в моем обличье, чем мне. За долгие годы, подражая себе, пародируя себя, я раздвоился. Мое «я» было парадным, временным, подлинное мое «я» – в нем, и это превосходно.
КЛОУНЕССА. Не смешно. И кто же вы тогда, если вы – это не вы?!!
АМФИТРИОН. Кто я теперь, когда больше не являюсь тем, чем пытался быть – им, то есть собой, но успешным и без усилий достигающим цели?
КЛОУНЕССА. Ничего не понять, хоть плачь.
АМФИТРИОН. Следите за ходом моих рассуждений.
КЛОУНЕССА. Слежу.
АМФИТРИОН. Что остается мне после того, как я оставил попытки быть им? Лишь мечтать о тени! О собственной тени, исполненной достоинства! Вот я и оказался снова среди своих, среди людей, преданных мечте и странствиям, людей, чьи лица и тела способны беспрестанно меняться, примеривая на себя множество личин, другими словами, я оказался среди статистов сна об Амфитрионе. Возвращаюсь туда, где все позволено. Я – горделивая мечта о тени. Так оно, возможно, и лучше.
КЛОУНЕССА. Милости прошу к нашему шалашу, собрат по несчастью!
АМФИТРИОН. Приветствую тебя, сестричка Клоунесса, сестричка милосердия.
КЛОУНЕССА. Неплохо сказано.
У каждого из нас имеется какая-нибудь застарелая рана, полученная в результате несчастной любви, глубокого непроходящего горя, какого-нибудь первородного греха, ничтожного, но постыдного, непоправимой утраты, что-нибудь связанное с щепетильностью, через которую мы переступили, заработав отвращение к себе, ну словом, нечто роднящее нас всех нашим общим уделом – немощь, заикание, немилость, лень. Поочередно явились мы на эту ярмарочную площадь, чтобы мокнуть под лимбами кулис и гримас. Маска – наша крестная ноша, она же – наше спасение.
АМФИТРИОН. Я этого не знал.
КЛОУНЕССА. Ты ничего не знал. Красивое имечко ты мне дал – сестричка милосердия, мне оно подходит. Я ни юноша, ни девушка, ни взрослая, ни ребенок, и это мне по душе. Жизнь моя проста, я люблю ночь, вишни в водке, люблю пантомиму, люблю горланить в темноте, напялив шляпу. Фиалка – цветок, похожий на меня, и стоит мне по весне увидеть беззаботных влюбленных, я начинаю сомневаться, нужен ли мне аккордеон.
Мне нравится бродить по грязным улицам, я пугаюсь, когда ветер постучит веткой в мое окошко, мне не утратить вкуса к выступлениям, люблю соль и злоупотребляю ею, а если мне придет охота склонить голову на чье-то плечо, я отложу аккордеон.
А более всего на свете я обожаю песенки, и чем они глупее, тем больше мне по сердцу, я боюсь всяких пакостей, но ищу их, собаки меня смешат – я говорю с ними о потерянном рае, – я люблю совать нос не в свое дело, еще мне нравится, когда пахнет горелой спичкой, а если мне придет охота принадлежать кому-то, к чему мне аккордеон?
Я страдаю вместе со страждущими, но недолго, а когда наступают холода, я не думаю о том, как потеплее укутаться; я не прочь потягивать из рюмочки ром, нахожу, что мир куда красивее, ежели смотреть на него через кусочек гладкого стекла, а если конюх пригласит меня на танец, я зашвырну аккордеон подальше.
Мне претит любое рукоделие, я по полдня могу дудеть в старую трубу, умею поговорить, могу и помолчать, люблю букеты, не похожие на букеты, а если Пьер мне улыбнется, я забуду об аккордеоне, как будто его и не было.
Жизнь моя легка, с тех пор как большое горе вошло в мою жизнь, и если есть на свете радость… Я готова съесть аккордеон.
АМФИТРИОН. А что это за горе?
КЛОУНЕССА. Его отблеск на мне, и этого довольно. А о том, о чем нельзя говорить, лучше промолчать.
Есть одна песенка… Я пытаюсь исполнять ее во время своего выступления, но она никому не нужна. Вам известно ее начало: «Нежная ночь…» Дай-ка я тебя отвяжу, собрат по несчастью, и пропою ее тебе. Нет, лучше сначала спою, а потом уж отвяжу. Так надежней!
АМФИТРИОН. В таком случае я весь внимание.
КЛОУНЕССА (поет).
Нежная ночь, воедино
водишь ты мертвых с живыми.
Верни мне лицо родное
Того, кого я любила.
Сердце мое без пары
На подушку склонилось устало.
Нежная ночь, притупила
Боль ты мою вековую.
Расскажи мне о чудном крае,
Где засыпают счастливо.
Под светлыми пальмами там
Радость и свет пополам.
Нежная ночь, постелила
В сердце моем себе ложе ты.
Брось же меня, как камень
На дно реки ленивой.
И глаза мне водой прикрой.
Пусть унесет рекой.
Клоунессарасковывает Амфитриона. Он плачет.
АМФИТРИОН. Подайте мне шляпу и балахон сумасшедшего, подайте мелодию пляски сумасшедшего, я тоже не знал материнской груди! Отыщи все это для меня, а в придачу и новое имя, чтобы я мог начать жизнь сначала.
КЛОУНЕССА. Пим-пим в самый раз.
АМФИТРИОН. Придумай номер, с которым я мог бы выступать.
КЛОУНЕССА. А кем вы бываете на крещениях и свадьбах?
АМФИТРИОН. Отвечаю за выпивку.
КЛОУНЕССА. Ну а в конце, когда все уже набрались и никто никого не слушает?
АМФИТРИОН. Изображаю индюка.
КЛОУНЕССА. Да, не слишком содержательно. Хотя индюк, выщипывающий себе гузку, – это смешно.
АМФИТРИОН. Смешно.
КЛОУНЕССА. Теоретически смешно. Лиха беда начало.
КЛОУНЕССА. Что ж, пойду подберу для вас новый наряд. (Уходит.)
АМФИТРИОН.
А индюшки – глю-глю-глю
А барашки – бе-е-е!
Повторяет. Входит Алкмена.
АЛКМЕНА. Ха-ха-ха! До чего забавный! Ха-ха-ха! Барашки, индюшки!
АМФИТРИОН. Эта башка кое-что еще варит. Пытаюсь ее прочистить!
АЛКМЕНА. Ну что ты несешь!
АМФИТРИОН. Алкмена.
АЛКМЕНА. Хорошо, ты поищи здесь, а я пойду поищу у палаток, может, я его там обронила.
АМФИТРИОН. Нет, не оставляй меня одного!
АЛКМЕНА. Да отчего же! Так мы скорей найдем мой медальон. Знаю, не любишь ты его, но раз уж мы вернулись за ним, ищи!
АМФИТРИОН. Алкмена! Алкмена! Какой у нее счастливый вид! (Оставшись один, усаживается на сундук.)
Помню, было время, когда лучшее во мне еще могло раскрыться. Я много двигался, напевая, увязывался за первой встречной, провожал ее домой, не наблюдал часов, ничем не был связан, мог позволить себе все что угодно, хоть сутки напролет ползать по газону и жевать цветы с клумбы. И друзья мои тоже много говорили и ничего не делали. Я без всяких усилий обзаводился ими, просто мы ходили одними тропами, танцевали одни танцы, те, что были в моде в ту пору, пользовались одним одеколоном – в таких маленьких флакончиках, – были привязаны друг к другу, в тридцать лет рассуждали о смерти. Иные и впрямь взяли и оборвали свою жизнь в этом возрасте, не оправдав многообещающего начала. А что сталось с прочими?
Я дорожил ими, меня одолевали мечты о небывалом, друзья снисходительно вступали в храм утопий и дружбы. Больше всего я любил ветер, а еще плакать в тот час дня, когда начинает темнеть. Я легко заговаривал с незнакомцами, во мне ценили некий шарм с налетом печали, проницательный взгляд, невразумительные речи. Порой одной лишь ночи было по силам умерить мои экстазы – старомодной музыкой или, напротив, новомодным костюмом. Ощущать в себе возможность любого предначертания, считать себя божеством неги, бережно относиться к становлению личности… Лучшее во мне еще могло раскрыться, но с равным успехом я мог и не преодолевать заданную мне планку, отказаться от существующего порядка вещей, повернуться спиной к дороге и со всего размаху кинуться в пустоту со всеми ее утесами, страховочными веревками и реками, уносящими злых сирен.
Поистине я пребывал в утробном состоянии: покачивает, тревожно и сладостно одновременно, небесные светила выстроились в ряд, желая взглянуть на мои оргии. Но однажды я проснулся, и всему этому настал конец. Отчего и как это случилось, я не знаю. Еще накануне я выступал в кафе в пантомиме и моей мечтой было даже не поесть, а хотя бы выпить, отдаться на волю случайных безумств, словно совершая духовное упражнение для идиотов и побежденных, а с наступлением ночи исчерпать все прилагательные, повстречать дебютантов, посмеяться над претенциозными эпитафиями, модными актрисами и недугом отцов.
О! Все еще было возможно, и лучшее во мне еще могло раскрыться. У каждого из нас были свои стихи-талисман, мы рассекали ночную тьму, прикрепив к груди страницу, вырванную из книги, и фотографию любимой. Разумеется, мы сражались с беспрестанным состоянием боевой готовности, были под обстрелом в войне, не называвшей нам своего имени, жаждали поэтических подвигов, нуждались в философском обмане, любили истину лишь из корыстных побуждений. Кем они были, мои собратья той поры? Все канули в небытие. Обретая в претенциозной словесности своего юного сердца те мысли, что казались мне возвышенными, я презирал их, одновременно любя, и, поднимая раненой рукой бокал, увенчивал себя самой дивной сиренью!
О пора опасных грез! У нас отрастали рожки и копыта, но мы были столь прекрасны, что обезобразить себя было радостью, без которой не обойтись!
Я очнулся от сна, и всему пришел конец. Все устроилось, поскольку сердце ведало меру, и, входя в кафе, я перестал испытывать головокружение от мысли: «Куда заведет меня сегодняшняя ночь?»
Я прикалывал свое любимое стихотворение к красному пальто и твердил, бредя наудачу:
На свете есть цветы и женские лобзанья.
Есть лес, в который можно углубиться.
Есть пруд, в котором можно утопиться.
Так что за дело нам до похвалы иль порицанья?
Входит Клоунесса.
КЛОУНЕССА. Расскажите., как вы себя потеряли?
АМФИТРИОН. Я думал, в любое мгновение можно снова себя обрести.
КЛОУНЕССА. Я подобрала для вас нос и балетную пачку. Производят жалкое впечатление – как раз то, что нужно.
АМФИТРИОН. Моя жена вернулась.
КЛОУНЕССА. Решайся! Наряжаться сумасшедшим или нет. Еще есть время.
АМФИТРИОН( переодевается).Я делаю это скрепя сердце. Хочу навеки умолкнуть.
КЛОУНЕССА. Если желаешь, братец Пим-пим, безголосый дружок, я подыщу тебе шляпу, чтобы у тебя не мерзли уши, когда мы отправимся в Бретань. Скромный головной убор довершит твой нелепый наряд. Ну-ка повтори свой индюшачий танец. (Уходит.)
Он остается один. Увидя что-то на земле, нагибается, поднимает медальон Алкмены, целует его и надевает на шею. Входит Скелетсо шпагой на боку.
СКЕЛЕТ. В любом наряде узнаваем. Хорош бродяга! Глотатель шпаг одолжил мне шпагу, а ну как изрублю тебя на кусочки!
АМФИТРИОН (убегает).Я ни в чем не виноват.
СКЕЛЕТ (обращаясь к публике).Беги, беги, я тебя все равно догоню! (Убегает.)
Появляется Никола.
НИКОЛА. Удрал! Чем же мне теперь поживиться?
Входит Алкмена.
АЛКМЕНА. Вы случайно не видели небольшой позолоченный медальон?
НИКОЛА. Видел! Он лежал вон на том большом сундуке!
Она выходит. Появляется Чародей. Николапринимает его за Амфитриона.
Извините! Это я так, для смеха.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Это я, идиот!
НИКОЛА. Хозяин!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Где она?
НИКОЛА. Пошла туда!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. А он?
Входит Женщина-змея.
ЖЕНЩИНА-ЗМЕЯ. Ты не в своем уме, тем хуже, таким я тебя и люблю, мне по душе поцелуи умалишенных.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Вы ошиблись, сударыня, у меня лишь его обличье!
ЖЕНЩИНА-ЗМЕЯ. С меня и обличья довольно!
Он выходит, она устремляется за ним. Входит Алкмена.
АЛКМЕНА. Не нашла!
НИКОЛА. Попробуйте разузнать у Женщины-змеи, она пошла туда.
АЛКМЕНА. Спасибо. (Выходит.)
Появляется Амфитрион.
АМФИТРИОН. Сейчас я тебя поймаю, и ты вернешь мне мои денежки!
НИКОЛА. На помощь, он настоящий!
Выбегают. Входит Скелет.
СКЕЛЕТ. Не догнал. Ну ничего, никуда он не денется, не уйдет от моей шпаги по прозванью Дюрандаль. (Выходит.)
Входит Клоунесса.
КЛОУНЕССА: Твой номер, Пим-пим?
Появляется Чародей.
Вот и ты, братец! Уже снял наряд!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Что?
КЛОУНЕССА. Увы, шляпы, которая была бы достаточно дурацкой, не отыскалось!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Ах вот как?
КЛОУНЕССА. Ну и олух!
Входят Скелети Женщина-змея.
СКЕЛЕТ. Вот он!
ЖЕНЩИНА-ЗМЕЯ. Я любила безумца, но не убийцу! Сейчас попотчую тебя своим удавом!
АМФИТРИОН / ЧАРОДЕЙ. Конца этому всему не предвидится! (Выходит.)
За ним увязываются Женщина-змеяи Скелет. Появляется Никола.
НИКОЛА. Уф! Убежал!
КЛОУНЕССА. Я вообще больше ничего не понимаю!
НИКОЛА. Никто больше ничего не понимает, эта история утратила какой-либо смысл!
КЛОУНЕССА. Предупреждать нужно!
Входит Амфитриони видит Никола.
АМФИТРИОН. Вот ты где!
КЛОУНЕССА. Гляди-ка, снова облачился в костюм сумасшедшего!
НИКОЛА. Все по новой!
Убегает, Амфитрионза ним.
КЛОУНЕССА. Что ж, раз он снова в этом костюме, пойду за шляпой. Вот ведь обрек себя человек на вечное молчание! (Выходит.)
Появляются Скелети Женщина-змея.
ЖЕНЩИНА-ЗМЕЯ. Идите сюда, Скелет, оставим неприязнь, пропустим по стаканчику, погоня пробудила во мне жажду. Зачем гнаться за тем, чего все равно не догнать?
СКЕЛЕТ. Ну и набегался я! Все кости болят!
Выходят. Появляется Амфитрион.
АМФИТРИОН. Кажется, стало поспокойнее. Теперь, когда мои враги отправились пропустить по стаканчику, решено: ни слова до самого конца.
Входит Алкмена.
АЛКМЕНА. Ах, не может быть! Откуда у тебя этот наряд дурака? Обхохочешься! Снимай и пошли. Я не нашла медальон. Тем хуже! Тем хуже! Молчишь? Ты что, язык проглотил?
(Целует его.)
Он прыгает в сундук и закрывает крышку.
Ну, поиграли и хватит! Поздно! Уже светает. Давай выходи, проклятый бесенок.
Входит Чародейв обличье Амфитриона.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Бух!
АЛКМЕНА. Ах! Ты меня напугал. Так и есть, двойное дно!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Что ты говоришь?
АЛКМЕНА. Фокус!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. А-а-а… Да.
АЛКМЕНА. Как печален твой взор!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Алкмена.
Усаживаются на сундук.
АЛКМЕНА. Полно ли твое счастье?
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Не говори ничего, поцелуй меня еще. Еще! Еще!
АЛКМЕНА. Ты прекрасен! И такой покладистый. Что случилось с нами этим вечером?
Что за ночь? Чудная ночь! Положи голову мне на плечо. Мне только теперь пришло в голову: все, что мне известно о мире, я узнала от тебя.
Родись у меня ребенок, он был бы не только твоим и моим, но и ребенком этой ночи.
Следовало бы наречь его именем этой ночи.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Или, наоборот, назвать ночь его именем.
Слышно, как в сундуке возится Амфитрион.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Земля трясется.
АЛКМЕНА. В сундуке кто-то есть.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Может, орангутанг.
АЛКМЕНА. Давай откроем и взглянем.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Обезьяны порой небезопасны.
АЛКМЕНА. А ну-ка встань!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Если я встану, он выйдет.
АЛКМЕНА. Ну да!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. А если это чудовище?
АЛКМЕНА. Ты меня пугаешь.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Обними меня в последний раз.
АЛКМЕНА. Мне страшно!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. В сундуке тихо.
АЛКМЕНА. Открой!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Открывай сама!
АЛКМЕНА. Я боюсь. Ты меня пугаешь! Отчего ты так на меня смотришь?!!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Прости меня.
АЛКМЕНА. Что-что?
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Какая чудная ночь.
АЛКМЕНА. Да что там такое?
Крышка сундука приоткрывается.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Крышка открылась. Смотри!
АЛКМЕНА. Кто это? (Подходит ближе и заглядывает в сундук.)Нет! Нет! Нет! Не может быть! Боже мой, неправда!
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. И все же ты видишь то, что видишь.
АЛКМЕНА. Этот клоун не мой муж.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. А я?
АЛКМЕНА. Тоже нет! Я не знаю! Скажи что-нибудь! Он плачет! Зачем заставлять меня так страдать?
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Выбирай, Алкмена.
АЛКМЕНА. Что я должна выбрать? И между кем? Между тобой плачущим и тобой, холодно взирающим на меня? Между тобой, подарившим мне эту ночь, слишком прекрасную, чтобы быть правдой, и им, не умеющим любить? Ты такой, каким надобно быть ему, зато он настоящий. Сомнений быть не может. Я узнаю его по чему-то неуловимому.
АМФИТРИОН/ЧАРОДЕЙ. Шутка слишком затянулась. ДАЙТЕ ПОЛНУЮ ТЬМУ!
Затемнение. Когда свет зажигается, Чародейснова становится Чародеем, а Алкменаи Амфитрионспят стоя, держась за руки.
ЧАРОДЕЙ. Приказываю вам спать! А когда проснетесь, сама эта история забудется, но дух ее пребудет с вами. Урок был вам на благо, я же научился любить вас обоих и с сожалением вас покидаю. Все ложь и обман, и тут и там. Твой пес, твой дом, твой сад, твои невзгоды и слезы… Взгляните на жалкие театральные декорации, фальшивые небеса из бархата и полупроводников, и они поведают вам о том же: все маска, все гримаса, пугающая, заставляющая смеяться, все обманка, рисунки на песке, вращение флюгера. Все пляски, устраиваемые ради развлечения Ее Величества Вечности.
Ты умрешь, Алкмена, но ощущение, что ты держишь в своей руке руку того, кого любишь, переживет тебя. Не теряй надежды возродиться. Смерть всего лишь горстка золота, которой оплачивают продажную ночь. Дерево зимой испытывает отвращение к самому себе, и все же в его пользу свидетельствуют ветки. Даже если ты в чем-то разуверился, продолжай верить, несмотря ни на что! Раны от уходов в мир иной близких когда-нибудь да затягиваются, а нетерпение, присущее нам в юности, становится чем-то из области ностальгии.
Никем не замеченный, входит Никола.
НИКОЛА. Учитель, вы говорите как по писаному!
ЧАРОДЕЙ. Никола! Ты больше не называешь меня хозяином?
НИКОЛА. Нет, учитель.
Чародейи Николавозвращаются в кибитку. Алкменапросыпается первой.
АЛКМЕНА. Да ты и впрямь спишь, я смотрю!
АМФИТРИОН. Да, сплю стоя!
АЛКМЕНА. Пойдем домой.
АМФИТРИОН. Пойдем, здесь жутковато.
АЛКМЕНА. Да.
АМФИТРИОН. Розочка, у меня твой медальон. Как это вышло?
АЛКМЕНА. Уже много лет ты не называл меня розочкой.
Выходят. Чародейи Николаприводят себя в порядок.
ЧАРОДЕЙ. Где будем завтракать, Никола?
НИКОЛА. В Финистере, учитель.
ЧАРОДЕЙ. Финистер! Да ведь это край света!
НИКОЛА. Учитель, можно мне спросить?
ЧАРОДЕЙ. Спрашивай.
НИКОЛА. Вы были близки с нею?
ЧАРОДЕЙ. С кем?
НИКОЛА. С Алкменой!
ЧАРОДЕЙ. Прекрасная Алкмена, не ведающая, что она прекрасна.
Гасят последние лампы. Входит Клоунессасо шляпой.
КЛОУНЕССА. Отыскала-таки шляпу для наряда сумасшедшего! (Видит, что она одна, и принимается грызть свой аккордеон.)
Свет гаснет.
Перевод Татьяны ЧугуновойOlivier Py, La nuit au cirque. © Editions Les Solitaires Intempestifs. 1 rue Gay Lussac 25000 BESANCON, France
Фабрис Мелькио
ТАК УЗНАЛ Я, ЧТО РАНЕН ТОБОЮ, ЛЮБОВЬ МОЯ
Сонет LXX
Tal vez herido voy sin ir sangriento
por uno de los rayos de tu vida
у a media selva me detiene el agua:
la lluvia que se cae con su cielo.
Entonces toco el corazòn llovido:
allí sé que tus ojos penetraron
por la regiòn extensa de mi duelo
у un susurro de sombra surge solo:
Quién es? Quién es? Pero non tuvo nombre
la hoja о el agua oscura que palpita
a media selva, sorda, en el camino,
у así, amor mio, supe que fui herido
у nadie hablaba allí sino la sombra,
la noche errante, el beso de la lluvia [11]11
Иду по следу, остужая разум,По тонкому лучу судьбы твоей.Река открылась в прореди ветвей,Дождь небеса обрушивает наземь.Сочится брешь сердечная дождями.Пронзил мои страдания твой взгляд,В больной душе глаза твои горят,Тьма шелестит, сливаясь с небесами.Кричу: «Кто там?» – но в сельве нет ответа.В молчанье листьев, и воды, и света —Я слышу лишь неразличимый звук.Я, оказалось, ранен был тобою.А думалось, косматый сумрак воетИ дождь звенит и шепчется вокруг.(Пер. С. Крюкова).
[Закрыть].
Пабло Неруда. Сто сонетов о любви.
Аэропорт.
Утро, дневной свет никак не может отделиться от ночных огней, которые все не гаснут.
На скамейке сидит мужчина, у его ног – небольшой красный чемодан.
Он ищет удобную позу, намереваясь вздремнуть, ерзает, никак не может решить, остаться ему сидеть или прилечь.
По залу ожидания идет женщина. Садится на ту же скамью. Она ставит у ног зеленый чемодан, а рядом на скамейку – магнитофон, на который кладет раскрытую ладонь.
На ней свитер с чересчур длинными рукавами, под стать свитеру – челка.
Время от времени быстрым резким движением она откидывает налезающие на глаза волосы, и всякий раз, как она это делает, приземляется или взлетает самолет.
Его она не видит.
Он смотрит на нее и с того момента, как она появилась, уже не пытается лечь.
ОН. Я смотрю на мальчишек, а они уставились на тебя и, глядя на тебя, чувствуют, как в них сквозь мальчишество прорастает мужик, он прет из глубины, точно зуб мудрости – все равно как поверх содранной кожи нарастает новая или постоянный зуб выпихивает молочный. Дон Кихот тот тоже смотрел – на мельницы.
Ты ж ни на кого не смотришь, тебе плевать, что мужики на тебя таращатся, что у них в горле пересохло, что они друг друга загрызть готовы, тебе все это до фени – ты села так, что скамейка не скрипнула, не то что я – я и сесть-то не успел, как она уж скрипеть принялась, короче, ты сотворила чудо, когда села, – ты даже дереву пикнуть не дала, ты заставила смолкнуть громкоговорители, ты вообще отключила звук всего, что вокруг – кто-то там носом клюет, кто-то в книжку уткнулся, они ни хрена не смыслят в чудесах, потому что, когда спят, они храпят, когда листают страницы – они их заминают и – о нет, тишина не для них, а ты – вот ты сидишь в двух шагах от меня, повернулась спиной – ну да, ты повернулась спиной…
Не то чтобы специально, просто так получилось, что ты оказалась спиной, – по мне, так лучше б ты сидела лицом, а то вижу только твой профиль, а все потому, что спал я какой-то жалкий час и того гляди меня кривошея скрутит, – а ты, ты откинулась на спинку скамейки – спинка-то у нас общая, а сиденья разные, – ты села и повернулась ко мне спиной, и повсюду воцарилась неземная тишина, и тут – о чудо! – я повернул голову и увидел твой профиль, профиль сороки-воровки, – при том, что спал я всего какой-нибудь час, да еще накануне набрался джина, а потом залил его вискарем – а Дон Кихот, тот с мельниц глаз не сводил, – и вот вам второе чудо: на твое чудо-молчание я отвечаю целым потоком шумных бестолковых слов, черт меня дери – а я ведь сразу на тебя глаз положил, Дульсинея ты моя, я твой рыцарь печального образа, а ты сидишь себе в профиль, в двух шагах от меня – ты ведь меня обокрала, освободила от бремени, которое еще вчера я волок за собой, и жизнь свою тоже влачил, а жизнь, она, представь, кое-что весит, девочка моя, особенно моя жизнь, которую я таскаю в этом красном саквояже, которую я приволок сюда, после всех возлияний в виде джина и вискаря, и часового сна в придачу, и вот я здесь, я…
Видишь, я перебросил руку через спинку скамейки, это чтобы лучше видеть тебя, сидящую в профиль, – ты ведь сорока, потому как ты меня, считай, обчистила, освободила от всего, что у меня оставалось в жизни, – этакий скелет с болтающимися на нем ошметками прошлого – вот чем я был – да, еще вчера я был скелетом с ошметками, и вот теперь…
А все благодаря твоему молчанию. Твое молчание – что мельницы для Дон Кихота.
А может, дело в профиле?
И в этой манере не видеть, что пацаны становятся мужиками, когда глазеют на тебя. Я так весь прямо какой-то обновленный – конечно, не в олимпийской форме, но чувствую себя обновленным и готов все бросить, абсолютно все.
Пауза.
Ни на кого не смотришь. Зато…
Зато твое отражение анфас в прозрачной стене аэропорта, пока я смотрю на тебя в профиль, твое отражение, запечатленное в прозрачной стене, оно как смутный рентгеновский снимок, и я даже слышу музыку, ловлю ее в твоем неподвижном профиле и в далеком отражении, она мне нравится, я узнаю ее.
Твое отражение тоже смотрит на тебя, как те пацаны и те мужики, и даже чувак, что сунул монету в автомат и тянется за бутылкой минералки, даже этот тюлень в расстегнутой перекошенной рубашке, этот урод со своей монетой – он пялится на тебя в упор, а потом краснеет, потому что все видят, как он в упор пожирает тебя глазами, тогда он опускает глаза и, отвернувшись, начинает ловить твое отражение в прозрачном стекле, как будто уже не может жить без тебя, не может оторваться от твоего образа, от твоего профиля, он тоже готов бросить все на свете – ради тебя, ради твоего отражения и так далее – фу, дай дух перевести.
Нет, говорю я себе, парень, который так легко краснеет, который заливается краской оттого, что его застукали, когда он втихаря облизывался на женщину в аэропорту, он, конечно, козел, но все же, говорю я себе, раз он краснеет до ушей, как ребенок, написавший в штаны, – не-е, не может он быть совсем уж козлом.
Чтой-то я, похоже, не в форме после вчерашнего, после джина, я имею в виду, с вискарем вдобавок и всего остального в придачу, – жизнь-жестянка доконала, и оста-лось-то у меня от нее всего ничего, так, мелочь одна, и считать нечего, это вам не математическое уравнение какое-нибудь, над которым три дня думать надо, то-то и оно. Но ё-моё, у меня, похоже, совсем крышу снесло: это ж надо, вылупился на урода с минералкой, а на тебя смотреть забыл, а ведь у нас одна спинка на двоих – сиденья, правда, разные. А что, а не пересесть ли мне? Подгрести эдак с другой стороны? Дон Кихот, у того губа не дура, он Панчо вперед бы выслал – а мне кого? А может, все ж таки попробовать? Подойти эдак да напрямик: привет, мол, красотка, а ты это нарочно пацанов в мужиков переделываешь, это у тебя дар такой? А имя у тебя имеется, а занимаешься ты чем, а летишь куда? Может, у нас есть что-то общее, ну пара пустяков каких или так вообще что-нибудь? А не купить ли тебе бутылочку минералки? А ты в курсе, что этот тип на тебя пялится, ну прямо глазами ест, и если я сел тут с тобой рядом, так чтобы защитить тебя от этого мерзавца в непотребной рубахе. Ты не боишься его? А меня не боишься?.. Да не, не боись, я не имею привычки приставать к женщинам в аэропортах, к тому ж если знаю, что мы на девяносто процентов загрузимся в один самолет, уж коль скоро сидим почти что на одной скамейке, так что мне было б не в кайф знать, что ты меня боишься, и дико бы мутило при взлете от одной только мысли, что я причиняю тебе неудобства или, может, напугал тебя, – а уж ежели к этому добавить мои вчерашние возлияния, все, что я в себя закачал, хотя я вообще-то не имею обыкновения мешать виски с джином, тут уж можешь мне поверить, нет у меня такой привычки, зато есть к женщинам отмычки.
Нет, конечно, я не имею в виду, что клеюсь к ним в аэропортах, но так, понимаешь, нагрузился вчера вечером и даже, можно сказать, ночью – вот-вот, считай что ночью, ведь я тебе говорил, у меня за душой всего какой-то несчастный час здорового сна, а утро, оно ведь продолжение предыдущей ночи, верно? А ночь моя, это один-единственный час, и его оказалось мало, чтобы осознать, что вот перевалил через рубеж, перескочил из ночи в следующий день, хотя какой это день – это все та же ночь, ты посмотри, детка, утро-то никак не займется, и наплевать, что на взлетно-посадочном поле машины потушили все огни, а ночная смена отправилась переодеваться, а то и вовсе залегла спать и на прилавках вонючих забегаловок рядком выстроились бодренькие чашки с кофе – ну и что из того? Если народу прибавилось, если столы измазаны маслом с бутербродов, все равно это ночь, и она влачит свое жалкое существование, как я влачу свое, и день тужится, чтобы зажечь свою вывеску, как я – чтобы назвать тебя деткой, при том что мне следовало бы величать тебя возвышенными словами.
Ты – моя Дульсинея, я – твой рыцарь печального образа, ты, играючись, разжигаешь у своих ног зарю, а еще собираешь пацанов, мужиков и волков, ты, сама того не ведая, – пастушка этого кретинского мира, в который я не могу погрузиться – только ногой трону, и уже нос потек, но в чем труднее всего тебе признаться, так это что я боюсь, боюсь сблевать, когда начну с тобой разговаривать, а все потому, что нарезался вчера до положения риз, а привычки к тому не имею, да и самолет в придачу и этот красный саквояж, от которого в глазах зелено, потому что в нем вся моя жизнь, – а ты, ты все смела, и мне нравится это повторять: ты все смела, так что сблевать значило бы все испортить.
Пауза.
Я не имею обыкновения разговаривать с женщинами в аэропортах. В других местах, впрочем, тоже. Даже со своей. С ней тем более – никогда не знал, о чем говорить, потому и сматываюсь теперь, что говорить не о чем и в этих молчаниях не было ничего таинственного, так что ты меня, по большому счету, застала в процессе исчезновения. Я уже исчезал, когда появилась ты и все смела: ты очистила меня от ненужных лохмотьев плоти, болтавшихся на скелете, – может, со временем они бы снова превратились в плоть, но что прошло, то прошло. Эх, прошло. И тут ты – впилась в мой скелет своим острющим клювом, а учитывая обстоятельства этой ночи, количество выпитого и пережитого… Представляю, какая у меня морда, боксер да и только, – я, поди, напоминаю тебе Шугара Рея, или Джорджа Формана, или Харрикейна Картера? Впрочем, я не против, чтоб ты думала о них, глядя на меня, один раз я даже купил себе футболку «I am the best» и спал в ней, это был XXL – видишь, какой ширины у меня плечи? Да только увы…
Глядя на тебя, я подумал о сороке, потому что ты сорвала лохмотья плоти с моего скелета и превратила рождающуюся горечь в золотые секунды, ты в считаные секунды очистила мой скелет. Я сказал, ты похожа на сороку, но ты могла бы быть любой другой птицей, большой хищной птицей, и ее название стало бы твоим вторым именем – я это говорю, чтобы тебя возвеличить и придать тебе веса, – да только ты ничего не весишь, потому что, когда ты села, скамейка даже не скрипнула. Я еще не научился с тобой разговаривать, поэтому краснею, я это чувствую и начинаю путаться, и чем больше путаюсь, тем больше краснею, – это у нас, пожалуй, общее с тем парнем, что хлещет воду, уж второй литр допивает, а сам все никак от тебя не оторвется, от твоего отражения в стекле – он же будет потом в сортир бегать всю дорогу – так ему и надо, – а вот я, дорогуша, я обеспечил себе тыл, я помочился перед выходом и даже зубы почистил и, признаться, нисколько об этом не жалею.
Не оборачивайся, он все еще на тебя смотрит, и рубашка у него расстегнута, а вот что у нас с ним действительно общее, так это что ни он, ни я – мы не законченные мудаки, потому как краснеем, а мужчина, не утративший способности краснеть, как ребенок, написавший в штаны, – такой мужчина не может быть окончательным мудаком.
Пауза.
Никогда я не осмелюсь с тобой заговорить.
Я на твой профиль-то едва решаюсь коситься.
Того гляди шею себе сверну.
А футболка «I am the best», я взял размер XXL, думал, меня это как-то взбодрит, в январе это было, такое вот я принял решение, потому как зарядка – это не для меня… а в качестве пижамы – почему бы нет.
Пауза.
Ты все время трясешь своей челкой, просто тик какой-то, привычный жест, повод все время смотреть на собственное отражение в стекле, смотреть на себя, ничуть не обращая внимания на пацанов, которые диковинным образом превратились в мужиков, едва только ты появилась, да что в мужиков – в волков: шерсть дыбом, клыки наружу и застыли как в столбняке; а тебе и горя мало, ты занята своей соломенно-рыжей челкой – не-е, Дон Кихот не стал бы посылать Санчо, он сам бы пошел, губа не дура, – это я тут…








