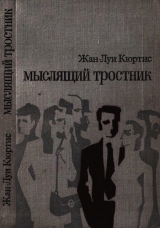
Текст книги "Мыслящий тростник"
Автор книги: Жан-Луи Кюртис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
– Тебе понравилось? – спросил Марсиаль жену, когда они выходили из кино.
Дельфина и сама не знала. Конечно, очень современно, артисты играли хорошо, красивые кадры.
– А мне не понравилось. Все это липа.
Он попытался объяснить, почему все это липа, но, так как никогда не занимался такого рода анализом, быстро запутался. Однако он хорошо чувствовал, что это подделка, дань моде, фильм, который через полгода не будет иметь никакого смысла, а может, уже и сейчас не имеет.
– Нет, липа, липа, – твердил он. – Только пыль в глаза пускают. Автор романа пишет героя с самого себя, но все приукрашивает. Он изображает себя куда более привлекательным, чем есть на самом деле, и, видимо, считает себя человеком исключительным, великим репортером, неотразимым соблазнителем, революционером да уж и не знаю кем еще? Пятнадцатилетнему мальчишке или какому-нибудь там жалкому неудачнику такие мечты простительны, но сорокалетнему мужику, да еще интеллектуалу! Если этот Реми Вьерон видит себя таким, значит, он не настоящий писатель. Я думаю, настоящий писатель видит куда дальше и куда зорче. Он смотрит на все с некоторой дистанции. Вот возьми, к примеру, Флобера. Он говорил: «Госпожа Бовари – это я». Это, наверно, правда, но он был к ней беспощаден, к своей Бовари! Поэтому она жива и сейчас. В общем, я не слишком-то умею объяснять такие вещи, но уверен, что не ошибаюсь. Нет, знаешь, чем больше я думаю, тем более ничтожным кажется мне этот фильм. Подделка.
Несколько секунд Марсиаль молча размышлял об этой картине и ощущал все большее разочарование.
– А все эти люди, которые считают себя солью земли! Жалкая компания молодежи, эдакая маленькая парижская мафия, которая пытается нас запугать… Мы, видите ли, должны распластаться перед ними, потому что у них якобы революционное сознание. Подумаешь! Межев, Сен-Тропез, девочки, виски… Чертовы лицемеры, вот они кто! Бездарности!
– Чего ты так разволновался? Право же, не стоит.
– Меня бесит, что наши дети попались на эту удочку. Заметь, мои слова они и в грош не ставят. А ведь пока что, во всяком случае, я умнее их. Может, со временем и поглупею, но пока… Однако они меня всерьез не принимают. Зато все, что говорит Вьерон, для них Священное писание… Приглядись хотя бы к Иветте. Она им увлечена. И учти, это в скобках, если этот тип – старый павиан, любитель недозрелых плодов…
– Ну, послушай, разве ты не доверяешь Иветте? Она сумеет за себя постоять.
– Суметь-то сумеет… Не говоря уже о том, что он, скорее всего, импотент или что-нибудь в этом роде. Такие вот субъекты, которые выдают себя за завзятых развратников, как правило, импотенты.
– Что-то ты невзлюбил этого беднягу. Признайся, уж не ревнуешь ли ты?
– Я? Ревную? Кого и к кому?
– Отцы часто ревнуют дочерей к их друзьям. Но это скорей симпатично. Даже мило.
В спальне Марсиаль сказал:
– Ну и задам я завтра своей секретарше. Ведь это она посоветовала мне посмотреть эту картину. И знаешь, что она сказала? У молодых теперь такой гонор, они такие наглые… Она сказала: «Вам, может быть, и не понравится, вы слишком стары».
– Да что ты! Так прямо и сказала?
– Ну, допустим, не совсем так. Она сказала: «Вам, может быть, и не понравится. Все-таки другое поколение». Но ведь это одно и то же.
– Нет. Так звучит менее оскорбительно.
Их кровати были вплотную придвинуты друг к другу. Они легли, и, как обычно, каждый взял с тумбочки свою книжку, но Марсиалю читать что-то не хотелось.
– И все-таки фильм представляет известный интерес, – сказал он. – Потому что показывает, что тревожит людей сегодня, что им нравится, как они представляют себе жизнь…
– Да, – сказала Дельфина, не отрывая глаз от книги. – Удовольствия и тщеславие.
Эти слова она произнесла машинально, как нечто само собой разумеющееся. Однако Марсиаля, казалось, они поразили.
– Верно, – сказал он. – Странно, как за такой короткий срок все изменилось.
– Не такой уж короткий. По меньшей мере за двадцать лет. После окончания войны.
– Да, с пятидесятых годов началось что-то другое.
Они умолкли и погрузились в чтение. Но вскоре Марсиаль положил раскрытую книгу себе на грудь. Засунув ладони под затылок, он сосредоточенно уставился в потолок. Минуту-другую спустя Дельфина повернулась к нему.
– О чем ты думаешь?
– Да так, ни о чем.
– Ты чем-то встревожен?
– Нет-нет… Пора спать. Спокойной ночи.
Он потушил лампу у своего изголовья и повернулся на бок. Через несколько минут и Дельфина погасила свет.
Ее разбудил звук, похожий на прерывистые всхлипывания. Она зажгла свет и увидела, что будильник на тумбочке показывает десять минут четвертого. Муж метался на постели и стонал, словно его мучила страшная боль. Испугавшись, она привстала, протянула руку, потрясла его за плечо. Он вздрогнул, открыл глаза и повернул к ней искаженное лицо.
– Что случилось? Тебе плохо?
Он не сразу ответил. Глаза его все еще были полны ужаса. Он провел рукой по лбу.
– Меня мучил кошмар.
– Ну, это еще полбеды. Ты меня здорово напугал! Я решила, что ты заболел. А что тебе снилось?
– Что меня хоронят заживо, – пробормотал он, заикаясь от страха.
– Какой ужас! С чего это вдруг такой сон? Тебе же вообще никогда ничего не снится.
– Откуда я знаю… Ах, это было чудовищно! – простонал он.
– Расскажи.
Он заговорил не сразу. Быть может, боялся вновь пережить ужас этого кошмара.
– Ну, так вот… Звонит погребальный колокол, как когда-то в Сот… Впрочем, кажется, все это и происходило в Сот. Да, тот самый звон. Так звонили, когда кто-нибудь умирал. Я спрашиваю: «Кто умер?» И вдруг вижу Феликса, одетого в белое, и он отвечает: «Ты».
– Феликс? Одетый в белое?
– Да. На нем было что-то вроде белой туники, белый стихарь, знаешь, как во время первого причастия. «Я?» – переспрашиваю. Воображаешь, как я был удивлен! «Да, ты», – отвечает он. Я возражаю, протестую. Кричу, что это ошибка, что я еще жив. Он качает головой и, прижав палец к губам, тихонько шепчет: «Т-с-с!» И тут я вижу тебя, всю в черном. Вдова, так сказать… Ты безудержно рыдаешь…
– Ну вот, – сказала Дельфина, полусочувственно-полунасмешливо. – Вот видишь, я была убита горем.
– Не шути! Это было ужасно… Потом приходят плотники и приносят гроб. Я ору как оглашенный. Кричу, что это ошибка, но они меня не слышат. Хватают меня, укладывают в гроб и закрывают крышку…
– Господи!
– И я слышу, как Феликс мне говорит: «Не огорчайся так, Марсиаль, это тяжело, но все скоро пройдет».
– Какой ужас!
– Еще бы! В жизни я не испытывал такого страха.
– А потом проснулся?
– Да, когда они начали завинчивать крышку гроба, – сказал он и вздрогнул всем телом.
Они помолчали. Потом Дельфина спросила:
– Может, заварить тебе липового отвара?
– Будь добра. Я теперь не скоро засну.
Когда она минут пять спустя вернулась из кухни, Марсиаль сидел в кровати, низко опустив голову и уставившись в одну точку. Таким подавленным она его прежде никогда не видела. Она подала ему чашку отвара.
– Все еще под впечатлением сна?
– Да… Но мне пришло в голову еще и другое…
– Что?
Он искоса кинул на нее тревожный взгляд, потом отвернулся и беззвучно проговорил:
– Мне осталось жить всего двадцать лет…
Дельфина была так удивлена, что на несколько секунд лишилась дара речи. Она пожала плечами и засмеялась:
– Ну и что?
– Как это ну и что? – воскликнул он чуть ли не с возмущением.
Она присела на край кровати.
– Но, Марсиаль, мы все в одинаковом положении, – сказала она умиротворяющим тоном. – Мы с тобой ровесники. Мне тоже осталось только двадцать…
– Это не утешение!
– Да что с тобой? Ты вдруг открыл – и лишь оттого, что тебе приснился страшный сон, – вдруг открыл, что не будешь жить вечно? Разве ты этого не знал?
– Нет, конечно, знал! Как и все это знают. Но только я никогда об этом не думал. Как-то не осознавал применительно к себе.
– А потом, почему ты говоришь – двадцать лет? Может быть, и тридцать, и тридцать пять, и даже больше.
– Допустим, я доживу до девяноста, все равно мне осталось только пятнадцать-двадцать лет полноценной жизни.
– Чего же ты жалуешься? Пятнадцать лет полноценной жизни – не так уж мало.
– Очень мало! – воскликнул он с негодованием; он явно был взбешен тем будничным безразличием, той вялой покорностью, тем преступным равнодушием, с какими жена приняла его внезапное открытие – это устрашающее откровение. – Погляди, сколько времени уже прошло с конца войны. Или вот взять хотя бы последние десять лет… Да мы и не заметили, как они пронеслись. Вспышка молнии! Так вот, если годы и дальше будут мчаться столь же стремительно, мы окажемся стариками, прежде чем успеем дух перевести…
Она покачала головой и нежно улыбнулась, сочувствуя мужу и вместе с тем забавляясь, – так выслушивают неразумные жалобы ребенка, который пустяковое огорчение переживает как трагедию.
– Если меня что и поразило, то только твое удивление, – сказала она. – Ты открываешь истину, известную от сотворения мира. И ты ею потрясен. Уверяю тебя, нечего расстраиваться.
Но она сама чувствовала, что язык здравого смысла, разума был сейчас неуместен. И она заговорила другим тоном, пытаясь его успокоить, объяснить, что с ним происходит.
– По-моему, это смерть бедняги Феликса произвела на тебя такое впечатление, правда с опозданием.
– Да, наверное. А ведь я тогда не раскис. Вспомни, в тот самый вечер мы смеялись до слез…
– Быть может, это была… своего рода защитная реакция. Когда вот так внезапно умирает близкий человек, стараешься сделать все возможное, чтобы выдержать Удар.
– Почему ты это говоришь? – спросил он, с подозрением поглядев на нее.
– Да это же всем известно.
По ее виду он убедился, что она имеет в виду только ночной пир у мадам Сарла, а не то, что ему предшествовало. Да и как бы она могла узнать о его тайном приключении на обратном пути?
– Только сегодня до тебя по-настоящему дошла смерть твоего друга, – продолжала Дельфина. – С месячным опозданием. Что ж, и такое бывает. Но, вероятно, подсознательно ты все время об этом думал. И постепенно мысль о его смерти пробила себе путь в твоем мозгу.
– Здесь дело не только в смерти Феликса, – сказал он.
– Разве? А в чем же еще?
– Последнее время я стал обращать внимание на некоторые вещи… Вот, например, у нас в конторе… Молодые служащие… Ну, не все, конечно, многие еще ведут себя почтительно… Но некоторые позволяют себе спорить со мной. И ты бы слышала, каким тоном! И если они пока не говорят: «Поймите, Англад, вы вышли из игры. Вы устарели, поэтому позвольте нам самим решать…» – то уж наверняка так думают. Или вот еще, скажем, сегодня вечером, когда я зашел к детям… Мне показалось, что они ужасно удивились, увидев меня, словно я втерся к ним и мое появление было чуть ли не непристойностью… Иветта была явно смущена. Когда ты пришла домой, она тут же мне это сообщила, чтобы я поскорее убрался. Не буду от тебя скрывать, меня это задело… Одним словом, вот так. Множество подобных мелких признаков. Симптомы, которые свидетельствуют о том, что я постарел… И потом, в довершение, этот фильм. Молодые люди – словно это какое-то особое племя, один Другого красивее и элегантнее, и равнодушные ко всему, что не есть они сами…
Дельфина слушала Марсиаля, глядела на него. Таким она его еще никогда не видела. Он всегда брал над ней верх, благодаря своей жизненной силе, кипучей жизнерадостности. Ничем его не проймешь. Он ведь даже, на донимал, какую боль может причинить и часто причиняет в своем сияющем эгоизме (но при всем том он был скорее добр, как подчас бездумно добры счастливые люди), так что порой она готова возненавидеть его. И вот тревога охватила эту легкомысленную душу… Как удивился бы Марсиаль, если бы Дельфина сказала ему, что его реакция – ребячливая или уж во всяком случае – не мужская. Он, который считал себя безупречным воплощением мужественности. Его юность прошла в драках и на футбольных матчах. Потом он храбро воевал в артиллерии. Его победам над женщинами нет числа. Что еще надо? Он был изнежен, как персидский кот, при малейшем насморке громко, без стеснения жаловался, а при одной мысли пойти к зубному врачу покрывался холодным потом. Но эти маленькие слабости не шли в счет при общей оценке его мужественности. Регби + война + женщины = мужчина. Настоящий. Математически точное равенство. Значит, тщетно было бы наставлять его на путь нравственного стоицизма. Да он бы и слушать не стал. Она была полна сочувствия к нему, но это было не сочувствие в чистом виде, а с примесью еще чего-то, чего именно, она затруднилась бы определить, быть может, чувства превосходства и какого-то снисходительного презрения. И уж наверняка это был для нее как бы реванш. Он так давно пренебрегал ею и, казалось, даже не догадывался, сколь оскорбительным было его отношение; так давно прошла его влюбленность, так давно перестал он уделять ей настоящее внимание, не считая традиционного семейного ритуала (подарков ко дню рождения и тому подобного), но и тут он не затрачивал душевных сил, просто таким образом проявлялось его доброе настроение, его благожелательность, распространявшаяся решительно на всех – на друзей, прислугу, консьержку, домашних животных. Она была почти уверена – эта уверенность пришла очень скоро и стоила ей немало мук, – что он ведет двойную жизнь, но не решалась жаловаться, щадя детей и желая сохранить домашний мир.
И вот веселый восточный деспот, которому все сходило с рук, вдруг заметил, что он не всемогущ, что его империи грозит опасность, – и он бросился к ней, ища защиты… Что ж, хорошо. Она сделает все, что надо, она заранее принимала и эту новую заботу, эту дополнительную ответственность, как уже приняла все остальное.
– Значит, ты все еще считал себя молодым? – спросила она ласкового чуть подтрунивая.
Он с испугом взглянул на нее, словно этот вопрос разом делал осязаемыми все его страхи.
– А по-твоему, это не так?
– Да нет, так, так! Конечно, ты уже не молодой человек, но еще человек молодой. Прежде всего тебе никогда не дашь твоих лет, ты сам знаешь. Все тебе это говорят. Ты крепко скроен, в отличной форме, полон сил. На что ты тогда жалуешься? Погляди на Юбера, он не намного старше тебя…
– Юбер… да он, наверное, уже в тридцать выглядел стариком!
– Ну, это еще не известно. Просто он больше поддался годам, вот и все.
Он допил липовый отвар и скривился.
– Больницей пахнет, – заявил он.
– Конечно!
– А ты, – сказал он, ставя чашку на поднос, – ты тоже иногда об этом думаешь?
– О чем? О том, что я уже не молодая? – Она улыбнулась. – У меня было достаточно оснований заметить это, поверь…
Он виновато опустил глаза.
– Я хотел сказать: думала ли ты о том, что нам осталось не больше, чем…
– Да. Но это не так уж важно. Мы все одним миром мазаны. Наши сверстники стареют вместе с нами.
– Но если вдуматься, то осталось так мало!
– Что ж, надо постараться жить настоящим. Слава богу, мы не знаем, когда… Тетя Берта процитировала бы тебе Евангелие. Вам неведом ни день, ни час… Это может случиться завтра или через сорок лет. В наши дни доживают до глубокой старости. Так чего же заранее волноваться? Живи сегодняшним днем, как, впрочем, ты всегда и жил.
Он покачал головой.
– Все равно, – пробормотал он, – думаешь, какой во всем этом смысл.
– В чем в этом?
– Ну, во всем в этом… в жизни… Почему она такая короткая? Почему так скупо отмерена? И если все обречены на этот глупый конец, то зачем мы вообще существуем на земле?
– Этот вопрос люди задавали себе и до тебя, мой бедный Марсиаль. Но в конечном счете, как, по-твоему, жизнь стоит того, чтобы ее прожить?
– Да! Поэтому-то я и хочу, чтобы она не прекращалась.
– Это был бы ад.
– Ты так считаешь?
– Ну конечно! Подумай сам… Нет, лучше не думай, не стоит. Попытайся-ка заснуть.
Но, по-видимому, ему меньше всего хотелось сейчас спать.
– Видишь ли, – начал он нерешительно, – я жил, не отдавая себе отчета в том, что жизнь должна кончиться. Про других это знаешь. Да и то об этом не думаешь, даже когда касается других… А себя самого считаешь как бы от этого огражденным… Огражденным от смерти, от старения. И вот в один прекрасный день вдруг начинаешь понимать, что и ты не огражден. Что и с тобой это случится… Случится с тобой! – повторил он недоверчиво, с изумлением. – Попадаешь в категорию людей… приговоренных к смерти, только с разными сроками исполнения приговора. Не могу тебе передать, какое это на меня произвело впечатление. Я… Я был…
Он искал слово.
– Возмущен? – подсказала она ему.
– Да, может быть… И так странно, я испытываю что-то вроде… стыда. Знаешь, я теперь понимаю, что должны были чувствовать прокаженные в средние века, когда ходили с колокольчиком… Уже всецело не принадлежишь к человечеству, уже…
– Послушай, все это абсурд, – перебила она его. – Что ты выдумываешь! Несешь невесть что! Постарайся-ка заснуть. Завтра ты обо всех этих глупостях и не вспомнишь.
Она наклонилась и поцеловала его.
– Так ты говоришь, в твоем сне Феликс был в белом стихаре, как во время первого причастия… – Дельфина засмеялась. – Наверное, он был хорош в этом одеянии…
Он поддался ее веселью и тоже засмеялся, правда, не очень уверенно, но все же… Она вздохнула. Ну вот, тревога миновала. А утро вечера мудренее.
Он потушил свет, но заснуть не смог. Тем не менее он лежал неподвижно. Ему казалось, что на него обрушилось несчастье: он ощущал, как в нем зарождался гнев, глухая злоба, как им овладевало чувство опасности и тревоги. Так прекрасное раненое животное чует в ночи неведомую угрозу.
Часть вторая
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Он проснулся в худшем, чем обычно, расположении духа, с чувством тревоги. Но тут же объяснил себе эту тревогу трудностями, возникшими в связи с одним довольно крупным делом, которое он вел, даже не подумав, что до сих пор дело это нисколько его не волновало – ведь оно было частью повседневных забот и неприятностей, с которыми он всегда отлично справлялся. Он позавтракал без аппетита, выругался, когда у машины из-за заморозков недостаточно быстро завелся мотор, и только у себя в кабинете, в присутствии мадемуазель Ангульван, вдруг вспомнил о своем страшном сне. И пережитое вчера потрясение, и мысль о том, что он тоже смертен, – все это разом нахлынуло на него, накрыло с головой, как огромная черная волна, и на несколько секунд пригвоздило к месту; он застыл, раздавленный тем, что отныне ему предстоит жить с этой мыслью в душе, с этим новым сознанием, с абсолютной уверенностью, что он на этой земле не навсегда, а только еще на двадцать, на двадцать пять, максимум на тридцать лет – если, конечно, ему повезет, если где-то у него в глубине уже не зреют инфаркт, рак или инсульт… Он был в ужасе, он взбунтовался, словно впервые понял, что его ждет конец, словно в том, что он заранее обречен на исчезновение, было нечто невыносимо непристойное. И он все повторял про себя то, что накануне твердил жене: «И со мной это тоже случится! Со мной! Я, я достиг того возраста, когда вдруг понимаешь, как мало осталось!» Он и прежде иногда думал о смерти, но мысль эта была абстрактной. Все знают, – что дважды два – четыре, что земля вертится вокруг солнца, что вода замерзает при температуре ноль градусов. Но эти истины никому не мешают жить. И для него смерть была одним из тех естественных явлений, которые общеизвестны, но тебя лично не касаются, потому что составляют часть знаний, полученных в школе, и возвращаться к ним нет никакой нужды.
– Ну и видик же у вас! – сказала мадемуазель Ангульван. – Что-нибудь случилось?
Он мрачно поглядел на нее и тут же почувствовал к ней ненависть. Она была молодой, она жила в вечности. Он сел и открыл папку, лежащую на столе.
– Что ж, даже «здравствуйте» здесь уже не говорят? Видно, встали не с той ноги…
– Добрый день, – сказал он сухо.
– Добрый день, – ответила мадемуазель Ангульван тем же тоном.
Марсиаль искал, что бы ей сказать понеприятнее, и тут же нашел.
– Ну и ерунду же мы смотрели вчера по вашему совету, – сказал он, метнув на нее гневный взгляд. – Никогда больше не буду советоваться с вами насчет фильмов.
– О каком это фильме вы говорите? – спросила она, подняв брови.
– О фильме, действие которого происходит в Межеве и где жена знаменитого журналиста кончает самоубийством, потому что ее муженек закрутил роман с одной юной красоткой. Забыл название.
– И вам не понравилось?
– Конечно, нет!
– Но ведь то, что вам этот фильм не понравился, еще не значит, что он плохой, – заносчиво возразила мадемуазель Ангульван.
– Но и то, что он вам понравился, тоже еще не значит, что он хороший.
– Я могу сослаться на ряд статей ведущих критиков.
– И это тоже ничего не доказывает. Не следует составлять себе мнение по газетным отзывам. И раз у вас нет собственного мнения, лучше вообще не высказываться ни о фильмах, ни о чем-либо другом.
Мадемуазель Ангульван была, казалось, ошарашена его словами. Потом нашлась:
– Что это вы так озверели сегодня? Сырым мясом завтракали? Неужели у вас такое дурное настроение из-за этой картины?
Он пожал плечами, не удостоив ее ответа.
– Мы можем, – продолжала мадемуазель Ангульван, – еще поспорить о фильме.
– Но только, прошу вас, не в рабочее время. В полдень в ресторане, сколько вам будет угодно. Дайте мне, пожалуйста, папку фирмы «Гурмон».
Она встала, выдвинула ящик картотеки, вытащила пухлую папку и чуть ли не швырнула ее на стол Марсиалю.
– Вот, – сказала она.
Они обменялись ледяными взглядами, словно двое убийц, готовых задушить друг друга; потом она села на свое место и неторопливо закурила. Она затянулась и с чуть слышным придыхом выпустила струйку дыма. Глаза ее горели.
«Если она будет продолжать в этом духе, выставлю ее в два счета», – подумал он.
Утро тянулось бесконечно долго. Часов в одиннадцать он попросил, сам не зная толком зачем, найти ему номер телефона министерства, где работал Юбер. Ему необходимо было сегодня же, без промедления, увидеть его. Юбер, что и говорить, зануда, подумал Марсиаль, но он все же принадлежал к роду человеческому или, вернее, к его мужской половине (в данный момент Марсиаль не принимал в расчет женщин, они были всего лишь неизбежным злом) и, наверное, думал над кое-какими вопросами, и ему можно было, несмотря на все, довериться. Марсиаль испытал острую потребность рассказать кому-нибудь об охватившей его вдруг тревоге, сличить свои новые ощущения с переживаниями человека, дальше его продвинувшегося по стезе страданий (Юбер ему всегда представлялся куда старше его самого, хотя разница в возрасте у них была всего в какие-нибудь полгода) и, возможно, нашедшего какое-то утешение.
Он снял трубку:
– Алло, это говорит Марсиаль… Как ты поживаешь?
– Да… Прекрасно… – В голосе Юбера звучало легкое недоумение. Ведь свояк никогда ему не звонил. Звонила всегда Дельфина, раз или два в месяц, «чтобы не терять связи». – А ты?
– Я тоже, спасибо. Я хотел бы тебя повидать.
– Меня? Когда?
– Хорошо бы сегодня вечером, – деловым тоном сказал Марсиаль.
– Так срочно?
– Да.
– Надеюсь, ничего серьезного?
– Нет, не волнуйся. В котором часу мы могли бы встретиться?
– Видишь ли, как раз сегодня мне не очень удобно. Мы обедаем в Монфор-Л’Амори. А домой я вернусь в пять…
– Хорошо, тогда я в шесть буду у тебя. Если твой обед назначен на восемь тридцать, мы вполне успеем поговорить.
– Ну, хорошо, – сказал Юбер, не устояв перед решительным тоном Марсиаля.
После этого Марсиаль сразу почувствовал себя лучше: он говорил как хозяин, подчинял людей своей воле. Он был в отличной форме. «В полном расцвете сил», – подумал он и несколько раз повторил про себя эти слова, словно заклинание. До полудня он с важным видом давал всевозможные распоряжения, но не с присущей ему обычной жизнерадостностью и небрежностью, а с мелочной придирчивостью и сухостью, бесившей его коллег и подчиненных. За спиной Марсиаля начали роптать.
В полдень в ресторане (в том же здании, что и их контора) он все же сел, как обычно, за столик с мадемуазель Ангульван и одним из директоров, но делал вид, будто не замечает присутствия секретарши, и обращался исключительно к своему коллеге. Однако за десертом он остановил на ней взгляд – так палач глядит на свою жертву, прежде чем ее обезглавить.
– Ну так что, – сказала мадемуазель Ангульван, – поспорим о фильме?
– Если хотите, – сказал он и тут же приступил к гневному разносу: он был к нему подготовлен вчерашним разговором с женой. Марсиаль сам удивился своему красноречию и находчивости, а больше всего – своей горячности. Точь-в-точь отец церкви, обличающий ересь. Сценарий он изложил в карикатурном виде, в два счета изобличил «леваков из высшего света», потом снова обрушился на «гнусных лицемеров», но на сей раз нашел для них лучшее определение: «тартюфы двадцатого века». Движимый злостью к мадемуазель Ангульван, он, не смущаясь, кривил душой. На ее возражение, например, что все кадры очень красивы (вчера он тоже так считал), он заявил, что, напротив, они ужасны: набор цветных почтовых открыток. Хотя он ровным счетом ничего не смыслил в технике кинематографа, он утверждал, что и в профессиональном отношении фильм «из рук вон плох», что «раскадровка» безобразная и что ни один «план» не удался (он поднабрался этих терминов, изредка проглядывая в газетах рецензии, хотя толком не знал, что они означают, но сейчас это было неважно).
– Слышите, нет ни одного удачного плана, ни одного! – продолжал он наступать, сам восхищаясь своей наглостью, потому что явно произвел впечатление на мадемуазель Ангульван.
– Я и не знала, – сказала она, – что вы так сильны в области кино.
– Пятнадцать лет я руководил киноклубом, это что-нибудь да значит, – заявил он, опьянев от бахвальства.
Его ненависть к мадемуазель Ангульван улетучилась, поскольку он сумел ее морально уничтожить. Великодушие к побежденным. И он стал с ней любезней. Выпив кофе, его коллега ушел. Марсиаль предложил своей секретарше сигарету и улыбнулся при этом самой обольстительной улыбкой.
– Так вы, значит, и не подозревали, что я кое-что во всем этом смыслю и могу доказать свою точку зрения?
– Честно говоря, нет. Вы меня удивили. Но не переубедили.
– Если бы мы с вами каждый день обсуждали такого рода вещи, я помог бы вам выработать верный вкус.
– У вас безумное самомнение, мсье Англад!
– У вас тоже, хотя и в другом плане, но оно не подкрепляется убедительной аргументацией. Вас ничего не стоит сбить с толку.
– Может быть, я просто менее резка, чем вы.
– Полагаю, вы вращаетесь только в кругу своих сверстников?
– Почему вы об этом спрашиваете?
– Потому что в том, что вы говорите, я слышу знакомые мне формулировки – они в ходу и у моих детей. Вы просто повторяете то, что говорят вокруг вас, что пишут в газетах и т. д. и т. п. Вы падки только на то, что модно. Да тут и нет ничего удивительного, – добавил он с грубоватой насмешкой. – С вашей-то фамилией! Ангульван[15]15
Ангульван (Engoulvent) – по-французски «птица-козодой», происходит от старофранцузского «engouler», что значит «заглатывать» и «vent» – ветер.
[Закрыть] – это ведь целая жизненная программа.
– Короче, я жалкий продукт потребительского общества, лишенный индивидуальности.
– Я не вынуждал вас это говорить.
Она оперлась локтем о стол, уткнув подбородок в ладонь левой руки, а в правой держала сигарету, на губах ее блуждала усмешка, она прищурилась и глядела на Марсиаля веселым глазом, явно забавляясь.
– А что я, по-вашему, должна делать, чтобы обрести эту индивидуальность?
«Ну вот, пошла крупная игра, – подумал он. – Я ее загарпунил». Он ощущал в себе силу сверхчеловека. Ах, он уже немолод? Ах, он смертен? Что ж, Посмотрите, каковы бывают иные старикашки…
– Взять себе в любовники зрелого, знающего жизнь человека.
– Вас, к примеру?
– Могли бы напасть и на худшего, – сказал он и улыбнулся той улыбкой, про которую говорили, что она неотразима.
– Не разрешите ли вы мне иметь свое мнение и по этому вопросу?
– А ну, признайтесь, – сказал он добродушно, – признайтесь, что я вам нравлюсь. – И ему вдруг показалось, что он – соблазнитель из американского фильма, чье кажущееся самодовольство (они ломятся напролом!) – лишь игра, юмористический прием.
– И не подумаю в этом признаваться!
(Да-да, она тоже видела себя как бы на экране: красивая секретарша, холеная, настоящий предмет роскоши, прекрасно владеющая собой, способная поставить на место чересчур предприимчивого босса. Аналогия была настолько навязчивой, что они даже говорили теперь, как говорят герои американского фильма, дублированного на французский…)
– Вот уже полгода, как мы флиртуем.
– Вернее, как вы пытаетесь флиртовать. Кстати, это выражение сразу выдает ваш возраст.
– А что, молодые его уже не употребляют?
– Нет, уже давным-давно.
– А как же говорят?
– Да никак. Просто не испытывают потребности называть то, что само собой разумеется. Когда друг другу нравишься, ходишь всюду вместе и живешь вместе, вот и все.
– Почему вы не смеете сказать и «спишь вместе».
– Смею! И «спишь вместе». Вот вам. Удовлетворены?
– А… много мальчиков вам уже нравилось?
– Этот вопрос не имеет отношения к работе. Я не обязана на него отвечать.
– Но мы же можем поболтать как приятели.
– Мы не приятели, мсье Англад, я ваша секретарша.
– А вне службы?
– А вне службы мы с вами просто знакомые, но не приятели.
– Из-за разницы в возрасте?
– Нет. У меня есть приятели примерно вашего возраста.
– А из-за чего в таком случае? Хотелось бы знать.
Она очертила сигаретой небольшой круг в воздухе.
– Это так, и все. Слишком долго объяснять. – И она вызывающе рассмеялась.
Он тут же снова ее возненавидел. Если она надеется одержать верх, то ошибается.
– Послушать вас, можно подумать, что вы считаете себя существом исключительным и дарите свою дружбу с большим разбором.
– В первом вы ошибаетесь, а во втором правы.
Ему захотелось оскорбить ее грубым словом, как булыжником разбить фасад ее надутой претенциозности.
– Не всегда вы будете такой разборчивой…
– Возможно, но пока я еще могу выбирать.
Она привстала, собираясь уходить.
– Вы из тех женщин, которые почему-то считают, что их женственность – бесценное сокровище… А ведь никаких особых оснований у вас для этого нет, – добавил он, растягивая слова. – Вы что, думаете, у вас это самое из чистого золота?
Мадемуазель Ангульван рухнула на стул и широко открытыми от ужаса глазами уставилась на Марсиаля.
– Мсье Англад! – воскликнула она глухим голосом. – Ох!..
Она встала, повернулась к нему спиной и пошла к выходу. Ее изящный силуэт приковывал его взгляд. Марсиаль следил за ней, пока она не скрылась в дверях. Он был слегка смущен, что не удержался от такой пошлой шутки. «Не надо бы…» Но, вспомнив, как исказилось лицо этой ультрасовременной, свободной ото всех предрассудков девицы, он даже порадовался нанесенному им оскорблению (вот бы посмеялся бедняга Феликс!) И Марсиаль улыбнулся в знак мужской солидарности и здорового мужского презрения к женской расе, от которой одни только беды.








