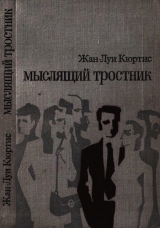
Текст книги "Мыслящий тростник"
Автор книги: Жан-Луи Кюртис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
В шесть часов Марсиаль зашел в кафе на Елисейских полях выпить аперитив. Там по крайней мере можно полюбоваться уличной толпой, почувствовать свою причастность к жизни.
Конечно, настоящей причастностью к жизни это не назовешь. Стеклянная стена террасы отделяла Марсиаля от прохожих. Точно космонавт из своей кабины, он наблюдал обитателей загадочной планеты. В каждом из этих безымянных прохожих был заключен целый мир зачаточных образов, побуждений и неоформленных мыслей: тут были и жалкие или чудовищные желания, и безумные мечты, и несостоявшиеся преступления. И все эти люди были охвачены лихорадочной суетой: встречи, замыслы, работа и досуг, еще более утомительный, чем работа. Преходящие пустяки они приравнивали к вечности. К 2000 году двух третей этих людей уже не будет на земле да и вообще нигде не будет. И нет среди них ни одного, чье внезапное исчезновение здесь, посреди улицы, хоть в отдаленной степени повлияло бы на ход мировых событий: человечья трясина тотчас сомкнется над крошечной пустотой, и никто ничего не заметит.
Марсиаль поужинал без всякого аппетита. Зато с умыслом много выпил – бутылку бордо, стакан водки. Он никак не мог решить, стоит ли ему пойти в бар на Бульвары, где обычно он находил женщин.
Он почувствовал, что и к этому у него пропала охота.
Вот так всегда. В воображении все прекрасно. Сулишь себе сказочные наслаждения, а на деле – разочарование, безразличие, унылая техника. Порой это даже становилось тягостной повинностью – ты и рад бы отказаться, да самолюбие, остатки уважения и просто внимание к партнерше побуждают тебя против воли идти до конца. Чего стоит плотский акт, если он лишен даже капли нежности и поэзии? Нет, право, у Марсиаля в этот вечер не было никакой охоты заново разыгрывать грустный скетч. Он пошел в кино посмотреть вестерн. «Да что толку-то! Если уж и любовь мне опостылела, что же мне остается?»
Марсиаль вернулся домой в одиннадцать часов. Слегка одурманенный вином, но главное усталостью и скукой. Он думал о том, как ему убить два пустых дня – воскресенье и послезавтрашний понедельник. А что, если взять да уехать в Сот-ан-Лабур? Нет, Марсиаль не решался вести машину ночью, да еще после обильных возлияний… Это было бы глупо. Марсиаль уселся перед телевизором – передачи продолжались еще час. Когда программа окончилась, он поднялся в спальню и, не раздеваясь, вытянулся на кровати. Нет, ей-богу, несправедливо, ужасно несправедливо оставить его одного на пасхальные праздники. Жена, дочь, сын… Он не заслужил, чтобы его бросили. Не так уж он провинился в самом-то деле!.. «Я вроде как Христос в Гефсиманском саду: всеми оставлен и знаю, что умру». Он скрестил руки на груди и, расслабив мышцы, вытянулся, как мертвец. «Вот так я однажды буду лежать…» Может, в конце концов, это не так уж страшно? Жизнь мало-помалу уходит, начинается медленный отлив. Наверное, в определенном возрасте человек иссякает. Возможно, даже отрешается от всего: от материальных благ, от привязанностей, от наслаждений. Мир покидает тебя прежде, чем ты его покинешь. Говорят, старики – как дети, живут настоящей минутой, они теряют ощущение времени. В конечном счете все очень просто. Не из-за чего с ума сходить. И все же странная штука жизнь. Неизвестно, как появляется и почему уходит. И нельзя объяснить, отчего я – это я, а не кто-либо другой. Никакого замысла, никакой цели, ничего. И когда меня не станет, ничто не изменится. Все в мире будет идти своим чередом. По-прежнему будет всходить солнце, А меня – навеки недвижимого – поглотит непроглядная ночь… Хуже того, я исчезну, улетучусь. Обращусь в ничто.
Марсиаль сорвался с постели, задыхаясь от страха. Конкретное представление о том, что его не станет, что он исчезнет, не будет существовать, поразило его в самое сердце. Конкретно представить себе, что тебя нет, – это немыслимо, невозможно. И однако Марсиаль почувствовал это всем своим существом, словно в каком-то мрачном озарении. Он выбежал из спальни, спустился на первый этаж и в кухне залпом выпил стакан арманьяка. Нет-нет, человек не создан для подобных предощущений – от них все летит в тартарары. С ними надо бороться всеми силами. Нельзя выламываться из рамок времени, с его постепенным изменением, преображением, возобновлением. И никогда, никогда нельзя утрачивать связь с другими, с живыми людьми! Никогда! Марсиалю захотелось позвонить кому-нибудь по телефону, чтобы услышать человеческий голос. Но кому? «Все разъехались… Разве Дюкурно… Но не могу же я звонить Дюкурно, да еще среди ночи… Уж тут он наверняка посоветует мне обратиться к врачу… К тому же он человек впечатлительный, заика – пока он будет мямлить, я обязательно повешу трубку». А что, если позвонить мадам Сарла? Вообще-то говоря, уже поздно. Тетя Берта встает и ложится с петухами, в этот нас она, наверное, спит глубоким сном. Стоит ли ее будить? Марсиаль вспомнил, что вечером перед сном тетка ставит телефон на ночной столик, чтобы в случае необходимости он был под рукой. С минуту Марсиаль колебался. А-а, в конце концов ей тоже будет приятно поболтать с племянником. Он снял трубку. Набрал номер междугородной. Ему ответили не сразу. Наконец он услышал гудки у мадам Сарла и обругал себя за бесцеремонность: будить среди ночи бедную старушку!.. Она испугается, решит – что-нибудь стряслось. И,в самом деле, голос мадам Сарла слегка дрожал, когда она отозвалась: «Алло». Марсиаль растрогался, услышав этот далекий, слабый голос с провинциальным акцентом. Растрогался и в то же время успокоился: мир вновь обрел устойчивость, угроза небытия отступила.
– Это я, Марсиаль! – почти заорал он то ли потому, что хотел сразу же успокоить тетушку бодрым тоном, то ли потому, что под сильным влиянием винных паров, считал необходимым говорить как можно громче, чтобы Покрыть расстояние в семьсот километров, отделявшее Сот-ан-Лабур от Парижа.
– Это ты?
– Я тебя разбудил, тетя? Прости, пожалуйста.
– Что случилось?
– Ничего, ничего. Не беспокойся. Все в полном порядке. Я просто хотел пожелать тебе доброй ночи.
На другом конце провода растерянное молчание.
– Значит, ты мне звонишь, чтобы… – начала мадам Сарла.
– Чтобы пожелать тебе доброй ночи. Поболтать немного. Услышать твой голос.
– В полночь? – спросила она со всевозрастающей тревогой. – Ты мне звонишь, чтобы услышать мой голос?
– А что тут такого? – закричал Марсиаль оглушительно и с задором. – У тебя, кстати, очень милый голос. Его приятно послушать.
На другом конце провода снова все смолкло. Потом мадам Сарла спросила сокрушенным тоном:
– Ты что, в уме повредился?
Марсиаль расхохотался:
– Да нет же, с чего ты взяла! Разве ты не рада, что мне захотелось с тобой поболтать?
– Нет-нет, отчего же, – неуверенно пробормотала мадам Сарла. – Но все-таки среди ночи… Звонить из Парижа…
– Любовь не глядит на часы, тетушка.
– В общем… Не знаю… Вы, парижане, чудные какие-то…
– Ну как, у тебя все в порядке? Ничего новенького?
– Захворал зверек.
– Который?
– Кошка. Семирамида. Она плохо себя чувствует. Вот уже два дня ничего не ест.
– Пригласи ветеринара.
– Наверное, я так и сделаю, если ей не станет лучше. Семирамида! – нежным голосом окликнула мадам Сарла. – Иди сюда, кисанька, иди… Проснулась, – пояснила мадам Сарла Марсиалю. – Смотрит на меня, бедняжка. Не понимает, что происходит.
– Ей, наверное, уже много лет?
– Гм, конечно, она не первой молодости.
– Ну а кроме этого, все хорошо?
– Помаленьку… А у вас?
– Представь себе, я один дома!
– Один? А остальные куда делись?
– Иветта уехала отдыхать, не знаю куда. Жан-Пьер тоже. А Дельфина удалилась от мира.
– Дельфина? Удалилась от мира?
– Да!.. Уехала на несколько дней в Турень, чтобы побыть в ашраме.
– Побыть где?
– В ашраме. Это нечто вроде… Ну, кружка верующих, что ли, во главе с мудрецом, понятно?
– Нет.
– Объясню в другой раз. А знаешь, я едва не прикатил на праздники в Сот.
– Вот как?
– Но не решился – ночью, на машине… Мне что-то не хотелось одному оставаться в Париже. Все разъехались. Людям нынче не сидится на месте, тетушка. Ты-то у нас мудрая… Тебе незачем удаляться в ашрам… А что ты делаешь завтра?
– В семь часов пойду к заутрене. А потом, как всегда… Семирамида! – позвала она. – Не бойся, кисанька, иди сюда, поближе к маме… Семирамида удивляется, с чего это я вдруг разговариваю среди ночи, – пояснила она Марсиалю свои реплики.
– А днем, если будет хорошая погода, наверное, пойдешь погулять?
– Пойду на кладбище… Ах да, я вам еще не успела рассказать, – добавила она скорбным голосом. – Бедняжка Фонсу совсем обвалился.
– То есть как это?
– От дождей… Две недели подряд дождь лил как из ведра. Он наделал много бед. Воды натекло столько, что на кладбище многие могилы пострадали. Там, где лежит Фонсу, земля осела сантиметров на восемьдесят Совсем обвалился, бедняжка!
– Не горюй, тетушка, можно подсыпать земли, – сказал Марсиаль, едва сдерживая смех.
– Само собой… Могильщик все сделает.
– А теперь погода хорошая?
– Превосходная. Уже весна.
– Представь, я едва не прикатил в Сот.
– Ты мне уже говорил.
– Но целую ночь в машине… Я и не решился… Не всегда получается так, как хочешь. Ну ладно… Очень рад был услышать твой голос. Надеюсь, тебе удастся заснуть?
– Да… А тебе? Ты здоров? Ты не слишком много…
Она не договорила, но Марсиаль понял, что она имела в виду.
– Нет-нет… Все в порядке. Не знаю еще, как я проведу эти два дня, но в общем-то… Там видно будет… Да, кстати, скажи, в котором часу он воскрес?
– Кто? – в живейшей тревоге воскликнула мадам Сарла.
– Христос, конечно!
– Ах, вот что, – с облегчением вздохнула мадам Сарла.
– Сейчас ночь на светлое воскресенье. Вот я и подумал, когда он воскрес – в ноль часов одна минута или около пяти утра… Ты не знаешь, в котором часу точно?
– Откуда же мне, бедной, знать? – спросила мадам Сарла не без досады.
– А в Евангелии это не указано? Я думал…
– В Евангелии сказано: «На рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб…»
– Неужели ты помнишь наизусть?
– И тогда им явился ангел и сказал, что Христос воскрес, но не сказал когда… Да и какое это имеет значение? Главное, что воскрес.
– Ты права, тетя, конечно… Ну ладно, не буду тебе мешать. Прости, что разбудил.
– Когда я услышала звонок, я подумала, не случилось ли чего… Кто, думаю, мне звонит в такой час?
– Бедняжка! Прости меня, ладно? Ну, спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
– И счастливых праздников! Целую тебя.
– Я тоже.
– Погладь за меня Семирамиду.
Марсиаль повесил трубку, немного воспрянув духом от этого разговора и даже посмеиваясь («Фонсу совсем обвалился!..»). Он вернулся на кухню, налил себе еще арманьяка, желая убедить себя, что, чем сильнее напьется, тем скорее и крепче заснет. Он стал вспоминать Сот, свое детство. Ему показалось, что по-настоящему жил он только в эти годы – примерно от пяти до двенадцати лет: время тогда стояло на месте и каждый день был безбрежным, как море… Марсиаль вздремнул, прислонившись головой к стене… Когда он проснулся, его поразила царившая вокруг тишина. Тишина пустого дома… До сих пор он никогда ее не замечал. Казалось, и снаружи все замерло, окаменело, погрузилось в безмолвие, словно уже наступил конец света и выжил он один, единственный человек на планете, отныне лишенной истории. Марсиаль вслушивался в эту зловещую тишину, нарушаемую только его шумным дыханием. Он вышел из кухни и поднялся наверх, раз-другой споткнувшись на ступеньках.
Теперь он был у себя в спальне, все в том же кольце тишины, от которой в душу заползал тоскливый страх. Марсиаль долго разглядывал себя в зеркале. Глаза. Влажная студенистая масса, и в пой мерцает что-то – неизвестно что… Кто это сказал, что, если пристально вглядываться в собственные глаза в зеркале, можно сойти с ума? Марсиаль недоуменно созерцал загадочное явление – двойника, от которого ему никогда не отделаться, маску, которая до самого конца жизни неотступно будет с ним, – его собственное лицо. Кто ты? Скажи мне, кто ты, и, может, тогда наконец придет избавление. Я избавлюсь от тебя и от себя самого. Кто ты? Может быть, всматриваясь в твои глаза, я найду наконец разгадку… Но существует ли она, эта разгадка? Я жду ответа от тебя, кого я никогда не видел да и не увижу, потому что ты – это я сам. Лицо… Но ведь тебя нет. Ты – лишь фикция, созданная моим взглядом. Ты – мираж, порожденный микроскопическим взрывом в недрах клеток какого-то неизвестного закоулка моего мозга. Мое отражение в зеркале, ты – всего лишь иллюзия. Да и само зеркало тоже. И эта комната. И дом. И люди, которые в нем прижились и которых теперь здесь нет. А может, их никогда здесь и не было? И вообще, существует ли мир вне меня? Может, он не более реален, чем это иллюзорное зеркало, отражающее тебя, мое иллюзорное лицо, которого я никогда не видел? Кто мне докажет, что я не выдумал все это? Кто докажет, что я не выдумал вообще все: то, чему меня учили в школе (вообразил, что учили…), то, что я читал в газетах (вообразил, что читал…), всю историю человечества от синантропа до космонавтов, от Вавилона до компьютеров, от пещер Ласко до Эмпайр Стейт Билдинг… Кто мне докажет, что я не один в ледяной ночи звездных пространств, где мне грезится, будто я – это ты, то есть я, Марсиаль Англад, существо, которое в эту секунду воображает себя на земле человеком среди людей, в определенный момент человеческой истории, абсолютно нелепой и абсолютно мнимой…
А что, если меня выдумал обезумевший бог?
Марсиаль резко отпрянул от зеркала, сердце его бешено колотилось. На висках выступил холодный пот. В течение нескольких секунд его искаженное лицо с открытым ртом и расширенными зрачками застыло в гримасе, как маска страха. Потом он с силой втянул в себя воздух – раз, другой. Мало-помалу он пришел в себя. «Честное слово, я, кажется, испугался, вообразив, что я бог». Быть богом еще хуже, чем быть ничем. Мы также не созданы для вечности, как и для небытия… «Что это на меня нашло? Марсиаль Англад – и вдруг бог!» Вот чем кончается чудовищное копание в самом себе… Смешно, и все же… Марсиалю смутно вспомнилось, как на уроках философии им рассказывали, что по теории некоторых философов для мыслящего существа нет иной реальности, кроме него самого. Называется это соллипсизмом. «И надо же мне было своим умом дойти до этой мысли да еще перепугаться насмерть!»
Марсиаль лег и в конце концов уснул. Ему почудился шум, приглушенные шаги, тихий скрип открываемой двери. Может, вернулся кто-то из домашних? Марсиаль сделал было попытку встать, окликнуть вошедшего, но ему так и не удалось окончательно стряхнуть с себя сон. В девять утра он с трудом продрал глаза. Отяжелевший, вялый, мучимый изжогой, он встал, вышел из комнаты и, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, открыл одну из дверей, выходивших на площадку, – дверь в комнату Иветты.
Прежде всего он увидел на полу бледную кисть руки с безвольно разжатыми пальцами. Ставни были открыты, и дневной свет проникал в комнату, резко высвечивая, как на газетной фотографии в отделе происшествий, брошенное поперек кровати, будто манекен, тело в одежде, поникшую на плечо голову, плеть словно бы вывихнутой безжизненной руки, остекленевшие глаза и на ночном столике – стакан, графин, металлическую коробочку.
– Ну так вот, значит, муж – американец, уже в летах, вдобавок человек замученный… Служба, коммерция… В общем, устал человек. А жена жалуется, что он ею пренебрегает. Хандрит. Как-то ночью она вдруг заливается слезами: «Что с тобой?» – спрашивает муж. Он проснулся и, конечно, не слишком-то обрадовался. «Джон, ты меня разлюбил», – говорит она. «Почему разлюбил? С чего это ты взяла?» А она плачет, разливается. «Прежде ты меня любил. Вспомни, какой ты был веселый, как, бывало, кусал меня в шею, за щеку и как это получалось мило. А теперь ты этого никогда больше не делаешь». Представляешь, удивление бедняги мужа. «Послушай, Патриция, неужели ты хочешь… Подумай сама, в нашем-то возрасте!» – «А что тут такого? – говорит она. – У любви возраста нет. Джон, сделай мне удовольствие. Укуси меня хоть разочек. Хоть один разочек, давай вспомним былые времена». – «Патриция, ты рехнулась! Время за полночь. Завтра мне рано вставать, у меня трудный день…» – «Джон, если у тебя осталась хоть капля любви ко мне, умоляю, укуси меня». Он понимает, что так просто от нее не отделаться, и покорно вздыхает: «Ладно, раз тебе приспичило…»
Приступ хохота помешал Марсиалю продолжать.
– А дальше? – спросила Иветта, блестя глазами от предвкушаемого удовольствия. – «Раз тебе приспичило»?
Давясь от смеха, Марсиаль закончил:
– «Зажги свет и дай мне зубной протез».
Четверо сотрапезников за соседним столиком повернули головы, привлеченные весельем этой пары: шумного мужчины – наверняка южанина, и молоденькой прехорошенькой девушки – очевидно, его дочери.
– Я тебя предупреждал, анекдот дурацкий, – сказал Марсиаль, отсмеявшись. – Но, по-моему, очень смешной… Ах, как приятно похохотать всласть. Я уж забыл, как это делается!
На десерт оба заказали мороженое.
– И пожалуйста, два кофе. Хочешь чего-нибудь выпить? Рюмочку коньяку? Или анисового ликера? – предложил он Иветте. – Решайся! У меня сегодня праздник. В первый раз мы с тобой, как приятели, обедаем вдвоем в ресторане… Ну, как насчет ликера?
Иветта согласилась. Она сказала, что обед удался на славу.
– Да, это одно из немногих мест, где еще хорошо кормят, – заметил Марсиаль тоном человека, который как свои пять пальцев знает Париж с гастрономической точки зрения. – Мы как-нибудь придем сюда с мамой и с Жан-Пьером.
Они переглянулись с улыбкой, оба немного смущенные.
– Если бы ты знала, – сказал Марсиаль, понизив голос, – как я счастлив побыть с тобой вдвоем!
– А я! – сказала Иветта.
– Стоит мне вспомнить… – начал Марсиаль.
Она остановила его едва заметным движением руки.
– Папа, ты мне обещал… – сказала она с умоляющим видом, сдвинув брови.
– Ладно, не буду… И все-таки! Так меня напугать… Да еще вдобавок в пасхальное воскресенье… Когда в городе никого нет. Не окажись на месте милейшего доктора Арно… – Марсиаль вздохнул, покачал головой. – Злая девчонка, – нежно проговорил он.
Иветта потупила глаза. Он окинул ее напряженным, почти страдальческим взглядом, точно заново переживал ледяной, клинический ужас апрельского утра три недели назад. Когда-нибудь он узнает правду о том, что произошло. Когда-нибудь, когда все забудется и Иветта сможет говорить об этом спокойно, как о глупом ребячестве. А до тех пор – еще довольно долго – Марсиаль ни о чем не будет ее расспрашивать. Подождет. Самое главное, что она здесь, что они оба, здравые и невредимые, здесь, в Париже, залитом солнцем первых майских дней.
Он сложил руки на краю стола и тоже опустил глаза.
– И подумать только, что я сам во всем виноват…
– Нет-нет, – прошептала она. – Папа, умоляю, не будем никогда к этому возвращаться.
Но видно было, что ему надо еще что-то сказать. Помявшись, он заговорил неловко, как школьник:
– Не спорь, я знаю, это моя вина… Все эти четыре, даже пять месяцев я был несносен. Даже не пойму, что на меня нашло. Какой-то кризис… Думаю, это смерть бедняги Феликса нагнала на меня страху…
– Но теперь ведь тебе лучше, правда? – заботливо спросила она.
– Еще-бы! По-моему, я в жизни своей не был так счастлив.
Он робко протянул руку и потрепал дочь по щеке.
– Знаешь, рай на земле – это быть с теми, кого любишь… По-моему, другого рая нет. Но ведь и то, что этот существует, уже великое благо, правда?
– Конечно…
Наступило короткое, слегка натянутое молчание. Официант принес мороженое. Это пришлось очень кстати. Они заговорили о Жан-Пьере и его невесте. Свадьба была назначена на конец июня. Иветта сказала, что, несмотря на немного развязные манеры, Долли славная. Марсиаль охотно согласился. Он заметил, что и Жан-Пьер изменился к лучшему. За три недели, пока Иветта болела, он был «на высоте». Вообще в глубине души люди куда лучше, чем им самим кажется или хочется казаться в глазах других. Надо доверять человеческому сердцу. Марсиаль с особым почтением сослался на Жан-Жака Руссо. Он признался, что он, Марсиаль, часто грешил чрезмерной строгостью и пессимизмом, но теперь в этом отношении совсем переменился.
– Видишь, – добавил он с лукавой улыбкой, – я как то хорошее вино, которое с годами становится все лучше. Когда-нибудь из меня получится очаровательный старикан.
– Ну, это будет лет через пятьдесят. С ума сойти, до чего ты молодо выглядишь! – сказала она.
– Да. Все так говорят. Впрочем, я и чувствую себя превосходно. За наше здоровье, – сказал он, поднимая рюмку с коньяком.
Расплатившись по счету, Марсиаль предложил:
– А что, если пойти в кино?
Иветта с восторгом согласилась. У нее было назначено свидание только в пять часов – так что времени предостаточно.
На Елисейских полях можно было посмотреть вестерн, эротический шведский фильм, какую-то французскую белиберду и фильм с участием Джерри Льюиса. Они без колебаний выбрали Джерри Льюиса и под руку спустились по Елисейским полям до кинотеатра «Элизе». День был очень теплый, почти жаркий. Цвели каштаны.
Бестолковый, развинченный, с нервным тиком, хрупкий, как тепличное растение, и крякающий, как целая стая уток, Джерри Льюис смешил их до слез. Этот сорокалетний подросток, быстрый как молния и преисполненный самых благих намерений, крушил все и вся на своем пути и из любых переделок выходил целым и невредимым. Через окно родильного дома акушерка показывала ему пятерых новорожденных. Джерри приходил в экстаз. Он умильно улыбался пятерым младенцам. Акушерка сострадательно покачивала головой и тыкала в него пальцем, чтобы объяснить, что это его дети. «Мои?» – в восторге кричал Джерри. Но через три секунды смысл этой мимической сцены доходил до него, он вдруг широко разевал рот, в ужасе косил глазами и падал в обморок. Конец фильма. Марсиаль утирал слезы смеха.
Ну и здорово… просто умора!
Они решили переждать антракт с рекламными фильмами и посмотреть вторую часть сеанса – документальный фильм и хронику.
Во всем мире происходили социальные потрясения. Вот в Латинской Америке полиция разгоняет толпу демонстрантов. Толпы палестинских беженцев переходят мост Алленди, ища убежища в Иордании. Напряженные отношения между Израилем и арабскими странами. В Лос-Анджелесе студенты тоже устроили демонстрацию в Университете Беркли. И снова вмешательство полиции. В Пекине – гигантский парад Народно-освободительной армии перед председателем Мао.
Они вышли из кино. Марсиаль был задумчив.
– Неужели на тебя не производят впечатления эти толпы во всех странах мира? – спросил он. – Лавины людей. Возбужденных. Агрессивных. Их становится все больше.
Иветта ответила: такова современная действительность – надо ее принимать такой, какая она есть. Ничего не попишешь. За несколько десятилетий наша планета превратилась в муравейник, который так и бурлит…
– Тебя это не пугает?
– Да нет. Почему я должна пугаться? Это мое время. И я его люблю.
– Я боюсь не за себя. За тебя. За вас. Я все ломаю голову над вопросом… Постой, сколько тебе будет в 2000 году?
– Столько же, сколько тебе сейчас, папа…
– Как подумаешь, чего только ни случится за эти тридцать лет… Боюсь, у вас будет нелегкая жизнь…
– Жизнь была тяжелой во все времена.
– Безусловно. Но все-таки людей было меньше. Поглядев на нынешние толпы, невольно говоришь себе, что личность… – Неопределенный жест. – Это море голов, фигур, похожих одна на другую…
– Все будет в порядке, – весело сказала Иветта. – Не волнуйся за нас.
– Ты права, бесполезно терзаться заранее.
Так как было уже около пяти, Иветта сказала, что сядет в автобус. Марсиаль решил пройтись пешком. До Отейя хорошим шагом около получаса. Ему полезно размяться… Подошел автобус.
– До вечера, дорогая. А если вернешься поздно, то до завтра. Попросить маму, чтобы она оставила тебе холодный ужин? Не надо? Ну, тогда до завтра. Желаю весело провести время!
– Спасибо за сегодняшний день, – она поцеловала отца.
– Дурочка! И ты еще меня благодаришь! – сказал Марсиаль. – Это ты доставила мне удовольствие.
Автобус тронулся. Иветта с задней площадки сделала прощальный знак отцу. Кончиками пальцев он послал ей воздушный поцелуй. И вдруг совершенно неожиданно для самого себя он откинул корпус назад, разинул рог до ушей и стал отчаянно косить глазами. Вылитый Джерри Льюис. Две проходившие мимо дамы в изумлении обернулись. Иветта рассмеялась. Марсиаль рассмеялся тоже и помахал рукой. Автобус постепенно удалялся, все шире открывая глазам Иветты перспективу Елисейских полей. Она провожала взглядом отца, который зашагал по улице. Сколько раз, бывало, когда Иветта и Жан-Пьер были детьми, и даже позже, он развлекал их, подражая Чаплину и другим актерам… И сейчас он разыграл этот цирковой номер наверняка для того, чтобы перекинуть мостик к прошлому, когда они были счастливы вчетвером, – перекинуть мостик к прежней радости жизни через мрачную пропасть минувшего полугодия… Как это похоже на него! Иветта невольно растрогалась, когда за столом он заговорил о том, что чувствует себя виноватым («бедный папа!»), и сказал, что рай на земле – это быть с теми, кого любишь… Только непосредственный южанин вроде него мог решиться, не краснея, выложить напрямик все, что у него на сердце и на уме. И хорошо, очень хорошо, что он выложил все – милый, ребячливый папа…
На этом расстоянии Иветта еще различала его черты, узнавала в нем Марсиаля Англада, бывшего регбиста, римского легионера в облике гасконского крестьянина, жизнелюба, эгоиста и добряка, отчасти горемыки, а впрочем, кто не горемыка на этом свете. Потом, по мере того как Марсиаль отступал в глубину величавой перспективы Елисейских полей, черты его становились все более расплывчатыми, словно невидимая властная рука стирала их, пока его лицо не стало стертым, как облатка с каким-то темным нимбом над ним. В густой толпе прохожих еще видны были очертания его фигуры, но это была уже безликая фигура, подобная множеству других фигур, которые двигались в разных направлениях по обоим тротуарам – муравейник, который так и бурлит… Примерно на половине пути Марсиаль Англад исчез. Стал просто одним из толпы. Кто-то. Какой-то. Некто. Никто. Смертный среди миллиардов других безымянных смертных.









