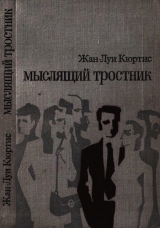
Текст книги "Мыслящий тростник"
Автор книги: Жан-Луи Кюртис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Он печально отхлебнул глоток коньяку.
Несколько минут спустя ему показалось, что его сосед повернулся и стал за ним наблюдать. Тогда он тоже на него посмотрел и обнаружил (до этого он не обращал на него особого внимания), что тот действительно очень молод, что ему лет двадцать, не больше и что лицо у него скорее симпатичное.
– Вы любите молоденьких девочек? – спросил сосед.
– Не слишком. Предпочитаю зрелых женщин, – ответил Марсиаль, который был счастлив нарушить свое одиночество. (А потом, всегда интересно потолковать о предмете с просвещенным любителем.) – Но иногда, для разнообразия, можно… А ты?
– О, я!.. – воскликнул сосед и, улыбнувшись, пристально поглядел на Марсиаля.
– Ты часто приходишь сюда?
(Неплохо бы получить от него полезные сведения.)
– Нет… Я чаще бываю на Левом берегу. Здесь, собственно, делать нечего. Зашел просто так, поглядеть…
– Так ты говоришь, что всем им надо платить? – спросил Марсиаль, указав подбородком на женщин, находящихся в зале.
– Да. Если вы ищете родственную душу, – сказал сосед, растягивая слова, – то вы не туда попали.
Его развязный тон звучал несколько нарочито. Казалось, молодой человек заставляет себя так говорить, чтобы показаться циником. Мальчишка, который выдает себя за видавшего виды мужчину. Марсиалю стало скучно. Задерживаться здесь не имело смысла. Он подозвал официанта и вынул бумажник.
– Вы уже уходите? – спросил молодой человек.
– Да, тут делать нечего, и уже поздно.
– Что вы, еще нет двенадцати.
– Тем не менее.
– Вас, может быть, ждут дома? – спросил молодой человек, которому явно хотелось продолжить этот разговор.
Марсиаль искоса взглянул на него. Его рассердило такое нескромное любопытство. Но по выражению лица молодого человека, эдакой смеси смущения и наивной наглости, он понял, что его собеседником движет не любопытство, а скорее приветливость, потребность в общении, в контакте. Да, мальчишка… Быть может, и он себя чувствует одиноким.
– Угадал, меня ждут, – сказал Марсиаль.
– Вы женаты?
– Да.
– А-а…
Он отвернулся и уставился в одну точку. Марсиалю показалось, что он уловил гримасу неодобрения, которая на миг исказила этот печальный профиль.
– Ты, верно, удивлен, почему я сюда пришел, раз я женат? – игриво спросил Марсиаль. – Знаешь, старик, доживешь до моих лет!..
– О, нет. Вовсе нет. Сюда регулярно ходят женатики… – Он снова, уже в упор, глядел на Марсиаля. – Вам, по-моему, и раскошеливаться не придется. Вы и так получите все, что хотите.
– Ты так думаешь?
– С вашей-то внешностью! – воскликнул молодой человек.
«Первые приятные слова за весь вечер», – подумал польщенный Марсиаль.
– Как вы здорово загорели, – сказал молодой человек, помолчав. – Отдыхали где-нибудь?
– Я был в Куршвеле…
– Повезло! Там уже снег?
– Еще бы. Великолепная лыжня.
– Вроде еще рановато для снега? Да?
– А все-таки снега навалом.
– Хорошо в Куршвеле? Я там никогда не был.
– Хорошо-то хорошо, да слишком изысканно, – сказал Марсиаль, презрительно скривив губу. – Я, пожалуй, предпочитаю Шамони.
«Что это на меня нашло?» – спросил он себя, несколько смущенный своим ребячеством. Выламываться перед этим незнакомым мальчишкой. Говорить о курортах, где и ноги его не было. Выдавать себя за пресыщенного плейбоя… Неужели он таким образом искупает в своих собственных глазах жалкое поражение, которое потерпел нынешним вечером? Право же, такая идиотская игра недостойна его.
– Вы хороший лыжник?
– Не бог весть какой, но все же…
– У вас спортивный вид, – сказал молодой человек и оценивающим глазом окинул Марсиаля с головы до ног.
– В свое время я играл в регби, – сказал Марсиаль, не в силах отказаться от удовольствия прихвастнуть.
– Регби?.. Ясно… Замечательно!
Воцарилось молчание. Марсиаль во второй раз пальцем поманил официанта, который в другом конце бара беседовал с посетителем. Молодой человек стал вполголоса подпевать музыке, громыхающей в зале. Вдруг он умолк и сказал:
– Если вам так уж нужна одна из этих цыпочек, это можно в два счета устроить. Двести монет, и все дела.
– Ты что, проценты получаешь? – грубо спросил Марсиаль.
– Я?.. Ну, знаете!.. Разве по мне это скажешь?
– Да нет… Но как знать…
– Я же о вас забочусь.
– Спасибо.
– У вас такой разочарованный вид…
– Ничуть не бывало. Меня это не интересует. Во всяком случае, не сейчас.
– Значит, уходите?
– Да.
Марсиаль в третий раз позвал официанта.
– Вы… Вы никогда не пробовали ничего другого? – сказал молодой человек нарочито развязным тоном.
– На что ты намекаешь? – спросил Марсиаль, повернувшись к нему. Он решил, что молодой человек, хотя по виду этого и не скажешь, все же сводник и предлагает повести его либо в какое-то злачное место, либо к своей собственной подружке.
– Бросьте притворяться, – сказал молодой человек с несколько смущенной улыбкой, – вы же все поняли… Одним словом, мальчики…
Марсиаль застыл от изумления, он даже на две-три секунды лишился дара речи. Первым его движением было влепить юнцу по физиономии, но он тут же отказался от этого, даже не успев замахнуться. Поначалу сработала инстинктивная боязнь публичного скандала. На какое-то мгновение Марсиаль представил себе драку – как из конца в конец зала летят табуреты, а к дверям подкатывает полицейская машина… Но тут же включился непогрешимый механизм, воспитанный спортивной этикой, fair-play[17]17
Честная игра (англ.).
[Закрыть], предоставляющей противнику время для объяснения, прежде чем он получит по зубам. «Минутку… Правильно ли я его понял?.. Нет ли тут ошибки?.. Действительно ли меня оскорбили? Если оскорбили, то я сейчас же дам в морду». Только слабые нападают, озверев от ярости, даже не разобравшись толком, в самом ли деле задето их достоинство. Сильные могут совладать с собой, выждать, а потом, если в этом действительно есть необходимость, переходят в наступление. Марсиаль был сильным или считал себя таковым, что, в конечном счете, одно и то же. Он мог одним ударом кулака свалить мальчишку на пол. Именно эта уверенность и удержала его от немедленных действий. Разом погрузневший от гнева, Марсиаль медленно повернулся на своем табурете, чтобы оказаться лицом к лицу со своим соседом, как человек, который требует объяснения. Взгляд его, очевидно, и впрямь был страшен, потому что молодой человек, вконец растерявшись, наклонился к нему, чтобы быть лучше понятым, и заговорил торопливо, почти шепотом, сбивчиво, с сильным придыханием:
– Не сердитесь… Я профессионал, это правда… Но с вас бы я не взял ни франка… Кроме шуток, вы мне очень нравитесь… Я буду делать все, что вы захотите…
Марсиаль молчал, ошеломленный, но бить теперь уже не имело смысла. Как поднять руку на того, кто объяснился тебе в любви, да еще заявив о своей полной покорности? С другой стороны, он вдруг сообразил, что является просвещенным гражданином XX века, многоопытным светским человеком (Куршвель, не правда ли…), которого ничем не удивишь. В эпоху сексуальной революции и все нарастающего эротизма, хеппенингов и наготы в театре можно ли негодовать на проявление влюбленности? Нет! Либерализм. Терпимость. Он был рад, что не ударил молодого человека. Это было бы поистине идиотским поступком, который раз и навсегда отнес бы его в разряд людей отсталых, ретроградов… Надо быть на уровне своего времени. Однако, поскольку Марсиаль еще не справился с удивлением и не мог вымолвить ни слова, молодой человек вновь заговорил все тем же тихим, но отчетливым шепотом:
– Поверьте, я с вас ничего не возьму.
– Да не в этом дело, – сказал Марсиаль.
Вид у молодого человека стал несчастный, растерянный.
– Может быть, я вам не нравлюсь? Вы находите меня недостаточно красивым?
Марсиаль едва заметно улыбнулся и сказал по-отечески благожелательно:
– Да нет… Меня это вообще не интересует… Ни ты, ни другие!.. – Он покачал головой. – Мужчины меня не волнуют, – добавил он.
– Но я же мальчик, а не мужчина!.. Это не одно и то же.
Марсиалю стало смешно, но он тяжело вздохнул, как бы говоря, что эта разница не имеет в его глазах существенного значения и ничего по сути не меняет.
– Вы никогда не пробовали?
– Нет, никогда, – ответил Марсиаль, но при этом слегка откинулся назад и прислонился к стене, чтобы уйти в тень – он почувствовал, что краснеет…
– Вы действительно не хотите?
Марсиаль покачал головой.
– Жаль, – сказал молодой человек. – Вы мне очень нравитесь.
– Так уж нравлюсь? – спросил Марсиаль бархатным от кокетства голосом.
– Да, и еще как! – Молодой человек уже больше не боялся, даже приободрился. – Вы как раз мужчина того типа, который я люблю. Вы вполне отвечаете моему идеалу… Нет, кроме шуток, вы на редкость красивы.
– Ну, это уж ты хватил через край, – сказал Марсиаль с добродушной скромностью (он вкушал нектар, он был наверху блаженства).
– Нет-нет, истинная правда, уверяю вас.
– Да я тебе в отцы гожусь!
– Вот именно, – простонал молодой человек. – К моим ровесникам я совсем равнодушен, лучше уж пересплю с девчонкой. Но если мужчина, то это должен быть настоящий мужчина, намного старше меня, которому бы я всецело подчинился, одним словом, отец… Понимаете?
– Понимаю, – сказал Марсиаль разочарованно.
– Надеюсь, я вас этим не расхолодил? – спросил молодой человек с тревогой.
– Я не был разгорячен, – твердо отрезал Марсиаль.
– Пожалуйста, не думайте, что я вот так кидаюсь на шею первому встречному… Мне очень многие делают предложения… Большинство я посылаю подальше… Вы мне верите?
– Да.
Молодой человек наклонился и зашептал ему что-то на ухо. Марсиаль слушал, вытаращив глаза. Его лицо выражало смятение и тревогу. Краска снова прихлынула к его щекам, он сидел весь пунцовый. Он сделал усилие, чтобы овладеть собой и успокоиться. И заулыбался со снисходительным, хотя и несколько напряженным видом, как взрослые улыбаются наивной непристойности ребенка. Молодой человек отстранился, словно ожидая ответа.
– Это интересно, – сказал Марсиаль откашлявшись. – Но все же… – Он развел руками. – Нет. Ты уж меня прости…
Наконец официант подошел. Марсиаль протянул ему купюру.
– Вы сюда еще придете? – спросил молодой человек, пока официант ходил за сдачей. – Я тут бываю всегда по пятницам, часов с одиннадцати. Мы увидимся?.. Подумайте…
– Уже все обдумано, – сказал Марсиаль, еще раз покачав головой в знак решительного отказа, словно с испугом. – Привет! Желаю удачи!
И Марсиаль протянул ему руку как мужчина мужчине.
– Жалко, что мы так расстаемся, – прошептал молодой человек, удерживая руку Марсиаля в своей.
– Возможно, но что поделаешь!
Марсиаль бросился к вешалке у двери, схватил свое пальто и стремительно выскочил вон, словно спасаясь от пожара.
Он был во власти странного смятенья, близкого к панике. «Ну и вечерок, – сказал он себе, стараясь обратить все в шутку. – Я ищу женщину своей жизни, рыскаю три часа, как голодный волк безо всяких результатов, более того, все время получаю щелчки в нос. И в заключение единственное существо, которое мне себя предлагает, оказывается мальчиком! Фарс, да и только! Словно какой-то мстительный бог, хитрец и садист, нарочно подстраивает все эти неудачи, забавы ради отказывая нам в том, чего мы ищем. А когда, истерзанные тщетными поисками, мы впадаем в отчаяние, он швыряет нам что попало, чего мы не хотим, чем не можем воспользоваться. Да, все это на редкость нелепо. Настоящий фарс!» И, шагая по тротуару, он улыбался, словно единственный след, который оставил в душе этот загубленный вечер, была ироническая насмешка над тем, как нелепо все вышло. Но в конце концов улыбка сползла с его лица – ведь он прекрасно понимал, что ломает комедию перед самим собой, чтобы не признать истинной природы своего смятения. Увы, ему никогда не удавалось долго себя обманывать, особенно в последние недели… С тех пор как он увидел смерть, он стал видеть и правду тоже. Эти горгоны оказались сестрами… А потрясшая его в нынешний вечер правда заключалась в том, что он испытал сексуальное влечение. К существу, которое не было женщиной. Пусть это длилось всего несколько секунд. Но в течение этих секунд, пока соблазнитель шептал ему на ухо, он почувствовал головокружение от раздирающих его противоречивых чувств: влечения и ужаса, желания и отвращения. Ведь в какой-то миг он вот-вот готов был уступить. Почему же он не уступил? Из страха, из смятения перед неведомым. И наверное, также из-за всемогущества морального запрета, табу.
«Почему мне сперва захотелось его ударить?» – размышлял он. Ответ был ясен: «Предлагая себя, он, видимо, считал, что я способен пойти на это, то есть готов переступить через табу». Но тогда что же получается? Что он вовсе не был, как всегда считал, эталоном мужественности, самым здоровым, самым безупречным созданием господа бога? Однако его мужскую силу и не ставили под сомнение. Речь шла о другом, о какой-то чудовищной ошибке в выборе предмета вожделения.
И было еще одно: воспоминание, которое пронзило Марсиаля, когда на вопрос молодого человека: «Вы никогда не пробовали?» – он ответил: «Нет, никогда». В тот момент кровь бросилась ему в лицо, ему пришлось укрыться в тени, чтобы не было заметно, что он лжет.
Воспоминание это относилось к той поре, когда ему исполнилось восемнадцать. В восемнадцать лет Марсиаль не был ребенком. Он был мужчиной в расцвете сил и уже поднаторел в любовных делах. И как-то раз, еще в Бордо, во время очередного кутежа произошло в силу стечения обстоятельств нечто неожиданное и странное. Когда за окном посветлело, стал виден беспорядок – обычный невинный мальчишечий беспорядок, который всегда царил в их комнате на двоих. Ни Марсиаль, ни тот, другой, не позволили себе даже намекнуть на то, что произошло в молчании этой ночью и с тех пор никогда больше не повторялось. Крики, тумаки, громкий хохот помогли им сделать вид, будто ничего и не произошло. Того случая как бы не было. Он был упрятан в самый дальний, темный уголок памяти. Там он и покоился… вплоть до нынешнего вечера. Более тридцати пяти лет сознательного забвения. И Марсиаль восхитился тем даром, которым обладает животное, именуемое человеком, просто-напросто исключать из своего сознания то, что мешает. Фрейд об этом все сказал. Надо бы перечитать Фрейда.
А пока, чтобы не терять времени, он на другой день отправился посоветоваться с более доступной Сивиллой по имени Юбер Лашом.
– Ну что опять стряслось? – спросил свояк. – Теперь ты чего бьешь тревогу? Что тебя смущает на сей раз?
Марсиаль без утайки или почти без утайки рассказал Юберу обо всем, что с ним произошло накануне. Он особенно упирал, пожалуй, не без доли самодовольства, на то, какими его осыпали комплиментами.
– Он сказал, что в жизни не встречал такого красавца, как я. Словом, любовь с первого взгляда! Врезался до потери сознания. Чудно, правда?
Юбер нахмурился, не скрывая досады.
– Право, не понимаю, – сказал он, – из-за чего ты так волнуешься? Случай самый банальный.
– Ты считаешь?
– Конечно! Некоторые подростки, так и не преодолевшие свой эдипов комплекс, – продолжал Юбер наставительным тоном лектора, – постоянно ищут замену образа отца. Для них проще всего реализовать этот невротический поиск, вступив в половую связь с мужчиной.
– Да знаю, знаю. Меня совсем другое беспокоит – дело не в этом юнце, а во мне самом.
– А при чем здесь ты? – удивился Юбер.
– По-моему, я тебе все объяснил. Ты даже не слушаешь, что тебе говорят.
– Извини, пожалуйста, слушаю. И к тому же, очень внимательно. Разве ты мне сказал хоть слово о себе?
– Я сказал тебе, что меня это взволновало.
– Да? – неопределенно отозвался Юбер.
– Неужели надо еще уточнять? Когда он стал нашептывать мне все эти штуки, я просто ошалел. На меня вроде бы нашло затмение. Ей-богу, я даже почувствовал… Словом, по-моему, ясно.
– Право, не понимаю, о чем ты беспокоишься, – сказал Юбер с учтивой улыбкой. – Наоборот, по-моему, это явный признак цветущего здоровья и молодости. Поверь мне, мой милый, многие наши сверстники позавидовали бы твоей способности воспламеняться с такой легкостью, где угодно, когда угодно, так живо реагировать…
– Но ведь это же не женщина! – в отчаянии завопил Марсиаль.
Юбер на мгновение смутился.
– Да, верно, – поразмыслив, подтвердил он. Но тут его вдруг осенило. – А, понял! – воскликнул он. – Ты решил, что в тебе, может быть, скрыто подавленное половое извращение, и испугался. Но ведь это же чистейшее ребячество, мой милый. Вся твоя жизнь доказывает обратное. Ей-богу, ты неподражаемо наивен.
– Но, черт возьми, чем тогда объясняется?..
– О, тут дело просто в том, что все мы в какой-то мере амбивалентны. Нам присуще что-то вроде скрытой бисексуальности. Ты, конечно, никогда не читал Юнга, а Юнг установил, что в каждом человеке заложено мужское начало – Анимус, и женское – Анима, причем в зависимости от пола и от индивидуальных особенностей одно более развито за счет другого. Но во всех женщинах заложен Анимус, и во всех мужчинах – Анима. Вчера вечером в тебе заговорила Анима…
– Да ничего подобного! – заорал Марсиаль. – Что ты такое несешь?
Он был возмущен. В весьма недвусмысленных выражениях он объяснил Юберу, что Анима, столь предприимчивая, столь могучая и необузданная (пусть даже только в своих намерениях), ну просто как у султана, – это уже никакая не Анима, если только вообще слова еще не потеряли смысла.
– Н-да, пожалуй, – согласился Юбер. – Понимаю твою мысль. Пожалуй, ты прав… Тут есть оттенок.
– Какой там оттенок! Я себя не чувствовал Анимой ни на йоту! Я был в высшей степени Анимус! Говорят же тебе – султан да и только!
– А ты не прихвастнул немного? – В голосе Юбера проскользнуло раздражение.
– Ничуть!
– Все-таки ни с того ни с сего, в баре, при первых звуках голоса сирены в брюках… Ну ладно, допустим. Тогда, значит, ты стал просто жертвой иллюзии.
– То есть?
– Для тебя сирена была женщиной. Только и всего. Он предлагал себя как женщина – вот ты и увидел в нем женщину… Это известная, описанная в науке иллюзия. Ты тут толковал о султанах, – добавил он ироническим тоном эрудита. – Вспомни, при них ведь недаром состояли молодые ичогланы. Вспомни также школы для юных эфебов в Древней Греции. Как видишь, мой друг, мы окунулись в мир классики! Не будем уж касаться поэтов, того, какие сокровища они черпали в двуликости отрочества. Вспомни шекспировских травести. Ты просто встретил Розалинду, переодетую мужчиной, и, сам того не подозревая, пережил шекспировскую феерию.
У Марсиаля отлегло от души.
– А знаешь, я примерно так и подумал, – объявил он. – И все же странное приключение. С тобой случалось что-либо подобное?
Нахмурив брови, Юбер потер верхнюю губу.
– Постой-ка, сейчас подумаю, припомню… Нет, никогда. Ни разу. Даже странно, если поразмыслить.
– Значит, к тебе никогда не приставали? – необдуманно брякнул Марсиаль.
– С чего ты взял! – возмутился Юбер, с вызовом вздернув подбородок (Марсиалю почудилось, что он так и видит, как оскорбленная Анима его свояка горделиво вскинулась). – В молодости и даже позднее! Конечно, приставали! Сотни раз! («Заливает».) Но я имел в виду, что ни разу не испытал ни малейшего волнения.
– И какой ты делаешь из этого вывод?
– Никакого. Просто констатирую факт.
– Очевидно, это означает, что у тебя не такой темперамент, как у меня. Что ты не такой чувственный.
– Какая нелепица! – Юбер был задет. – При чем здесь это!
– Да ты не сердись…
– Вовсе я не сержусь! Но оттого, что на тебя однажды случайно налетел вихрь гаремной похоти, вряд ли можно заключить, что ты более темпераментный, чем другие. В конце концов, что ты вообще знаешь о моей личной жизни?
– Ничего.
– Я не намерен исповедоваться, но поверь, насчет моего темперамента можешь не беспокоиться. Совсем не беспокоиться.
– Тем лучше, Юбер… Так или иначе, спасибо, что успокоил меня и на мой собственный счет. Понимаешь, – задорно добавил он, – моя жизнь и без того полна сложностей. Если еще, помимо обыкновенных женщин, мне придется уделять время шекспировским травести, я окончательно запутаюсь. У меня и так нет ни минуты свободной…
Марсиаль вдруг пришел в превосходное настроение. Тревога улеглась. Беспокоиться больше не о чем. «Я пал жертвой поэтической иллюзии…» И происшествие в баре, как в свое время «загул» в Бордо, отошло в милосердную тень забвения.
Однако от этого унизительного и странного вечера у Марсиаля осталось чувство смятения, распространившегося на все: все стало зыбким, люди внушали подозрение, принятые нормы морали оказались жалкими подпорками, разум ненадежным. И вообще, выходит, есть многое на свете и в человеческом сердце, что и не снилось здравому сотанлабурскому смыслу.
И в самом деле все стало зыбким. Марсиалю казалось, что устои общества расшатываются, рушатся. В минуты отчаяния он тешил свое воображение картиной всемирного самоубийства с помощью бомбы, бактериологической войны или еще какого-нибудь дьявольского лабораторного изобретения. А впрочем, зачем так далеко ходить? Всемирное самоубийство уже началось. Первым из его парадоксальных симптомов была оголтелая жажда жизни, которая выгоняла на дороги орды молодежи. Вторым – разгул эротизма. Сомневаться не приходилось. Мы свидетели всеобщего разложения нравов, по крайней мере на Западе. Народы западного мира, пресыщенные благоденствием, гибнут в культе наслаждений. За столом Марсиаль как-то упомянул о закате Римской империи.
– Избитое сравнение, – отозвался Жан-Пьер. – Впрочем, на сей раз ты попал в точку.
– Избитое, избитое… Для тебя все, что бесспорно и очевидно, уже избито. А я вовсе и не желаю оригинальничать. Я просто пытаюсь понять свою эпоху.
– Ну и прекрасно. Я же с тобой не спорю. Говорю, что на этот раз ты попал в точку.
– А я не согласна, – возразила Иветта. – Я вовсе не считаю, что мы живем в период упадка. Наше время ничуть не хуже конца XIX века, Директории или Регентства… Вспомни хотя бы скандалы времен Третьей республики.
– Ну, извини, это совсем другое дело, – сказал Марсиаль. – Панама или, скажем, афера Стависского – все это финансовые махинации. Это коррупция государственных чиновников, злостные банкротства. Мафия паразитов за кулисами власти. Но основная масса населения оставалась здоровой, работящей. Сегодня же весь общественный организм поражен до самого нутра. Мы переживаем кризис авторитета на всех уровнях. Все помышляют об одном – наслаждаться, ловить минуту. Все хотят быть потребителями…
Дельфина с удивлением посмотрела на мужа. Что это на него нашло? Вот уж кому не подходит корчить из себя моралиста.
Жан-Пьер вздохнул.
– Критика общества потребления… – протянул он. – Уволь… Это уже старо.
Марсиаль помрачнел. Бывали минуты, когда он не мог бы сказать по совести – любит он сына или нет. С тех пор как Жан-Пьеру минуло пятнадцать, отношения отца с сыном стали неровными. Марсиаль с трудом переносил развязность мальчишки, его зачастую наглые выходки. Он не узнавал себя в нем. Слишком они были разные. И говорили на разных языках. Между ними то и дело происходили стычки. Иногда само присутствие Жан-Пьера стесняло Марсиаля. Он был совсем не прочь, чтобы сын убрался с глаз долой. Куда приятнее остаться единственным мужчиной при двух своих женщинах. Наверно, отцовское чувство не столь глубоко, как обычно считают. «В конце концов, – размышлял Марсиаль, – кошки не узнают своих котят, как только те перестают в них нуждаться. У животных родительские чувства длятся всего несколько месяцев, а потом исчезают до следующего помета. Природа вовсе не требует, чтобы родители продолжали любить потомство, когда оно взрослеет».
Другое дело Иветта…
– А впрочем, – продолжал Жан-Пьер, – можешь не волноваться. Теперь уже осталось недолго.
– Ты имеешь в виду, что все сметет революция?
– «Это будет лишь только начало», – насмешливо процитировала Иветта.
– Что ж, тем лучше. Пусть придет революция! Плакать не буду.
– Ну уж, ну! – сказала Дельфина.
– Уверяю тебя, я лично плакать не собираюсь. Мне терять нечего. Наоборот, зрелище получится занимательное.
Он вспомнил, что мадам Сарла высказала сходную мысль, а он ее тогда еще упрекнул.
– Зрелище? – переспросила Дельфина. – Ну знаешь, веселые у тебя шуточки!
– Уверяю тебя. Не каждый день приходится видеть, как рушится старый мир.
– Может, это и так, да только время зрителей миновало, – заметил Жан-Пьер. – Зря ты воображаешь, что сможешь преспокойно любоваться этим грандиозным хеппенингом из своего окна… Хочешь не хочешь – придется стать участником.
– Ну и что ж такого. Стану.
– Сомневаюсь.
– Почему же это?
– Да потому, что ты еще ни разу в жизни не сделал выбора.
– С чего ты взял? Ты прекрасно знаешь – у меня есть политические убеждения. Я голосую. Исполняю свой долг гражда…
– Участвовать в выборах и сделать выбор – это не одно и то же. Ты голосуешь за левых центристов, как добрая половина французов, потому что это стало модным еще с 1936 года. Но принимать настоящее участие в борьбе – это совсем другое дело. Для этого тебе не хватает веры.
– То есть как это?
– Ты ни во что не веришь. У тебя нет четких взглядов на историю.
– У тебя, что ли, есть?
– Во время майских событий я доказал, на чьей я стороне.
– Это потому, что вместе с другими маменькиными сынками бросил парочку противоправительственных булыжников? А может…
– При чем здесь маменькины сынки?..
– Очень сожалею, но именно таких было большинство. Рабочий класс не дал себя одурачить. – Марсиаль обернулся к дочери. – А ну-ка, Иветта, что тебе сказал этот каменщик, когда ты на улице продавала «Анраже»?
Иветта рассмеялась при этом воспоминании:
– «Дуреха несмышленая»!
– «Дуреха несмышленая!» – с восторгом подхватил Марсиаль. – Рабочие на вашу удочку не попались. Они сразу поняли, что революция балованных сынков – не их революция. Они…
– Прошу вас. Никаких разговоров о политике за столом! – воскликнула Дельфина. – После обеда можете спорить сколько угодно.
Марсиаль сдержался. И дело обошлось без скандала.
Однако сын произнес фразу, которая запала в душу Марсиаля: «Тебе не хватает веры».
Марсиаля словно молнией озарило.
Ведь это же чистая правда!
Он вспомнил, что мадам Сарла уже упрекнула его примерно в том же, когда он провожал ее на Аустерлицком вокзале. «Если веришь в бессмертие души, меньше гонишься за суетой сует». Уже тогда Марсиаль мельком, вскользь подумал, что он человек без веры. И вот тот же самый упрек он услышал не от набожной старушки, а от современного юноши, представителя молодого поколения.
Об этом стоило задуматься.
Можно ли ни во что не верить и оставаться полноценным человеком?
Неужели вера помогает примириться с мыслью о том, что тебе суждено умереть? Несомненно. Если ты веришь, что тебя ждет загробная жизнь, смерть должна казаться куда менее страшной. Впрочем, если ты веришь, что войдешь в историю человечества, наверное, тоже легче проститься с жизнью. Философ, конечно, отверг бы столь утилитарный подход к вопросу. Если религиозные или гуманистические убеждения всего лишь лекарство от страха, грош им цена, ничем они не лучше наркотиков. А вдруг вера нечто большее? Ведь на протяжении всей истории человечества тысячи людей, преданные какому-нибудь делу, с легкостью отдавали за него жизнь. Они забывали о самих себе, их собственная судьба казалась им ничтожной по сравнению с идеей, которой они служили, – будь то партия, религия, революция, справедливость, демократия, будущее человечества… Этой идее, или, если угодно, этому кумиру, они подчиняли все остальное. Святое безумие придавало им силы перенести нищету и голод, преследования, а порой пытки и смерть. Какая же тайная пружина ими двигала? Может быть, любовь? Участвуя вместе с другими людьми в действе, которое преображало их жалкое личное существование, они чувствовали нерасторжимую связь с этими людьми. Но неужели можно до такой степени любить ближних? В этом Марсиаль сильно сомневался. И не потому, что не знал, что значит любить ближнего. Во время войны он испытал эту любовь в ее самой простой, естественной и непосредственной форме – в форме солдатской дружбы, которая иной раз толкает на героические поступки людей, в будничной жизни ничуть не склонных к героизму. До чего же легко было в Эльзасе или в Вогезах любить своих товарищей, даже рисковать для них жизнью! Никто никогда не говорил об этом вслух, но это чувство не покидало тебя, горячее, радостное, само собой разумеющееся. Поразительное чувство локтя. Именно поэтому многие мужчины, в том числе Марсиаль, вспоминали войну как счастливый период своей жизни. Но в мирной жизни – если можно так выразиться, в хладнокровном состоянии – быть альтруистом куда как труднее. Может, и впрямь пламя альтруизма пылает лишь в сердце великих реформаторов и вождей Революции? Интересно, что представляла собой любовь к человечеству у таких людей, как Фукье-Тенвиль, Робеспьер, Бела Кун или Марти? А впрочем, может, лучше не приглядываться.
Но вопрос не в том. Главный, первостепенный вопрос в том, зачем мы живем на свете; имеет ли наше существование на земле изначальный смысл и конечную цель, имеет ли смысл история человечества? Но допустим даже, что не имеет, разве не стоит над этим задуматься? И опять-таки можно ли считать полноценным человеком того, кого не волнуют метафизические проблемы? Не принадлежит ли он к нравственным ублюдкам? Марсиаль решил, что его собственное развитие еще не завершилось. Слыханное ли дело! Ему осталось жить каких-нибудь тридцать лет, а он еще даже не успел повзрослеть! Мало соблюдать диету и гоняться как угорелому за великой любовью. Мало читать Фрейда. Не худо бы перечитать и Паскаля.
А что, если вера вдруг налетит на Марсиаля как вихрь? А что, если он найдет свою дорогу в Дамаск? Необузданное воображение Марсиаля тотчас начало прокручивать фильм, посвященный его будущему обращению. Марсиаль провел ночь с проституткой. Просыпается он с мучительной оскоминой. Выходит на улицу. Раннее парижское утро. Жизнь, тихая, безмятежная, течет своим чередом. Вот он, ее мирный гул… Марсиаль устал. Ему стыдно за самого себя, за свой унылый разврат. Он присаживается на скамью в сквере у церкви Троицы. И вдруг – что с ним такое? Марсиаля душат рыдания, на глазах выступают слезы!.. Он падает на колени. Он видит, знает, верит, он обращен!.. В восторженном состоянии он возвращается домой. Полина – ох, прошу прощения, Дельфина – варит ему кофе. Марсиаль со слезами целует ее; и для них и в самом деле начинается настоящая vita nuova. Внутренняя сосредоточенность, подлинная нравственная чистота… Тут Марсиаль запнулся. Вот эта сторона обращения его ничуть не устраивала. Он не мог представить себе остаток жизни, лишенный радостей плотской любви. Нет, ясное дело – святым ему не бывать. Но зачем бросаться из одной крайности в другую? Абсолюта могут достичь лишь избранные. А все прочие устраиваются как умеют.








