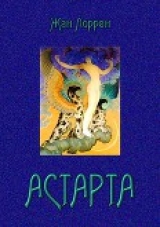
Текст книги "Астарта (Господин де Фокас)
Роман"
Автор книги: Жан Лоррен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Угнетение
Без числа. – Красота двадцатого века, очарование больницы, кладбища чахоточных и истощенных, – сказать, что все это я пережил! Хуже – я все это когда-то любил.
Чего только не было в моей жизни; я обладал кокотками оперы и шантанов, хрупкими монденками с беличьими мордочками, малолетними балеринами, захудалыми герцогинями – всегда утомленными и страждущими, морфинистками и меломанками, еврейками-банкиршами с ввалившимися глазами, маленькими певичками из шантанов, подбавлявшими за ужином креозот в шампанское; я даже не чуждался подозрительных субъектов с Монмартра, рекламировавших свой гермафродитизм. Считая себя снобом, я влюблялся в угловатых подростков – сухопарых, скелетообразных – я любил эту странную смесь фенола и пряностей, нарумяненной немощи и невероятной утонченности.
Словно дурак, я верил этим хищным и разлагающимся губам, и словно простак – сладострастно раскрытым глазам целой кучи существ, болезненных, алкоголичных, циничных, практичных и коварных. Глубокий взор, загадочность губ, посредством притираний, мыла и туалетных вод, сообщали одним из них сводни в бриллиантах, другим – маникюрши; и эфироманка Фанни, взбодренная по утрам искусной дозой возбуждающей колы и кокаина, употребляла эфир только для своих носовых платков…
И все одно надувательство и «фальсификация» – если говорить на их грязном жаргоне. Их фосфоресцирующая гниль, их поддельная страстность, их лесбиянские клейма… – пороки, афишированные для привлечения клиентов, испорченность для молодых и старых любителей развратных нравов! Все это пенилось и сверкало лишь в те часы, когда вспыхивает газ, в кулуарах шантанов и скотской обстановке баров; и как под английской жакеткой, так и в костюме велосипедистки, вся эта кричащая выставка исступленной бледности, изощренного порока и анемии прожигателей, все очарование блеклых цветов, воспетых Бурже и Барресом, – все это было лишь заученной ролью, сто раз разыгранной, сто раз прочитанной главой из бульварного романа, обработанного ловкими своднями, уверенными в грязных вожделениях самцов и в своих способах воздействия на расслабленный организм покупателя.
Подумать, что и я любил также этих дрянных и нездоровых зверьков, этих поддельных Джоконд и Примавер, выброшенных на улицу мастерскими художников и кабачками эстетов.
И эти намозолившие глаз «травести» – мужские костюмы на тощих бедрах и на затянутых в корсет торсах, эти премированные уродины бульварных кабаков, – Нина Грандьер – с ее фальшивою кукольностью и эта Иветта Гильбер, похожая на привидение в своих длинных черных перчатках!..
Но теперь с меня довольно ужаса этого кошмара! Как мог выносить я его так долго!
Тогда я еще не подозревал о таящейся во мне болезни. Она таилась во мне, как пламя под пеплом. Я лелеял ее в себе… Может быть, с самого детства, ибо она всегда жила во мне… но я этого не знал!
О! это Голубое и Зеленое, явившееся мне в кристаллах некоторых камней и в еще более кристальных взорах некоторых портретов, – скорбный изумруд драгоценностей Барукини и тот же изумруд в нарисованных глазах, все еще для меня неясный! И если я столько страдал от моей неспособности любить женщин, это было потому, что ни одна из них не обладала этим взглядом.
Пятница, 3 апреля 1895 г. – Злая молитва:
Благословлю твои уста, их грешное томленье;
В них запах алой розы свеж, и внятен запах тленья,
Они впитали темный сок цветов и тростников,
В их говоре звучит далекий ропот тростников,
Порочный твой рубин, горят холодные уста,
Как рана смертная распятого Христа.
Сегодня в Страстную пятницу желание пережить настроение детства или вспомнившаяся привычка повлекла меня к обедне в Нотр-Дам; мне захотелось освежить… (о, если бы я мог ее стереть) мою пылающую рану в прохладном сумраке церкви; и, слушая латинские тексты, скороговоркой читаемые священником, – сколько я ни старался следить за ними по молитвеннику, меня преследовали ужасные стихи Реми де Гурмона, которые мои губы нашептывали, как слова ласки или как слова проклятия.
Благословлю твои стопы, их путь всегда порочный,
Их обувь легкую в притонах оргии полночной.
Они взбираются тайком на плечи бедняков,
И топчут самых чистых, самых кротких бедняков.
В подвязке пряжка – аметист, и глубь его чиста,
Как дрожь предсмертная распятого Христа.
И хотя погребальная служба оплакивала смерть Христа; но в ропщущей тишине церкви, обращенной в Гробницу, мне слышались только злые антифоны поэта…
Благословлю твои глаза, и взгляд их ядовитый.
В них призраки живут, и злость иронии сокрытой
Там спит, как мертвая вода на дне пещеры спит, —
Средь анемонов голубых там зверь жестокий спит.
И мне казалось, что меня касалось что-то голубовато-зеленое, словно изумруды в форме маслин, и по моим ладоням точно скользили чьи-то прохладные пальцы…
Я выронил молитвенник из рук и, прислонившись к моему стулу, облокотился одной рукой, уронив другую, неподвижно раскрыв ладонь… которая ловила, ощупывала что-то прохладное, круглое…
Это ощущение было столь неожиданно, так тонко и так нежно-чувствительно, что дрожь пробежала по всему моему телу… Дошел ли я в моей чрезмерной чувствительности до ощутительного воплощения образов моего вожделения?.. С минуту я оставался в нерешительности… Чтобы задержать ощущение и лучше освоиться с ним, я закрыл глаза, но прикосновение еще более чувствовалось. Уступая его настойчивости, я снова открыл глаза.
Дама в трауре, – молодая женщина, под вдовьим покрывалом, сидевшая рядом со мною, тихонько высвобождала свои четки из моих пальцев.
При этом ресницы ее были скромно опущены; но легкая улыбка кривила тонкие губы. Ресницы ее, и розовые губы, прикрывали сверкающую белизну…
О скорбный твой сафир! в нем страх, в нем горечь разлита.
Сафир, последний взгляд распятого Христа.
Вторник, 16 июня 1895 г. – Вчера вечером я был в «Олимпии». О, как уродлива эта зала, и вообще уродливы все публичные места, – и этот современный костюм, и уродство человеческого тела в этой одежде листового железа– эти точно печные трубы, прилаженные к ногам, рукам и корпусу клубмена, задыхающегося в ошейнике из белого фарфора, и печаль и серость всех этих лиц, загубленных дурной гигиеной городов и злоупотреблением алкоголя… следы бессонных ночей и повседневной борьбы, запечатленные в нервных подергиваниях всех этих рыхлых отяжелевших лиц… Их нездоровая бледность и экстравагантность и тщеславие их самок, красующихся в ложах и в партере рядом с пошлыми самцами.
Целые сооружения из перьев, газа и цветного шелка, придавливающие тонкие шеи и плоские груди: узкие плечи, стиснутые огромными рукавами, разряженная модная худоба или, еще хуже, забронированная стеклярусом и облаками газа слонообразность толстух. И в то время, когда все эти фантоши[1]1
От фр. fantoche, марионетка (Прим. ред.).
[Закрыть] улыбались, разглядывали друг друга в лорнетки, на сцене медленно и искусно развертывалась игра мускулов изумительного человеческого тела. Акробат, облитый палевым шелком трико, сверкая в лучах электричества лоснящейся наготой, запрокидывался, изгибаясь всем своим телом; потом вдруг выпрямлялся движением бедер и рук, устремленных к потолку, являя собой поражающее зрелище человека, превращающегося в ритм, трепетной гибкостью веерообразного движения.
Я сидел в барьерной ложе. Во Франции разрешается любоваться только статуями. Страны солнца не знают этих предрассудков, и я, привыкший к обычаям Востока, стал восхищаться изумительными пропорциями и гармонией движений акробата; что дало повод маркизу де В…. (я всегда ненавидел его голос фальцетом и его маленькие светленькие глазки) сказать мне с гадкой улыбкой: «Этот гимнаст может себе каждую секунду сломать шею; то, что он делает, мой милый, очень опасно и вам нравится в нем та легкая дрожь, которую он вам сообщает… Как будут все волноваться, если его потные руки соскользнут с барьера? По инерции его быстрого вращения он неминуемо переломает позвоночник, и кто знает, быть может, брызги мозга долетят и до нас! Это было бы очень захватывающее зрелище и вы могли бы прибавить редкое ощущение к обширной коллекции ваших ощущений. Как остро волнует нас этот человек в трико!
Сознайтесь, что вы почти желаете, чтобы он упал. И я, да и, впрочем, множество людей в этой зале, находимся в том же состоянии ожидания и предчувствия. Это гнусный инстинкт толпы пред зрелищем, возбуждающим в ней представления сладострастия и смерти. Эти два милых друга всегда приходят вместе и, поверьте, что в этот момент… (видите, акробат держится за шест только кончиком большого пальца), что в этот самый момент большинство женщин в этих ложах страстно желают этого человека, не столько ради его красоты, сколько ради риска, которому он подвергается». И прибавил тоном, в котором внезапно зазвучало любопытство: «У вас глаза странно побледнели, мой милый Френез – вам нужно бросить бром и перейти к валерианке. Душа ваша изящна и любопытна, но нужно уметь управлять собою. Сейчас вы слишком страстно, слишком явно желаете – если не смерти, то по крайней мере падения этого человека».
Я не отвечал, – маркиз де В… был прав. Я был во власти безумия убийства, – зрелище приковывало меня; и, замерев в каком-то томительном и упоительном предчувствии, я желал, я ожидал падения этого человека. Я чувствую в себе какую-то жестокость, которая меня ужасает.
Глаза
Число не обозначено.
– «Глаза!.. Они разоблачают перед нами все тайны любви, ибо любовь ни в теле, ни в душе, – она в глазах, которые ласкают, отражают все оттенки чувств и восторгов, – в глазах, где обнаруживаются и преображаются желания. О! жить жизнью глаз, где все земные отражения стираются и пропадают; смеяться, петь, плакать вместе с глазами, смотреться в глаза, утонуть в них подобно Нарциссу в источнике».
Шарль Веллей.
Да, потонуть в глазах, подобно Нарциссу в источнике – вот была бы радость. Безумие глаз то же, что притягательная сила бездны… В глубине зрачков такие же сирены, как на дне моря. В этом я уверен, но вот… я их никогда не встречал и я все еще ищу глаза с глубоким и трогательным взглядом, где я мог бы, подобно освобожденному Гамлету, утопить Офелию моего желания.
Мир кажется мне океаном песка.
О! эти волны горячего и затверделого пепла, где ничто не может утолить мою жажду влажных и зеленоватых глаз. Поистине бывают дни, когда я слишком страдаю. Эта агония номада, заблудившегося в пустыне.
Мне не приходилось читать ничего более близкого к моему настроению и к моим страданиям, чем эти строки Шарля Веллея.
«Целые годы я провел, ища в глазах то, что другие не могут увидать. Медленно, с мучительными усилиями я открыл в них длительный трепет, бесконечно продолжавшийся в зрачках. Я отдал всю душу на разоблачение этой тайны, и теперь уже мои глаза больше не принадлежат мне, они постепенно восприняли взгляды всех других глаз, – теперь они служат только отражением всех этих похищенных взглядов; чужая жизнь, неведомые ощущения оживляют их, и в этом мое бессмертие – я не умру, мои глаза будут жить, петому что они уже не мои, они образовались из всех глаз со всеми их слезами и улыбками, и я переживу смерть моего тела, ибо все души в моих глазах».
Все души в его глазах… Да, ведь этот человек – поэт, он творит то, что видит, и он видел души, какая насмешка! Там, где отражаются только инстинкты, нервные подергивания и трепет ресниц, он увидал мечты, сожаления и желание. Глаза – пусты, и в этом их ужасная и мучительная загадка, их обаятельная и ненавистная прелесть.
В глазах есть только то, что мы сами в них вкладываем, и потому подлинное выражение глаз может быть только на портретах.
Поблекшие и утомленные глаза мучеников, восторженные глаза ведомых на казнь, глаза, полные мук, – одни покорные, другие исступленные, глаза святых, нищих, изгнанных принцесс, глаза Бога-Человека, увенчанные терновником, с улыбкой всепрощения, глаза одержимых, избранников и истеричных, глаза девушек, Офелии и Каниди, глаза девственниц и колдуний, – как значительна и многострадальна ваша жизнь в музеях, где вы сверкаете, подобно драгоценным камням, вставленным в картоны шедевров, как вы волнуете нас вне времени и пространства, – хранители создавшей вас мечты.
У вас есть души – души создавших вас художников; а я предаюсь отчаянию и умираю, потому что отведал яда, затаенного в ваших зрачках.
Следовало бы выкалывать глаза портретам.
Ноябрь 1896 г. – Есть взгляд и в прозрачности камней, в особенности в старинных неотделанных камнях, которыми украшены некоторые дароносицы и раки святых мощей, находящиеся в сокровищницах соборов Сицилии и Германии.
А сокровищница собора Святого Марка в Венеции! Я помню там есть чаша Дожа, вся покрытая полупрозрачной эмалью, сквозь которую на вас смотрят века.
13 ноября 1896 г. – Глаза! какие они бывают прекрасные – голубые, как озера, зеленые – как волны, молочные, как абсент, серые, как агат и прозрачные, как вода. В Провансе я встречал глаза такие знойные и спокойные, что можно было их сравнить с августовской ночью над морем, но ни одни из этих глаз не имели взгляда.
Самые красивые глаза, которые я знал, принадлежали Вилли Стефенсон, артистке «Атенеума», играющей теперь в театре. Это были буквально глаза-цветы и так они были свежи и нежны, словно два василька, плавающих в воде. Это было странное и пленительное существо – по крайней мере, мне это так казалось – страшная мотовка. Обыкновенно ее содержали сразу четверо или даже пятеро, а мне пришла фантазия иметь ее одному. Она была нежна, бела; у нее были словно точеные руки, плоские бедра и живот и маленькие, всегда волнующиеся груди; сложение подростка, с неожиданно прекрасным лицом, необыкновенно чистым овалом, овалом, в котором сказывалась порода, среди которого трепетали, как два ослепительных цветка, большие невинные глаза, глаза испуганной нимфы или умирающего оленя, глаза, полные испуга и целомудрия… и обворожительная синева вокруг этих глаз – пастелеподобная синева их шелковистых век, – как прекрасны были глаза этого хрупкого и всегда утомленного существа; поистине, это были единственные глаза, которые я любил. Они молили с таким испугом о пощаде в агонии судорог и восторгов алькова, а ее нежная тонкая шея, казалось, так и просилась под топор! Анна Болейн, должно быть, имела такой же нежный, атласистый затылок под золотистым облаком мелких локонов.
Это была какая-то красота осужденности. Сама хрупкость ее вызывала представление насилия – губительная красота, возбуждавшая во мне инстинкты убийцы. Сколько раз возле нее я мечтал о кротких бледных лицах – кротких и вместе с тем дерзких, павших жертвами Революции, об этих красавицах-аристократках, которых Фукье-Тенвили и Каррьеры посылали, еще трепещущих от страсти, под нож гильотины.
Эту хрупкую красоту конца восемнадцатого века Вилли подчеркивала искусством своих стильных костюмов и уборов; тончайшие газы и батисты, кисея и кружева, платьица из полосатой тафты бледных шелковистых чайно-розовых оттенков еще утончали ее хрупкую красоту блондинки: «Английская школа или Трианон», как бы спрашивало ее личико, когда я входил к ней.
Притворяясь невинностью, играя в аристократизм, Вилли, по существу, была последней из проституток. Она напивалась, как стелька и, афишируя свое распутство, отправлялась к «своим» в кабачки Монмартра. Ее розовые губки извергали ругательства и проклятия не хуже любого извозчика. В один прекрасный день, когда она считала меня уехавшим в Лондон, а я бродил по окраинам города, охваченный приступом своей болезни, я застал ее в окраинной трущобе на вечеринке, в компании местной звезды-танцовщицы из Moulin-Rouge, угощающей пуншем целую банду сутенеров.
О! синие огоньки алкоголя, циничное затаенное пламя в глазах Вилли в этот день, – ее лицо, внезапно постаревшее на двадцать лет, циничная личина распутницы, выявившаяся в складках вокруг ее, вдруг ставшего порочным, рта и в выражении глаз попрошайки!
Вдруг вся ее душа отразилась на лице. Но так как неосторожное создание имело на шее жемчужное ожерелье – вывезенное из Берлина и Петербурга, стоимостью в две тысячи золотых – ее бранный доспех, и так как декабрьский день клонился к вечеру, а местность становилась пустынной, я сжалился над нею и, сознавая опасность, которой она подвергалась на этой вечеринке, подошел и увел ее под каким-то предлогом.
Кто знает, может, я предотвратил ее участь! Жемчужное ожерелье на ее шее куртизанки так и просилось под руку душителя… Но так как я давал Вилли пятьсот золотых ежемесячно, то она при моем появлении тотчас приняла свой прежний невинный вид и вышла со мной, каясь в своем любопытстве.
Но я уже увидал беса в ее глазах. Обаяние исчезло, я разгадал ее секрет. Испуг, который привлекал меня в ее взгляде, беспокойство, тоска – все это было лишь отблеском ее похождений.
У воров и грабителей тоже часто бывает этот неспокойный взгляд.
Неаполь, 3 марта 1897 г. – Почему только у статуй я встречаю такие глаза, каких нет у людей?
Сегодня утром, в зале музея, отведенной под раскопки Геркуланума, мне ясно явилось Зеленое и Голубое, – преследующий меня скорбный, бледный изумруд в металлических глазах – в потемневших глазах бронзовых статуй, почерневших от лавы и сделавшихся похожими на адских богинь. Там находилась, между прочим, конная статуя Нерона, пустые глаза которого наводят ужас, но этот взор я нашел не в его очах. Там стояли у стен статуи Венер в пеплумах, похожие на Муз, – но на каких-то зловещих Муз, статуи Венер, словно обожженные, с отлупившейся местами бронзой, глаза которых – величественно-пустые – сверкали среди их личин из черного металла.
В этом безумии неподвижных и пустых зрачков я увидал вдруг зажегшийся взор…
30 апреля 1897 г. – Глаза людей слушают; некоторые даже – говорят, все манят, выслеживают, подстерегают, но ни одни не глядят. Современный человек больше не верит и вот почему у него нет большие взгляда. В конце концов, я согласился с этим… Современные глаза? В них нет больше души; они уже не обращаются к небу. Даже самые чистые из них заняты дневным и земным: низкая алчность, будничные интересы, тщеславие, стяжательство, предрассудки, мелкие желания, глухая зависть, вот отблески чего мы находим теперь в глазах; преобладают души дельцов и кухарок. Под нашими ресницами вспыхивают отблески медных грошей; даже не зажигается под ними желтое пламя взвешиваемого золота. Вот почему взоры музейных портретов так притягательны; в них отражаются мольбы и муки, сожаления и угрызения совести. Глаза – источник слез; коль скоро источник высыхает – глаза тускнеют. Вера лишь оживляет их, но нельзя вдохнуть жизнь в мертвецов. Мы идем, устремив взор себе под ноги, и наши взгляды отражают в себе грязь, и глаза кажутся нам прекрасными, лишь когда они сверкают ложью или оживлены воспоминанием о каком-нибудь портрете, о каком-нибудь взгляде давно прошедших времен, или сожалением о прошлом.
У Вилли были заученные взгляды – глаза женщин лгут всегда.
Май 1897 г. – Жак Трамзель вышел от меня. «Видали ли вы новую танцовщицу в Фоли-Бержер? спрашивал он меня. – Нет. – Ну, надо ее посмотреть. – Ну, что же это за женщина? – Гречанка. – Лесбиянка? – Нет. О! она не шутя говорит о своем знатном происхождении. Я считаю ее еврейкой с Востока, какой-нибудь левантийкой, но у нее изумительное тело, гибкость… Точно большой пляшущий цветок, – даже сложение ее какое-то причудливое – но это не может вам не понравиться, ибо, сказать правду – у этой женщины точно два тела – торс акробата – гибкий, мускулистый и худощавый, а бедра и круп совершенно необычайны. Это точно сама Венера Каллипига, или если вы предпочитаете – Венера Анадиомена. Октав Юзанн (ею уже занимается литература) даже придумал для нее новое название: Венера Алкивиада. В самом деле, она одновременно Афродита и Ганимед, Астарта и Вакх. – Астарта!.. А каковы у нее глаза? – Глаза прекрасные – глаза, долго созерцавшие море».
Глаза, долго созерцавшие море!.. О! светлые, устремленные в даль глаза моряков, глаза бретонцев, отражающие морскую воду, глаза матросов, отразившие воду озер, глаза кельтов, отразившие воду рудников, мечтательные, бесконечно-прозрачные глаза живущих у рек и у озер, глаза, встречающиеся иногда в горах – в Тироле и в Пиренеях; глаза, в которых отразились небеса, большие пространства, заря и сумерки, долго созерцавшиеся над необъятностью вод, над скалами и над равнинами; глаза, в которых запечатлелось столько горизонтов! Как я не подумал раньше обо всех этих уже встречавшихся мне глазах?
Теперь я знаю, чем объяснить мои долгие прогулки поздним часом вдоль набережных и в гаванях.
Глаза, долго созерцавшие море!.. Пойду посмотреть эту танцовщицу.








