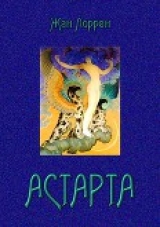
Текст книги "Астарта (Господин де Фокас)
Роман"
Автор книги: Жан Лоррен
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Жан Лоррен
АСТАРТА
(Господин де Фокас)
Роман
Собрание сочинений
Том I


Предисловие к русскому изданию
Роман Жана Лоррена «Господин Фокас», такой, с внешней стороны, изысканный, яркий и экзотический роман представляет собою, на самом деле, правдивое изображение души слишком современной души, слишком отравленной сладостными и чересчур пряными ядами нашей городской цивилизации. Цивилизация городская, или даже, точнее сказать, парижская (как в древности могла быть цивилизация александрийская, или вавилонская, или, в веках незапамятных, цивилизация погибшей Атлантиды) только, по-видимому, облегчает жизнь, уменьшает опасности и страхи одинокого бытия среди равнодушной природы, и увеличивает способы наслаждения жизнью. Увы! все эти блага нашей цивилизации – только внешние, кажущиеся блага; шуцман и констебль бессильны отличить робкое добро от прекрасного зла, апаши многочисленнее гуннов и ближе, – и самое-то страшное то, что душа наша подавлена «излишним многообразием утех», нервы наши слишком ослаблены веселыми бдениями, сладкими отравами и бешеной погоней за быстронесущейся колесницей жизни. Неисчислимые блага рассыпает она, щедрая подательница, на тех, кто, хрипя и задыхаясь, мчится вровень с ее сверкающим и гремящим бегом, мчится, толкая слабых и попирая падших. Но горе тому, кто отстал, кто устал, кто больше не может!
Слабая душа человека за последние полтора столетия замкнула слишком широкий круг открытий, изобретений, новых идей, старых возрождений, мелькающих мод, политических и социальных катастроф, творческих мечтаний и практических устроений, и устала, устала смертельно, и, тоскуя, томится. Она теряет свои богатые приобретения, суживает круг своих переживаний, и только к блестящим воплощениям мечты влечется. Скучающая толпа шумит и притворно ликует в горящих сотнями огней кабачках, где перед нею в легкой, но утомительной смене проносятся коротенькие развлечения, развратные и сентиментальные. Толпе нужна эта помесь разврата и сентиментальности, потому что угнетенная городской цивилизацией душа не может быть добродетельной, и потому что никогда еще мир не был так влюблен в добродетель, как в наши дни.
Но не до конца падение наше. Еще есть в городской душе стремление к простому, ясному, первоначальному разнообразию радующейся о себе и творящей себя жизни. Много дающая, дающая в избытке, но все подводящая под один уровень, – противна становится эта жизнь города, где все носят однообразные маски, и хочет горожанин окунуться в простую жизнь, где каждый смеет быть сам собою и явить свое настоящее, – доброе ли, злое ли, – лицо. Возникает вновь жажда видеть новые земли и новые небеса, вверить свою жизнь волнам новых вод, окунуть свою душу в светлое разнообразие больших пространств и пестрых человеческих смешений. Уйти далеко, далеко от Москвы, от Парижа, от друзей и недругов, и даже, кто знает? может быть, от себя самого. Может быть, там, где-нибудь в золотом городе Бенаресе или на островах Таити, проснется в нашей душе новый человек, невинно и светло радующийся и жадный к жизни. Правдивое изображение этой жажды, томящей порою душу среднего, немудрого горожанина, верный рассказ об этом стремлении его в некий золотой град, – вот это и придает роману Жана Лоррена «необщее выражение».
Федор Сологуб
Дорогой Поль Адан,
позвольте посвятить Вам, как автору Силы и Мистерии глупцов и в то же время верному другу и исключительному художнику, изображение этих горестей и печалей – в знак моего неизменного восхищения и большой симпатии к Вашей личности и писательской честности.
Жан Лоррен Канны, 1 мая 1901
Наследие
ГОСПОДИН ДЕ ФОКАС. – Я вертел визитную карточку в руках; фамилия была мне совершенно неизвестна.
За отсутствием лакея, отбывавшего в Версале свои солдатские двадцать восемь дней, кухарка провела гостя в мой рабочий кабинет.
Ворча, покинул я кресло, где так сладко дремалось на полуденном солнышке и, решив как можно скорее спровадить докучного гостя, вошел в кабинет.
Господин де Фокас! Отдернув тихонько портьеру, я остановился на пороге.
Передо мною стоял высокий, гибкий, молодой человек лет двадцати восьми, с бескровным, чрезвычайно старообразным лицом, короткими волнистыми темными волосами, затянутый в костюм оливкового сукна, с высоким галстуком из бледно-зеленого фуляра, словно осыпанного золотыми блестками.
Где-то я уже видел этот тонкий, резкий профиль, этот гибкий, хрупкий силуэт, эту изящную волнистость очертаний…
Впрочем, господин де Фокас, казалось, не удостаивал приметить моего появления? – Стоя у моего письменного стола, изогнувшись в грациозной позе, он своей тоненькой тросточкой с изумительным набалдашником зеленой слоновой кости перелистывал рукопись, лежащую среди книг и бумаг и небрежно, свысока, скользил по ней взглядом.
Все это имело наглый, претенциозный, почти невыносимый вид.
Эта рукопись, – страницы стихов или прозы, заметки и буквы, моя работа, мои труды, перелистываемые кончиком тросточки, в тиши моего кабинета, этим равнодушным и любопытствующим посетителем! Я был возмущен и вместе с тем восхищен – возмущен поступком, но поражен смелостью, потому что люблю и уважаю смелость во всех ее проявлениях; но вдруг внимание мое было отвлечено зеленоватым фейерверком, которым внезапно загорелся в складках его галстука огромный изумруд, весьма странного вида, с изумительной тончайшей головкой, точно сделанной из бледного воска и похожей на те странные изображения, которые находятся в галерее Лувра, посвященной Валуа.
Господин де Фокас, казалось, даже не подозревал моего присутствия; надменный и стройный, продолжал он разгребать мои бумаги, причем рукав его визитки немного загнулся, и я увидал тонкий браслет – цепь бериллов и опалов, обхватывающую его правую руку.
Этот браслет! Теперь я вспомнил.
Я уже видел эту хрупкую, белую, породистую руку, этот тонкий обруч из металла и драгоценностей. Да, я их видел однажды среди драгоценностей изумительного ювелира и гравера Барукини, этого необычайного мастера, покорителя металлов, словно вышедшего из Флоренции, мастерская которого, известная только знатокам, скрывалась в глубине старинного любопытного двора улицы Висконти, пожалуй, самой узкой из всех улиц старого Парижа, – той самой улицы, где была типография Бальзака.
Эта восхитительно-бледная, почти прозрачная рука, – рука принцессы или куртизанки, освобожденная от перчатки, – рука герцога де Френеза (таким я вспомнил его настоящее имя), рука герцога Френеза прикасалась с бесконечной негой к целой груде драгоценных камней, – ляпис-лазури, сардониксов, ониксов и сердоликов, усеянных топазами, аметистами и желто-красными рубинами; и по временам эта рука, похожая на восковую птичку, отмечала одним движением пальца избранную драгоценность… Избранную драгоценность, и в моих воспоминаниях возникал звук голоса, – тон, которым герцог, прощаясь с Барукини, сказал ему коротко: «Эта вещь мне нужна через десять дней. Вам нужно сделать на ней только инкрустации. Я рассчитываю на вас, Барукини, как и вы можете рассчитывать на меня».
Речь шла о павлине из эмалированного металла, который он заказал мастеру и для распущенного хвоста которого выбрал целую массу камней; еще одна оригинальность, прибавленная к списку всех его прочих, ибо фантазиям герцога де Френеза уже перестали вести счет, – о них ходили целые легенды…
Да и сам герой этих сказаний имел за собой легенду… Вначале он создавал ее бессознательно, а затем сам полюбил ее и стал поддерживать… Каких нелепостей не рассказывали шепотом об этом юноше-архимиллионере, знатного происхождения, со знатной родней, не посещавшем света, жившем без друзей, не афишировавшем любовниц и покидавшем ежегодно Париж в конце ноября для своих путешествий на Восток.
Глубокая тайна, словно произвольно сгущенная, окутывала его жизнь и, за исключением двух-трех премьер, будоражащих Париж каждую весну, нигде не встречали этого бледного, стройного молодого человека с таким гибким станом и таким утомленным лицом. Когда-то у него была страсть к лошадям; но вдруг он перестал посещать скачки, продал своих лошадей и, оставив сначала будуары кокоток, изменил затем и салонам предместий, и это был уже сигнал к разрыву со всеми, к полному исчезновению.
Теперь Френез постоянно путешествовал по чужим краям. Впрочем, весной при появлении какого-нибудь сенсационного акробата – мужчины или женщины – в одном из цирков или шантанов, случалось встречать там Френеза подряд несколько вечеров, и это странное постоянство давало повод к новым сплетням, целому источнику предположений, – какого рода! – легко угадать. Потом вдруг Френез погружался в уединение – уезжал в Лондон или Смирну, Неаполь или на Острова, – в Палермо или Корфу, куда точно, не знали до того дня, пока кто-нибудь из клубменов не возвещал его появления, встретив его на набережной у антиквара или торговца драгоценностями, или нумизмата на улице Бонапарт, где он, с лупой в руке, странно сосредоточенный, рассматривал какую-нибудь резьбу на камне двенадцатого века или старинную камею.
В своем отеле, на улице Варены, Френез владел целым тайным музеем драгоценных камней, прославленных знатоками и торговцами. Рассказывали также, что из своих путешествий по Востоку, со смирнских и тунисских базаров, понавозил он целые сокровища старинных бриллиантов, драгоценных ковров, редкого оружия и сильнейших ядов; но так как у Френеза не было друзей, никто не посещал его родового дома.
Единственно, с кем он поддерживал отношения, были торговцы и коллекционеры, подобные ему, и среди них Барукини, искусный гравер, быть может, являлся единственным, когда-либо переступившим порог его дома. Все светские знакомые получали самый суровый отказ и в отместку говорили – ему помешали бы опьяняться опиумом – и эта сплетня, быть может, самая нелепая изо всех, пущенных насчет де Френеза, знаменовала собой злостную досаду праздной толпы.
Этот человек привез с собой все пороки Востока.
И вот герцог де Френез стоял теперь передо мной, небрежно перебирая мою рукопись кончиком своей тросточки, Френез со своими легендами, своим загадочным прошлым, своим двусмысленным настоящим и еще более темным будущим, – Френез, проникший ко мне под чужим именем.
Он поднял глаза и, наконец, заметил меня. Быстро поклонился, сделал движение, как бы собирая листки, разбросанные на моем столе, и, точно отвечая на мою мысль, сказал: «Прежде всего, извините меня, сударь, за то, что я назвался вам не своим именем; но это имя отныне будет моим. Герцог де Френез умер, существует теперь лишь господин де Фокас. К тому же, я накануне долгого отъезда, быть может, навсегда из Франции; сегодняшний день последний, который я здесь провожу. Я только что принял серьезное решение, но все это вас мало касается, хотя я пришел к вам именно ради этого».
И, прося жестом разрешения продолжать, отказавшись движением руки от кресла, которое я ему предложил: «Вы знаете Барукини, вы даже посвятили ему и его искусству незабываемые страницы – по крайней мере, для меня, ибо к их автору относится мое сегодняшнее посещение. – Это было в „Обозрении Лютеции“. Вы поняли и воспели на языке поэзии призматическое искусство волнующих и многогранных огней этого чародея. О! потаенное и изменчивое пламя, дремлющее в его бриллиантах, эти искорки природы, – зверьки и цветки, в которые он замыкает росинки драгоценностей. Достаточно ли воспели вы эту ювелирную флору, – одновременно византийскую, египетскую и эпохи Возрождения! Уловили ли вы ее сходство с кораллами и подводными алмазами, – да, подводными, ибо расцвеченные бериллами, опалами и бледными сапфирами цвета водорослей и волн, почти синеватой эмали, они имеют вид драгоценностей, долго хранившихся на дне моря. Подобно кольцам Соломона или чашам фульского короля, они представляют собой как бы драгоценности затонувших городов и, конечно, дочь короля Исы была украшена ими, когда передавала ключи врат Демону… О! ожерелья Барукини, эти потоки голубоватых и зеленоватых камней, эти запястья, отягощенные инкрустациями опалов, те самые, которыми Гюстав Моро расцвечивал наготу своих заклятых принцесс. Бриллианты Клеопатры и Саломеи; бриллианты преданий, бриллианты лунного света и бриллианты сумерек.
„И все это было в давно минувших веках…“
Вот слова (вы их написали), которые просятся на уста при виде этих цветов и плодов из камней, оправленных в золото. Драгоценности Мемфиса или Византии, они вызывают мечты об Египте и Восточной империи, но еще более о городе короля Исы и его затонувших колоколах.
Вы видите, что я познал моих владык. И потому никто более меня не страдал от губительных чар этих камней; и, смертельно больной (ибо я умираю от их скрытого, зеленовато-синеватого яда), я решил довериться вам, сударь, – вам, постигшему их смертельное, роскошное очарование и сумевшему передать другим все их трепетное беспокойство.
Вы один способны меня понять, вы можете снисходительно отнестись к тому, что притягивает меня к вам. Герцог де Френез был чудаком, сударь; для всякого другого, кроме вас, господин де Фокас явился бы сумасшедшим. Я только что произнес имя города Исы и Демона, поглотившего город, Демона сладострастия, соблазнившего дочь короля. Если бы волшебство могло длиться веками, я бы сказал, что этот Демон сидит во мне. Да, меня преследует и терзает Демон с ранней юности. Кто знает? Быть может, он вселился в меня, еще когда я был ребенком, ибо – считайте меня, сударь, подверженным галлюцинациям, но вот уже годы, как меня терзает что-то голубое и зеленое…
Блеснет ли камень, или взгляну на него, – и я влюблен, хуже, – зачарован, преследуем его зеленовато-синеватой прозрачностью; мною овладевает чувство, похожее на голод. Напрасно ищу я отблеска этого света в зрачках и камнях – взгляду человека он не свойственен. Случается найти его в пустой орбите глаза статуи или под ресницами какого-либо портрета, но это только обман, искра, едва мелькнувшая и уже исчезнувшая, – и я являюсь лишь любовником прошедшего… Сказать ли вам, в какой мере сокровища Барукини усилили мою болезнь? Я увидал в этих бриллиантах – истоки, родники тех взглядов, что я искал, взгляда Дагуты, дочери короля Исы, взгляда Саломеи, но в особенности зеленоватый и ясный блеск взгляда Астарты, этого Демона Сладострастия и Демона Моря…»
И, предупрежденный выражением испуга на моем лице:
– Да, разумеется, я одержим видениями, и какими? – Да минуют вас эти муки, ибо я страдаю от них смертельно. Да – из-за этих видений и из-за их ужасных советов, нашептанных в ужасе ночей, – из-за них я покидаю Париж, Францию и Старую Европу…
Освобожусь ли я от этого наваждения в Азии?… Итак, еще одну ночь… Но я злоупотребляю. Вот что я хочу у вас просить, сударь. Я уезжаю, быть, может, вы никогда не увидите меня больше! Я занес на эти листки первые ощущения моей болезни, бессознательные искушения существа, ныне поглощенного безднами оккультизма и невроза. Позвольте мне доверить вам эти страницы и надеяться на ваше обещание их прочесть? Из Азии, куда я отплываю и где я обоснуюсь в надежде найти там исцеление от моих галлюцинаций, я пришлю вам продолжение этой первой исповеди, ибо я чувствую потребность крикнуть кому-нибудь о смертельных моих муках, потребность знать, что здесь, в Европе, кто-то жалеет меня и обрадуется моему исцелению, если когда-либо Небо ниспошлет его мне. Хотите быть этим человеком?
Я протянул руку господину де Фокасу.
Рукопись
– Его руки, мягкая влажность его всегда окоченелых рук. Их скользкое прикосновение, подобное бегству ужа!! Вы не обратили внимания на его руки! На меня же всегда производило странное впечатление пожатие его руки, если можно назвать пожатием еле ощутимое прикосновение вялых и холодных пальцев.
– Меня больше всего волновали его глаза, эти бледно-голубые глаза, в своей неподвижности подобные драгоценным камням. Их холодный блеск походил на блеск стали или лазури… А пристальность его взгляда! Я бывал совершенно расстроен каждый раз, когда говорил с ним в клубе.
– Да, этот человек во всех отношениях странный, так же, как и его возраст! – Знаете ли, что ему по меньшей мере сорок лет… – А на вид двадцать восемь. – Слушайте, да вы, должно быть, никогда в него не всматривались? Лицо его ужасно старо, а тело вполне сохранилось. Это правда; стан сохранил всю свою гибкость, но лицо потаскано, цвет его землистый, страшно утомленный, а рот! Эта искривленная улыбка! Кажется, что судорога его губ имеет за собой опыт целого века. – Опиум страшно изнашивает – ничто не губит так европейца, как Восток. – Ах, значит, он курильщик опиума? – Без сомнения. Как объясните вы иначе его странное изнеможение, невероятный упадок сил, которые он начал ощущать внезапно пять лет тому назад, когда при выходе из клуба он упал и должен был лежать целыми часами… – Часами? – Да, целые часы без движения, с совершенно разбитыми членами, в прострации… Слушайте, де Мазель, ведь вы его знаете, помните, как он однажды проспал сорок часов в течение двух суток? – Сорок часов! Да, он только просыпался, чтобы принять пищу, и затем снова погружался в оцепенение. Френез даже сам питал какой-то страх к этому сну, он чувствовал в этом какую-то аномальность – повреждение мозга или нервное расстройство. – Злосчастная анемия мозга – удел всех прожигателей жизни. – Еще легенда! Я никогда не верил в распутство этого несчастного герцога. Такое хрупкое существо, такого слабого сложения; сказать по правде, где уж ему было распутничать. – Ну, а Лорензаччо?! – А, вы вспомнили Медичи! – Лорензаччо! – Флорентинец, пышущий злобой, человек энергии и мстительности, взлелеянной им с такой же медлительною осторожностью, с какой сжимают рукоятку кинжала. Если вы сравните с этим сердцем, горящим ненавистью, Френеза… праздного фантазера, живущего без всякой цели и назначения! По-моему, он предавался курению опиума на Востоке; оттуда его сонливость, его болезненные летаргии: опасные последствия дурных привычек! В конце концов, он здорово разрушил себя, а тяжкое действие опийного яда его гнетет постоянно. А его голубовато-стальные глаза, разве это – не глаза курильщика опиума? Разве его вены не отягощены еще тяжкими парами конопли? Опиум, как и сифил… (и де Мазель проглотил конец слова), годами остается в крови; в конце концов их можно изгнать, но для этого надо поглотить дьявольские дозы йода!
На это Шамерой:
– Да, ваш опиум, он-таки за себя постоит.
На мой взгляд, положение Френеза осложняется совсем другим. Он не больной – просто персонаж из сказок Гофмана! Вы когда-нибудь давали себе труд его рассмотреть? Эта бледность трупа, эти судорожно сжатые руки, более тонкие и сухощавые, чем руки японцев, этот резкий профиль и эта худоба вампира, разве все это не наводило вас на размышления? Ведь Френезу – пять тысяч лет, несмотря на его хилое тело и безбородое лицо. Этот человек уже жил в древние времена, при Гелиогабале и при Александре IV и при последних Валуа… Да что я говорю? Это сам Генрих III. В моей библиотеке есть томик Ронсара, очень редкое издание, в переплете свиной кожи, с металлическими украшениями того времени; там находится портрет короля на пергаменте. Когда-нибудь я вам принесу этот томик, вы сами увидите. Если отнять родимое пятно, колет и серьги в ушах, вы побьетесь об заклад, что это – портрет герцога де Френеза. Мне лично его присутствие всегда тягостно и, пока он здесь, я чувствую всегда какое-то стеснение, какой-то гнет…
Таковы были образчики разговоров, разгоревшихся по поводу отъезда де Френеза и назначения в продажу его дома и обстановки на улице Варены, возвещенные за день объявлениями в «Фигаро» и «Temps». Рассказы, легенды, догадки – достаточно было произнести имя Френеза, чтобы, как на дрожжах, поднималась вся пошлость сплетен и предположений. И однако, все эти элегантные и пустоголовые клубмены не могли мне ничего сообщить.
Весь этот глухой шепот недоброжелательства и заинтересованного общественного мнения вокруг имени теперешнего господина де Фокаса я уже слышал десяток лет; и теперь этот человек избрал меня своим доверенным, – мне выпали на долю честь или стыд снять покров с его жизни и узнать, наконец, тайну, заключенную в страницах этой рукописи.
Все они были написаны его рукой, хотя разными почерками (ибо почерк человека меняется вместе с его душевным состоянием и графолог узнает по одному взмаху пера превращение честного человека в мошенника), и я решил в один прекрасный вечер прочесть эти вверенные мне страницы; те самые, которые господин де Фокас так надменно просматривал, разбросанные на моем столе, едва взглядывая на них краем глаз из-под подкрашенных бровей.
Я переписал их, как они были, в беспорядочной последовательности дат, впрочем, выкинув некоторые, написанные слишком смело для того, чтобы появиться в печати…
На первом же листке стояла цитата из Суинберна:
«В жилах моих я ощущаю сжигающий меня пыл».
– Грех, разве это грех, когда души человеческие бросаются в пропасть? Однако, я долго верил, что могу спасти свою душу, прежде чем поверг ее в пламя Сладострастия. О! мрачный ад, где умирают все нежные чувства – все, за исключением страдания, которое вечно!
И затем четверостишие из пьесы Мюссе «О чем грезят молодые девушки»:
О, как несчастен тот, кому рука Порока
Железный коготь свой вонзает в грудь жестоко!
Невинная душа – нетронутый сосуд;
Но волны всех морей пятна в ней не сотрут.
Личные впечатления начинались:
8 апреля 1892 г. – Непристойное выражение губ и ноздрей, бесстыдно-алчные улыбки женщин, встреченных на улице, скрытая низость и вся эта животность диких зверей, готовых броситься и кусать друг друга; торговцы в своих лавочках и гуляки на тротуарах, – как давно терзает меня все это! Еще ребенком, я уже страдал от всего этого, когда, случайно сойдя в людскую, я схватывал, не понимая, пересуды прислуг, перемывавших косточки моих близких.
Эта враждебность всех ко всем, эта глухая ненависть всего хищного человечества, – я встретил ее позднее в училище, и сам я, питающий отвращение ко всем низменным инстинктам, не стал ли я бессознательно развратником и насильником, убийцей и пакостником, подобно всей этой похотливой и кровожадной толпе, толпе бунтовщиков, которая сто лет тому назад кричала, швыряя полицейских в Сену: «Вздернуть аристократов!» так же, как теперь она рычит: «Долой армию!» или: «Смерть жидам!»
30 октября 1891 г. – Прекрасными можно назвать только лица статуй. В их неподвижности есть своеобразная жизненность, отличающаяся от гримас наших физиономий. Их оживляет словно божественное дуновение, и какая глубина взгляда в их пустых глазах!
Я провел целый день в Лувре, и теперь меня преследует взгляд мраморного Антиноя. С какой негой, с какой страстью, глубокой и умудренной, смотрели на меня его продолговатые мертвые глаза! Был момент, когда мне почудились в них зеленые огоньки. Если бы этот бюст принадлежал мне, я бы велел вставить изумруды в его глаза.
23 февраля 1893 г. – Сегодня я сделал гнусную попытку – склонить одного журналиста, которого я едва знаю, достать мне пропуск для присутствия на казни; я даже пригласил его обедать, хотя человек этот мне скучен, а к крови я чувствую такое отвращение, что у дантиста, слыша крик в соседней комнате, я почти падаю в обморок.
Мне обещан билет для присутствия… Пойду ли я на эту казнь?
12 мая 1893 г. – Неаполь. – Я только что видел великолепную коллекцию драгоценных камней. О! что за музей! Какая чистота линий в каждой камее. У греков – больше грации, какой-то блаженной ясности – быть может, характерной для божества; но в римских камеях поражает какая-то необычайная страстность. На одном из колец я нашел резную голову, увенчанную лаврами, какого-нибудь молодого цезаря или императрицы, – Калигулы, Оттона, Мессалины или Поппеи, с выражением такого восторга и вместе с тем такого изнеможения, что я буду о нем грезить в течение многих ночей… Грезить! Разумеется лучше было бы жить, а я только и делаю, что грежу.
13 июля 1894 г. – В праздничные вечера иногда очень поздно встречаются на улицах странные женщины и еще более странные мужчины. Быть может, в эти ночи народного ликования где-то внутри людей пробуждаются древние, затаившиеся души? Сегодня вечером мне положительно попадались, в водовороте возбужденной, разгоряченной толпы, личины византийских вольноотпущенников и куртизанок эпохи Упадка.
Казалось в этот вечер, что над этой кишащей площадью Инвалидов, среди грохота хлопушек и стрельбы в цель, запаха жареного, икоты пьяных и всей этой кухонной атмосферы – носится кошмар Нероновского празднества.
Это напоминало майский вечер в Неаполе на Basso-Porto – и в толпе блуждали лица, которые можно было принять за сицилийцев.
29 ноября того же года. – Мрачный, устремленный вдаль, взгляд Антиноя, и исступленный, жестокий, молящий взор римской камеи – я нашел на одной пастели неважной работы, подписанной незнакомым именем художницы, которой, однако, я охотно дал бы заказ, если бы был уверен, что она воспроизведет этот странный взгляд.
И, однако, как это просто сделано! Два-три штриха пастелью вокруг четырехугольного исхудалого лица с огромными челюстями, сладострастно раскрытыми губами и раздувающимися ноздрями, в венке из фиалок и с маком за ухом. Лицо скорее безобразно, мрачного трупного оттенка, но под опущенными ресницами сверкает, притаившись, зеленый кристалл, – мрачный источник ненасытимой души, страждущий изумруд ужасающего сладострастия!
Я отдал бы все, чтобы найти этот взгляд.
18 декабря того же года. – «Спит ли она или бодрствует? Ибо ее шея, носящая следы поцелуев, еще хранит пурпуровое пятно, где трепещет гаснущая кровь; легкий укус – слишком прекрасен для пятна». Laus Veneris (Суинберн). О! это багровое пятно на прекрасной шее заснувшей женщины и забытье, похожее на смерть, успокоение этого тела, обессиленного наслаждением! Как меня привлекало это пятно! Мне хотелось бы прильнуть к нему губами и медленно выпить всю душу этой женщины до последней капли крови; но меня раздражал ее правильный пульс; шелест ее дыхания, равномерно вздымающееся горло преследовали меня, словно тиканье кошмарных часов, и был момент, когда мои судорожно сжатые руки тянулись схватить спящую за горло и сжимать ее до тех пор, пока дыхание не прекратится. Мне хотелось ее задушить и укусить, в особенности заставить ее перестать дышать. Ах! это непрерывающееся дыхание!.. Я поднялся с холодным потом на висках, потрясенный настроением убийцы, которым я уже себя чувствовал в продолжение десяти секунд: я должен был стиснуть руки, чтобы помешать им схватиться за эту шею… Она спала и из губ ее струился легкий запах тления… Тот противный запах, который выдыхают все человеческие существа во сне.
О! фиваидские святые, которых искушало столько нагих грешниц в видениях пустыни! О! эти блуждающие силуэты сладострастия, легкие касания бедер которых оставляют за собой волны ароматов и ладана, и все это были лишь демоны!
3 января 1895 г. – Я снова спал с этой женщиной и снова соблазнялся желанием убийства; что за позор!.. Я вспоминаю, что ребенком любил мучить животных и припоминаю историю двух голубков, которых мне дали однажды для забавы и которых я инстинктивно, бессознательно задушил, сжимая. Я не забыл этой ужасной истории, а мне еще не было тогда восьми лет.
Трепет жизни всегда внушал мне странную страсть к разрушению и вот уже два раза, как я ловлю себя на мысли об убийстве в любви.
Или во мне две души?
На этом обрывалась первая рукопись.








