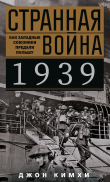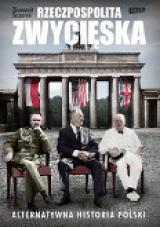
Текст книги "Республика - победительница (ЛП)"
Автор книги: Земовит Щерек
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Ночевал я в Риге, выпил немного пива. Дискуссия с рижским журналистом Прутсом о Междуморье.
Ужасно, насколько могут различаться перспективы. Очень мрачный Прутс говорил, что когда-то здесь всем управляли немцы, потом русские, теперь же – все сильнее и сильнее – поляки. А результат тот же самый, собственно говоря, ничего не меняется, только имя диктатора. От изумления я и слова не мог сказать. Но ведь мы, – говорил я ему, – это ведь еще и Англия с Францией! Это новый европейский порядок! Западные стандарты! Цивилизация! Демократия!
На что Прутс лишь рассмеялся:
– Да какая там у вас демократия, – сказал он, и этим самым закрыл мне рот.
Так что тему цивилизации я уже и не начинал.
На литовской границе – молчание и понурые мины с момента, когда увидели мое польское удостоверение, потому что на эстонские номера глядели с безразличием. И совершенно напрасно я пытался заговаривать по-литовски: - Laba diena, acčiū: ничего. В конце концов кто-то из пограничников сказал мне по-польски, чтобы я перестал «дурака валять», а не то он «разозлится» и, либо вернет меня в Латвию, либо мне придется через Советы ехать. Все это я принял к сердцу очень близко и уже в ковенской Литве ни к кому и словечком не обозвался.
В Ковно я заехал только лишь затем, чтобы взять топливо в канистры – и дальше на своей «303» отправился в путь. С этими проклятыми литовскими колдобинами машина справляется на удивление хорошо. Ну что же, в конце концов, автомобиль ведь отсюда, из этой части забытой Европы. Он – плод этой земли. Потому ее и чувствует.
Хорошо известный пограничный переход – и скоро уже Вильно. В Вильно, как и всегда в Вильно, хороший город, я посетил кого надо, и поехал дальше, на Варшаву, по новому шоссе. Еще не законченному, но ехать уже можно – кое-где только нужно возвращаться на парочку километров, потому что никому не хотелось поставить знак объезда, и приходилось п грунтовым дорогам через деревянные деревушки толочься.
Подлясе, и-эх, Божечки ж мой, человек к Варшаве привык и совершенно забыл, как в этой стране провинция выглядит. Трагедия и драма. Мужики словно во времена Мешко I, евреи в грязных, затасканных лапсердаках, бороды – сплошной колтун. Лавки паршивые, гадкие. Совершенно не видно здесь знаменитых западных кредитов, разве что только в самих Гродно или Белостоке. И там, и там то школу строят, то какое-нибудь здание общественное. Но вот деревни такие же деревянные, средневековые. Разве что белой известкой покрашенные, потому что Славой так приказал.
Перед самой Варшавой дорога уже совсем хорошая, так что настроение исправляется. И все-таки, Прутс, – размышлял я, – какая-то цивилизация здесь, в конце концов, начинается, даже если раньше с ней сложно было. Впрочем, а вот так по-хорошему, кем бы ты был, латыш, если бы немцы тебе Ригу и другие города не построили, – думал я, – ты, латыш, в деревянной халупе, наверняка бы и до сих пор Перкунаса почитал и наверняка бы не знал, создают у тебя над головой Междуморье или не создают…
Но правда такова, – пришел я к выводу, въезжая в Варшаву, – что только теперь, глядя н эти новые дороги, на то, как Варшава развивается, видно, в какой цивилизационной дыре были бы мы еще перед войной.
Боже мой, и какая же судьба была бы нашим уделом, если бы не Англия с Францией. Ведь сами мы с этими чертовыми немцами и не справились бы.
Лишь бы только все то, что мы над ними вытворяем, нам не отомстило.
Вечер дома. Пара дней в Варшаве. Перерыв в путешествии. Топливо, покупки всякие, легкий осмотр «303». Приличная машина! Надо ее только чуточку подрегулировать.
Варшава – Радом. Эта дорога хороша уже несколько лет. Ее лишь чуточку подлатали. Дальше на Краков снова объезды деревнями, потому что ремонтируют и строят. Вскоре дороги у нас будут порядочные, но Польша тем временем строится.
Швентокшиская деревня одновременно и похожа на подляскую, и не похожа. Похожа – потому что тоже много дерева, зато местность другая, типы другие. И, как будто бы, теплее, естественнее, свободней. Пускай и сосны, песок желтый, босые ноги в нем – да, похоже. Но очень скоро ЦПО – и какая же разница. Скаржиско-Каменная, Стараховице, где бофорсы [66]66
«Бофорс» – автоматическое зенитное орудие калибра 40 мм, разработанное в 1929—1932 годах шведской фирмой AB Bofors.
[Закрыть] монтируют, я не мог удержаться – набрал в Стараховицах топлива и поехал на Завихост, который только строится, на Сандомир, поглядеть, как его возводят. Какая красота! Новая Европа, каменные дома большие, широкие, удобные, широко расставленные. Пока что грязь, зато тут будет много зелени. Сплошная радость глядеть.
Дорога на Краков – Польша строится. Я ругался, на чем свет стоит, хотя и знаю, что вскоре будет лучше. Но сейчас – нечего и говорить.
До Закопане дорога уже получше, почти закончена. Здесь красиво, какое же иное все это Подхале, этот гористый юг совершенно не соответствует остальной части Польши! Ничего удивительного, что в 1918 году молодой Мальчевский [67]67
Яцек Мальчевский (польск. Jacek Malczewski; 14 июля 1854, Радом – 8 октября 1929, Краков) – польский художник, представитель модернизма и символизма в живописи. (…)Исторические работы Я. Мальчевского – о трагической судьбе его Родины, однако художник обращается и к автобиографической, и к символической темам. Мастер написал ряд автопортретов в различных облачениях (как художник, как рыцарь и прочее). Патриот Польши, Мальчевский своим «Польским Гамлетом» создал образ Польши со связанными руками. – из Википедии.
[Закрыть] хотел здесь независимость объявлять и устраивать вторую Швейцарию. В Закопане – Виткаций. А кто бы еще другой. Выглядит плохо. Лицом желтый, мрачный. То есть – он всегда был мрачный, но теперь уже мрачен, похоже, по-настоящему. Может, чего-нибудь подцепил? Во всяком случае, утверждает, что все это, вся наша великодержавность (которую он называет «великодержавочкой») плохо закончится.
– Осмотрись, Мэль, по сторонам, – говорил он, – ведь все это едва кучи держитс. Ведь если народ сам себя не способен до порядка довести, то как он собирается вводить международный порядок. Нас надувают, словно шарик воздушный, только ведь у нас внутри пусто. Слишком мало имеем собственного содержания, чтобы нести его куда-либо. Поначалу давай наделаем своего, и пускай это будет наше, а уже потом, раз уже придется, понесем это и другим. Когда-нибудь этот наш шарик лопнет, вот увидишь.
Утром я чувствовал себя на удивление хорошо так что отправился чуть свет, но очень быстро оказалось, все это потому, что я до сих пор пьян. Похмелье напало на меня за Яворжиной, то есть, уже в Словакии. Контроля практически и не было; культура, наши полицейские стояли на шлагбауме, только поглядели в мое удостоверение личности, да и то, – говорили, – только лишь потому, что я на эстонских номерах ехал, а они таких в жизни не видели, и им было любопытно, кто эе это такой едет. Еще мне яйцо со сметаной от пьяных болестей приготовили, я глотнул, сделал, что надо, и дальше покатил.
О, Словакия. Красивая страна, только до Чехии ему далеко. Иногда человек и поверить не может, что столько лет они одной страной были. Все немного выглядит словно давняя чешская колония, хотелось бы сказать, но что уже тогда говорить о Польше? Но тут, по крайней мере, деревни каменные, черепицей крытые – а Польша до сих пор деревянная, частенько под соломой. Дороги строятся, они тут крутые, гористые, условия сложные – только из тех денег, на помощь Польше предназначенных, чего-то и словакам капает. Имеются такие, сам в Кракове слышал, которые утверждают, что все это только лишь потому, что словаки под нас легли, а как только побогаче станут, снова к Чехии присоединятся.
А столько цыган я в жизни своей не видал. Красивые женщины, усатые мужчины, кибитки разноцветные. Индия с Испанией в местном, песчаном, деревянно-заборном соусе. Эх, Европа ты Центральная, умом тебя не объять.
Венгрия – то же самое, что и Словакия, но эти вот формы: дома, деревни, городки выглядят уже не так, как там, как будто бы их кто-то сотворил и покинул, но цивилизационная последовательность все так же продолжается. Здесь больше сока, больше начинки.
Будапешт – красивый город. Куда там Варшаве до него. Варшава, понятное дело, напрягается, готовясь к прыжку, только по сравнению с приличным, старым городом западной Европы – ведь это, вне всякого сомнения, западная Европа – все эти попытки только смешат.
С венгерскими коллегами на ужине с алкоголем. И снова немного будто в Латвии – я им про польскую дружбу, а они: на расстоянии. Так я спрашиваю: почему, ведь, известно же Magyar, Lengyel – két jó barát (Венгр и поляк – двоюродные братья), говорю. А они: что дружба – это между партнерами, а не между большим и малым.
– Слишком сильная Польша в регионе, слишком много желает сказать по любой теме, в том числе – и о нас, – говорили венгерские коллеги. – Это уже не дружба, когда один правит и решает, а второй может только поддакивать.
Возвращался я в паршивом настроении.
Болотное Озеро, где когда-то помещалось разрекламированное Блатненское княжество, хотя купание в горячих источниках – штука замечательная! В особенности, для моих старых костей.
И вот Югославия. Вот это действительно диво! Южные славяне. И поять, чего они говорят, никак не возможно. А болтают они все время. Словно итальянцы.
Через несколько сотен километров привод на все четыре колеса моего «303» и вправду начал быть пригоден. Ну а если о другом – это что-то сумасшедшее: начался самый настоящий Ближний Восток! Мечети (тут говорят: джамия), мусульманские кладбища, ориентальные одеяния, тюрбаны, женщины в белых платках, иногда с закрытыми лицами. Все это, то тут, то там, соединяется с наполовину австрийской по форме архитектурой.
Прямо сердце радуется, что это все – вся эта экзотика – что ни говори, наше! Мое! Междуморское!
Хотел я поговорить со святым имамом в одной красивой мечети, вот только ни слова друг друга не уразумели. Он по-немецки, может, пару слов знал, четыре на каком-то общеславянском наречии, и всего-то я узнал, что зовут его Ахмо, и что ему «фирундфырцык» лет. Вот оно какое, наше Междуморье. Пытаться общаться можешь только по-немецки, но и так не договоришься.
Быть может, Виткевич и был прав.
После победной сентябрьской кампании польская дружба с Венгрией обрела характер первой свадебной ночи. Когда еще до войны венгерский регент Миклош Хорти посещал Республику, польские средства массовой информации испытывали любовный амок. «ИЕК» от восхищения из штанов выскакивал: советовал «открывать ворота Барбакана», вешать венгерские флаги т «приветствовать венгерских господ». Не хватало лишь жаркого призыва к общепольскому забою свиней и устройству приветственных пиров от Тернополя до Гдыни. В общем же – вулкан аффекта к венграм походил на национальное сумасшествие.
Проявлений громадного чувства было больше, в том числе и раньше, в совершенно реальной истории. Когда перед войной решались судьбы Чехословакии, и Польша положительно подошла к проблеме возврата Венгрии тех ее территорий, где доминировало венгерское меньшинство, то по улицам Будапешта от радости носили портреты Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и – что уж поделать – Игнация Мосцицкого. Когда венгры усмирили длящуюся один день, независимость-поденку Карпатской Руси ("Карпато-Украины") и таким образом обрели совместную границу с Польшей, была выпущена серия радостных плакатов, на которых польские и венгерские солдаты подают друг другу руки над карпатскими вершинами.
После войны ничего не изменилось. Варшава хорошо помнила, что Хорти не позволил Гитлеру, хотя и был его союзником, применить против Польши хотя бы клочок венгерской территории, к тому же поставил вопрос ребром, поскольку стал угрожать вооруженным сопротивлением, аргументируя, что действовать против Польши венграм не позволяет "национальная честь".
Потому-то Польша и поддерживала дружбу с Венгрией и после триумфа над Германией. И как раз именно ей она доверила заботу над южным флангом Междуморья. Понятное дело, Варшава не могла привести к повторному приклеиванию к Венгрии Трансильвании (по Трианонскому договору принадлежащей Румынии) или же Воеводины и Хорватии (по тому же договору принадлежащие Югославии). Во-первых, у Польши не имелось такой силы; во-вторых, на такую перетасовку не согласились бы союзники (хотя Польша их к этому уговаривала, аргументируя, что таким образом были бы успокоены этнические отношения в Центральной Европе), а в-третьих, в довоенных границах Румыния и Югославия были крупнее и сильнее Венгрии и – в качестве союзников – представляли собой большую ценность. Так что Польша поддерживала сердечные отношения с Бухарестом и Белградом, только обе эти столицы прекрасно знали о польско-венгерских симпатиях. Потому Чехия – вместе с Югославией, Румынией и теми кругами в Словакии, которые перестали быть довольными конфедерацией с Польшей (а эти круги на удивление быстро набирали силу, поскольку стереотипный "восточноевропейский" бардак, царящий в совместном государстве, и самоуправство поляков в Словакии сделались просто легендарными) – образовали внутри Междуморья тихую и тайную "малую антанту". Направлена она была, в основном, против Венгрии, но и, в какой-то мере, против Польши. С этой "малой антантой" завязали симпатию Лужица (по тем же причинам, что и Словакия), а так же окрестные немецкие государства, образованные на развалинах Рейха. С "малой антантой" робко начала заигрывать и Россия.
Тем не менее, государства Междуморья сделались достаточно мощным хозяйственным объединением, в котором неплохо управляла развитая Чехия. Эта страна оказалась связником между очень «руританским»[68]68
Руритания (Ruritania) – распространённое в англоязычном мире нарицательное обозначение типичной центральноевропейской страны с монархической формой правления. Происходит из романа Энтони Хоупа "Узник Зенды" – из Википедии.
[Закрыть] Междуморьем и немецкоязычной Центральной Европой, с которыми она, впрочем, в большинстве отношений, она имела гораздо больше общего, чем с материнским блоком. Все это приводило к тому, что Прага, правда, подкапывалась под совместным проектом, только рытье это не было горячечным. Скорее, pro forma и на всякий случай.
«ТРЕБУЕМ КОЛОНИЙ ДЛЯ ПОЛЬШИ»
Победившая Польша, как и до войны, требовала для себя колоний. И гораздо громче, чем раньше. Понятное дело, как и тогда, страна делала вид, что вопрос здесь не в одном только престиже: делались попытки обосновывать потребность владеть колониями экономически. Во всяком случае, существовал Научный Институт по Исследованиям Эмиграции и Колонизации, а в 1930 году Морская и Речная Лига, организация с довольно локально звучащим названием, превратилась в мировую Морскую и Колониальную Лигу. Именно эта, насчитывающая около миллиона членов организация громче всего требовала для Польши «колоний». С этой целью организовывались демонстрации и пикеты. Причин, по которым Польша обязана иметь колонии, перечислялось множество: коммерческий обмен с колониями должен был привести в ход польскую экономику, а эмиграция в колонии – снизить безработицу.
С колониями в межвоенной Польше было так:
Вскоре после Первой мировой войны зазвучали голоса, требующие от Лиги Наций признать для Республики некоторых колоний, принадлежащих ранее побежденному вильгельмовскому Рейху: точно в такой же пропорции, у какой часть германских земель досталась Польше по Версальскому трактату. И все это с прицелом на Камерун, поскольку именно там путешественник Стефан Шольц-Рогозинский в рамках декларируемой польской колониальной активности основал когда-то плантацию какао (кстати, упомянутая колониальная активность Рогозинского, прибавим, жарко поддерживалась Генриком Сенкевичем и Болеславом Прусом). Следует прибавить, что не только у Польши имелась такая идея: сугубо сухопутная Чехословакия, к примеру, требовала, чтобы ей признали от Германии Тоголенд (нынешнее Того и часть Ганы).
Только ничего от этого раздела оставшихся после Германии колоний не вышло, поэтому польский Союз Колониальных Пионеров усмотрел для себя в качестве местечка для экспансии Анголу. Организации, такие как "Полангола", организовывали коммерческий обмен, посылали туда колонистов, которые, кстати, очень часто быстренько возвращались, перепуганные царящими в Анголе условиями.
Ангола, добавим, в то время принадлежала Португалии, и ей, в конце концов, этот польский колониальный энтузиазм надоел. Тем более, что все чаще говорилось (особенно в польской прессе) о передаче этой колонии у своей метрополии. В связи с эти, Лиссабон начал вставлять палки в колеса полякам, и дальнейшая "колонизация" Анголы сделалась еще более сложной.
Весьма похоже выглядело "польское колониальное приключение" в Либерии. Колонисты, которых условия тропиков перерастали, как правило, в Польшу возвращались на щите. Возвращалось и множество польских товаров, столь радостно экспортируемых в Африку: более всего в Польше смеялись над посылкой в Либерию партии эмалированных ночных горшков, которые, непонятно по какой причине, не пользовались особым спросом среди туземцев. Скорее всего, потому, что упомянутая эмаль была надколотой и лущащейся. А кроме того – похоже, поляки иначе и не умеют – в прессе вновь появились грозные призывы колонизировать Либерию и призвать вооруженных либерийцев в ряды польской колониальной амии, на что – в этот раз – сердито начали урчать Соединенные Штаты, протектор Либерии. Таким вот образом закончилось и это колониальное приключение Республики.
Относительно наибольшим успехом была деятельность польских колонистов в Южной Америке. И если мало чего вышло из колонизации территорий, сданных в аренду полякам правительством Перу (оказалось, что эти территории практически непригодны для возделывания земли), то вот в поселении Морская Воля, построенной Морской и Колониальной Лигой в бразильском штате Парана, поселенцев было даже много. Все они были проживавшими в Бразилии старыми польскими эмигрантами, но среди них хватало и людей, только что прибывших за океан из Польши. После того, как в Бразилии к власти пришли националисты Гетулио Варгаса, пошли слухи, будто бы Польша собирается выкроить для себя в Паране собственную территорию. И тут же Рио-де-Жанейро начало мешать польским эмигрантом, как только могло. Из них делали лояльных португалоязычных бразильцев, польские школы закрывали, что, в свою очередь, возмущало уже Республику, забывшую о собственной политике в отношении национальных меньшинств.
Эта политика, среди всего прочего, проявлялась и в уговорах к эмиграции в колонии польских евреев. Причина: отсутствие полной интеграции с польским народом. Таким вот не слишком элегантным способом поляки намеревались выдавить из страны своих сограждан, которых, впрочем, вечно рассматривали в категории "проблемы". Краковский публицист, работающий под псевдонимом Вацлав Склавус, постулировал, например, в "ИЕК" от 2 апреля 1938 года, чтобы евреи эмигрировали во Французскую Африку. Речь шла – конкретно – о Мадагаскаре, который Франция, вроде как, обещала отдать Польше в управление.
Вопрос цессии Мадагаскара в Польше рассматривался абсолютно серьезно. На остров даже выслали специальную делегацию под руководством офицера и путешественника Мечислава Лепецкого, бывшего адъютанта Юзефа Пилсудского, которая должна была исследовать, пригоден ли Мадагаскар для колонизации. Лепецкий писал, что колонизация "северной части плоскогорья" возможна, хотя и признавал, что задача будет нелегкой. Знаменитый писатель и путешественник Аркадий Фидлер, который в течение двух месяцев сопровождал комиссию Лепецкого, тоже утверждал, что Мадагаскар очень труден для колонизации, в основном, по причине твердой и неурожайной почвы. Два остальных члена делегации, господа Соломон Адлер и Леон Дык (оба еврейской национальности), прямо заявляли, что возможностей для массового поселения на Мадагаскаре нет. Точно так же считал и бывший французский губернатор острова, Марсель Оливье. "ИЕК" писал, что, по словам Оливье "у сельскохозяйственных эмигрантов розового будущего не было бы. Тяжелый труд на земле в климатических и гигиенических условиях Мадагаскара должен был бы связан с очень высокой смертностью, если бы эмигрантов оставить самим себе. Если бы же Польша должна была освоить какие-то подходящие территории и обеспечить опеку над эмигрантами, это было бы крайне дорогостоящим мероприятием. Остается вопрос промышленной и купеческой эмиграции, которая должна была быть весьма ограниченной, учитывая слишком малые возможности для сбыта".
Фактом является то, что судьбе польских колонистов – куда бы их ни забросило: в Анголу или штат Парана – нечего было завидовать, и, по сути своей, мало кто на такую судьбу решался. Многие переселенцы возвращались в Польшу, а те, которые остались в "колониях", имели, как правило, "кровь, пот и слезы". Варшава, тем не менее, упрямо твердила, что без колоний мы никуда, и Республике колонии нужны как свежий воздух.
Развитие промышленности в отдельных странах решающим образом повлияло на проявление голода на сырьевые продукты в сельскохозяйственных странах, - писал «Иллюстрированный Еженедельник» в номере от 25 апреля 1939 года. Эти сырьевые материалы Польша собиралась черпать как раз из колоний. – В 1937 году Польша заплатила за доставленное сырье 734 миллиона злотых. Это четвертая часть бюджета государства и практически столько же, что бюджет нашего Военного Министерства. То есть, мы платим чужакам за сырье, которое необходимо для нашего национального хозяйства, очень серьезный откуп.
Тем более, что, как возмущался «Еженедельник», территория земного шара была поделена «крайне несправедливо». «Англия, имея меньшую чем Польша площадь (243777 квадратных километров) набрала себе более 41 млн. кв.км колоний (…) Не хуже устроилась и Франция. При собственной площади 551000 квадратных километров собственной поверхности, она добыла себе 12 миллионов кв.км площадей в колониях. Точно так же устроились маленькие Бельгия и Голландия. В особенности, последняя, колонии которой в шестьдесят пять раз больше, чем метрополия».
Так что Польша открыто потребовала для себя колоний. И можно было выдвигать всякую псевдорациональную причину, которая могла только прийти в голову – ни одна из них не была более убедительной, чем удивительно не дающее выбить из головы предположение, будто бы польское стремление к колонизаторству основано было, в основном, н глубоком желании подтвердить великодержавный статус Жечипосполитой. И, наверняка, на кое-чем еще: желании "национального" переживания экзотического приключения, которое другие европейские страны как раз кончили переживать. Подбить фундамент своего национального эго тем, чтобы напялить пробковый шлем и разыгрывать «господ из более высокой цивилизации» в отношении, как тогда везде говорили, «дикарей». «Африканские негры по природе своей ленивы, – писал „Иллюстрированный Еженедельник“ 25 апреля 1939 года, не обращая внимание на то, что в подобном тоне средства массовой информации III Рейха распространяются как раз о поляках. – Мечтой каждого черного является получение как можно большего вознаграждения за наименьшее количество выполненной работы. Но неграмотный, первый раз встречающийся с цивилизацией, является хорошей рабочей силой. (…) пока не поддастся влиянию своих „образованных“ братьев, едва умеющих читать и писать. Для каждого негра белый является высшим, непонятным и невозможным для понятия существом. Он его ненавидит, и вместе с тем пугается и уважает».
Одним словом – кто знает, а не шла ли речь попросту о том, чтобы Стас и Нель[69]69
Герои книги Генрика Сенкевича «В пустыне и джунглях» о приключениях детей: поляка Стася и англичанки Нель в Африке. Можно прочитать саму книгу, а можно и кино глянуть.
[Закрыть] не обязаны были жить в британском Египте, но, к примеру, в польском Камеруне. И поэтому в Польше устраивались Колониальные Дни, во время которых в демонстрациях принимали участие десятки тысяч человек – и это не в одной лишь столице и крупных городах: в Радоме в 1938 году в демонстрации по поводу Колониальных Дней маршировало целых десять тысяч человек. Да, да: для целых десяти тысяч радомцев колонии были ой как важны.
Был еще, как мы помним, один мотив, стоящий за польским колониальным движением. Гораздо более мрачный.
Глава Лагеря Национального Объединения, генерал Станислав Скварчинский, так говорил 21 февраля 1938 года на съезде президиумов окружных советов ЛНО:
В отношении еврейского меньшинства Лагерь заявляет, что по причине своей специфической национальной структуры оно является помехой для нормальной эволюции масс польского народа. Данный факт обязан вызывать неприязненные чувства между польским населением и еврейским меньшинством. Только Лагерь противостоит любым демагогическим и безответственным террористическим действиям в отношении к евреям, как действиям вредным и оскорбляющим достоинство народа. Решение еврейской проблемы мы видим в радикальном уменьшении количества евреев в Польше. Возможно, что данная проблема решается только путем реализации плана эмиграции евреев из Польши. Данный план обязан учитывать интересы государства и быть абсолютно реальным. Ассимиляция евреев не является целью польской национальной политики. Но имеются единицы еврейского происхождения, которые своей жизнью доказали существенную и глубинную связь с Польшей, и, тем самым, они принадлежат польскому национальному сообществу. («Иллюстрированный Ежедневный Курьер», 23 января 1938 г.).
Короче, единицы еврейского происхождения могут и остаться. Массы же – вон на Мадагаскар.
Потому-то, вскоре после войны, не особо считаясь с расходами и реальными возможностями Польши, была сделана попытка еще раз попробовать выцыганить у Франции Мадагаскар.
Такого рода цессию еще перед войной предложил Польше Мариус Муте, министр Французских Заморских Территорий. Муте понимал, что Польша планирует организовать еврейские поселения на Мадагаскаре, и поначалу, как сам утверждал, не имел ничего против того, чтобы остров сделался «пристанью» для польских евреев (Вики Карон – Беспокойное убежище: Франция и кризис еврейских беженцев, 1933-1942, Stanford University Press, 1999, стр. 152). Но под давлением французской прессы он весьма быстро начал дистанцироваться от этой идеи (тем более, что проект поддерживал Третий Рейх, а мало кому тогда во Франции хотелось, чтобы его ассоциировали с нацистами).
Но через несколько лет после победной сентябрьской кампании к делу вернулись. Только теперь уже на правительственном уровне (потому что более ранние торги, касающиеся Мадагаскара, велись неофициально). Парижу сообщили, что Польша готова купить Мадагаскар, причем, за весьма приличные деньги (родом, естественно, от предоставленных Польше англо-американских кредитов). Франция, у которой после войны с бюджетом дело обстояло не лучшим образом, предложение приняла. После заключения трансакции Морская и Колониальная Лига превзошла сама себя: на организованных ею маршах сторонников польских "колоний" никогда ранее еще не было таких толп, слушающих столь пламенных речей. Выходили специальные издания газет и журналов. Газетчики бегали по улицам городов и вопили: "колонии для Поооо…", "наш Мадагаскааа…." И "Польша колониальная держаааа…".
Предугадать, что в связи с этим колониальным приключением будет масса хлопот и расходов, было несложно. Только Польше хотелось попробовать, как это на вкус быть "колониальной державой". Так что даже если она чего-то и предугадывала, то тихонько. Одни лишь левые вслух критиковали польские колониальные планы, осуждая их как "абсурдные" и "нерациональные". Несколько уж слишком громогласных критиков, которые в своих филлипиках продвинулись до личных выпадов против правящих, на пару недель очутилось в Березе, и через какое-то время критика притихла.
Выплату сумм за Мадагаскар разложили на многолетние части, несколько успокоили британцев и американцев, которые открыто возмущались, что все свои кредиты Польша получила не на такие цацки – и колониальное приключение можно было уже начинать. Добытые у Германии суда повезли на Мадагаскар польских солдат в только-только спроектированных и пошитых тропических мундирах и в белых пробковых шлемах с орлом. Из Гдыни в первую очередь выплыло несколько десятков будущих колониальных администраторов и около тысячи поселенцев. В большинстве своем – если не считать горстки фанатов – бедных как церковная мышь крестьян с Кресов, которые были готовы искать лучшей жизни где угодно, лишь бы только не было прямо так ужасно, как там, откуда они были родом. Они еще не знали, что ждет их на Мадагаскаре. Евреев было немного: те, кто уже решился на эмиграцию, явно предпочитали Палестину.
На церемонии передачи власти над островом, проведенной с громадной помпезностью в Атананариве (перекрещенном в Новый Краков), присутствовали Смиглы и Бек. Мазурку Домбровского (польский национальный гимн, "Еще Польска не згинела…") спели, ужасно калеча польские слова, к радости собравшихся польских официальных лиц, местные дети, специально дрессированные для такого события.
Тем временем польские военные гарнизоны разместили в ключевых местах острова, для этого пригодились покинутые французами казармы. Горстка польских пионеров, поселившихся на острове в тридцатые годы, должна была служить новым поселенцам проводниками.
Названия наиболее важных местностей с огромной радостью менялись. Таматаву перекрестили в Пилсудчицу, Амбатондразаку – в Град Бенёвского[70]70
Мо́риц либо Маури́ций Бе́нёвский (словацк. Móric Beňovský, венг. Benyovszky Móric, 20 сентября 1746, Врбау – 23 марта 1786, Мадагаскар) – венгерско-словацкий авантюрист и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь королём Мадагаскара. Обучался военному делу с 10-летнего возраста, в 16 лет поступил на австрийскую военную службу, принимал участие в Семилетней войне (1756—1763), которую окончил в чине гусарского капитана. После войны 17-летний Мориц безуспешно пытался вступить в права наследства, так как отец перед смертью завещал родовое поместье вместо него мужьям своих дочерей. Строптивый сын не смирился с последней волей отца, и с помощью верных слуг выгнал сестёр с их мужьями вон. Родственники добились заступничества императрицы Марии-Терезии. Обвинённый не только в «самоуправстве», но и в «ереси», Бенёвский был лишен наследства и скрылся в Польше, где женился по лютеранскому обряду в селе Вельканоц. Он занялся изучением мореплавания и географии, готовясь отплыть в Индию, но в 1768 году началось восстание Барской конфедерации, и он присоединился к армии повстанцев. Во время боевых действий проявил себя с лучшей стороны и завязал знакомство с Казимиром Пулавским и другими деятелями польского национального движения. При подавлении восстания русскими войсками Бенёвский попал в плен, но был выпущен «под честное слово». Вернувшись в строй и пройдя от Хотина к Станиславову, вновь был взят в плен и интернирован в Киев, а оттуда в Казань, на постой к местному купцу Вислогузову. В ночь на 7 ноября 1769 года Бенёвский, вместе с близким приятелем, шведом Адольфом Винбланом, бежали из Казани. Выкрав документы и подорожную, они смогли беспрепятственно добраться до Санкт-Петербурга. Там Бенёвский попытался договориться с капитаном голландского корабля, выдав себя за английского матроса. Но деньги у беглецов уже закончились, а осторожный голландец, выслушав обещания расплатиться в первом же заграничном порту, предпочёл выдать самозванцев местным властям. В Петропавловской крепости Бенёвский предстал перед следственной комиссией графа Панина. С него взяли подписку «никогда не поднимать оружие против России», а однажды выехав, не возвращаться. Однако, вместо освобождения, 4 декабря 1769 года Бенёвского и Винблана посадили в сани и под конвоем повезли в ссылку на Камчатку, «чтобы сыскивали там пропитание трудом своим». Путешествие через всю Россию длилось около 8 месяцев. Во Владимире к ним присоединили поручика гвардии Панова, капитана Степанова, подпоручика Батурина. В Охотске ссыльных посадили на корабль «Святой Пётр», гружёный товарами для Камчатки. Ещё в порту у Бенёвского возник замысел захватить судно и повернуть к берегам Японии. В заговор удалось вовлечь трёх матросов из ссыльных арестантов: Алексея Андреянова, Степана Львова, Василия Ляпина и штурмана Максима Чурина. Но по пути галиот попал в сильный шторм. Потеряв грот-мачту, 12 сентября 1770 года «Святой Пётр» прибыл в Большерецкий острог. В административном центре Большерецке был казённый командирский дом, в нём помещалась канцелярия коменданта капитана Нилова, церковь, 4 кладовых амбара, 23 купеческих лавки и 41 обывательский дом на 90 «постояльцев» – и 70 человек гарнизона, из которых 40-50 всегда были в разъездах. Помимо обывателей, в Большерецке находилось несколько десятков ссыльных разных чинов и званий – от придворных и гвардейских офицеров до мастеровых и крестьян, живших в условиях относительной свободы – на съёмных квартирах.
Бенёвский быстро сделался "своим человеком" в обществе ссыльных-старожилов. Особенно близко он сошелся с гвардейским поручиком Петром Хрущовым, сосланным за «оскорбление величества», и поселился у него. Именно Хрущов давно разработал план побега с Камчатки на захваченном корабле. Однако захватить корабль и незаметно выйти на нём в море было невозможно.
Бенёвский внёс в план Хрущова радикальные изменения: поднять восстание, арестовать коменданта, нейтрализовать гарнизон, а уже потом подготовить корабль к плаванию и выйти в море. Заговорщики неутомимо искали единомышленников среди ссыльных и местных жителей-камчадалов, но вели себя крайне осторожно. Приятели поддерживали хорошие отношения с комендантом Ниловым – заходили в гости и давали уроки его сыну. Капитан Нилов был неплохим человеком, но сильно пьющим и не придавал значения слухам о готовившемся побеге. Постепенно Бенёвскому удалось вовлечь в заговор значительную часть активного населения острога – около пятидесяти человек, а также зверобоев купца Холодилова. К заговорщикам примкнули местные жители: священник Устюжанинов с сыном, шельмованный казак Рюмин с женой, канцелярист Судейкин и многие другие.
Обывателям заговорщики внушали, что "страдают за великого князя Павла Петровича". В сборнике «Русский архив» за 1885 год сказано: «Бенёвский в особенности показывал какой-то зелёный бархатный конверт, будто бы за печатью его высочества, с письмом к императору римскому о желании вступить в брак с его дочерью и утверждал, что, будучи сослан за сие тайное посольство, он, однако же, умел сохранить у себя столь драгоценный залог высочайшей к нему доверенности, который и должен непременно доставить по назначению».
Весной 1771 года восстание было подготовлено, бунтовщики вооружены пистолетами с достаточным запасом пуль и пороха. Накануне бунта Нилову донесли о готовящихся «беспорядках», он тотчас послал команду солдат, чтобы арестовать Бенёвского, но на этом успокоился и снова напился. Однако ссыльные сами схватили и разоружили солдат. А в три часа ночи c 26 на 27 апреля 1771 года повстанцы ворвались в дом Нилова. Спросонья тот схватил Бенёвского за шейный платок, и чуть было не придушил. На помощь барону поспешил Панов и выстрелом из штуцера смертельно ранил Нилова в голову. Промышленники довершили убийство. В ту же ночь были захвачены канцелярия и склады, а Бенёвский провозглашен «командиром Камчатки». Большерецк был взят без боя, если не считать перестрелку с казаком Черных, укрывшимся в своём доме. Кроме Нилова, больше ни один человек не пострадал.
После похорон коменданта Нилова Бенёвский приказал священнику отворить в церкви царские врата и вынести из алтаря крест и Евангелие – каждый из бунтарей был обязан при всех присягнуть на верность "царевичу Павлу Петровичу". 29 апреля 1771 года на реке Большой построили одиннадцать больших паромов, погрузили на них пушки, оружие, боеприпасы, топоры, железо, столярный, слесарный, кузнечный инструменты, различную материю и холст, деньги из Большерецкой канцелярии в серебряных и медных монетах, пушнину, муку, вино и прочее. В тот же день, в два часа пополудни, паромы отвалили от берега и пошли вниз по течению в Чекавинскую гавань, чтобы подготовить к плаванию галиот «Святой Пётр».
7 мая 1771 года галиот был готов к отплытию. Но еще четыре дня не трогались в путь – Степанов и Бенёвский от имени всех заговорщиков писали «Объявление в Сенат», в котором говорилось о «беззакониях», которые чинили в России императрица Екатерина, её двор и её фавориты. 11 мая «Объявление» было оглашено для всех и подписано грамотными за себя и своих товарищей. В «Объявлении» упоминалось о том, что «законный государь Павел Петрович» неправильно лишён престола, о бедствиях российского народа и «несправедливости» распределения общественных благ, о «гнёте самодержавия» и бюрократического строя, мешающего развитию ремёсел и торговли. Это «Объявление» – уникальное совместное политическое обвинение от имени дворянства и простого народа. Генерал-прокурор, получив это «Объявление» через много месяцев, по повелению Екатерины II собственноручно написал: "Сей пакет хранить в Тайной экспедиции и без докладу её величеству никому не распечатывать. Князь А. Вяземской". Утром 12 мая «Святой Пётр» вышел в море и взял курс на Курильские острова. На его борту было ровно семьдесят человек.
Через пять дней плавания "Святой Пётр" сделал остановку у необитаемого острова из Курильской гряды. На нём запаслись пресной водой, напекли хлеба и сшили английские и голландские флаги. Между тем, штурманские ученики Измайлов и Зябликов и матрос Фаронов попытались обрубить якорный канат и увести захваченный корабль. Бенёвский сначала хотел казнить заговорщиков, но потом изменил своё решение и устроил им публичную порку кошками (плетьми). Герасима Измайлова и камчадалов из Катановского острожка Алексея и Лукерью Паранчиных велено было высадить на остров, оставив им «несколько ржаного провианта».
Пережив шторм, страдая от жары и нехватки пресной воды, галиот в начале июля достиг берегов Японии. Японцы отбуксировали корабль в удобную бухту, привезли воды и риса, но на берег не пустили. Зато беглецов очень хорошо приняли на острове Танао-Сима[2] архипелага Рюкю. Там простояли почти месяц, отдыхая от тяжелого пути.
16 августа 1771 года галиот встал на якорь у острова Формозы (совр. Тайвань). На следующий день часть экипажа, не ожидая неприятностей, отправилась на берег за водой. На берегу на русских напали. Были убиты поручик Панов, матрос Попов и охотник Логинов, несколько человек ранили стрелами. Бенёвский в ярости приказал обстрелять из пушки деревню и потопить проплывавшие мимо лодки. Похоронив погибших на тайваньском берегу, поплыли дальше.
Вскоре вновь попали в шторм, десять дней галиот носило по морю, и никто уже не знал, где находится корабль и куда его несет. Шторм утих, но берегов всё ещё не было видно. Но тут увидели лодку. В ней был китаец, который указал путь, и 23 сентября 1771 года «Святой Пётр» бросил якорь в бухте Макао.
Бенёвский сразу же нанес визит губернатору колонии. Он представился подданным польского короля Стани́слава II, «в научных целях» совершившим путешествие на Камчатку, купившим там торговое судно с русским экипажем. Губернатор поверил, предложил русским на время отдельный дом, познакомил Бенёвского с крупнейшими местными судовладельцами и купцами. За проданную пушнину накупили достаточно еды, сменили изношенную одежду. Однако пребывание в Макао оказалось тяжелым испытанием. Резкая перемена климата и изнурительный морской переход ослабили иммунитет россиян и они стали мишенью тропических болезней, которые унесли пятнадцать жизней. 16 октября 1771 года скончался штурман Максим Чурин. Бенёвский редко бывал с экипажем, почти все время проводил у губернатора и других влиятельных персон. Товарищи не знали, что у него на уме.
Тем временем Бенёвский продал потрёпанный и непригодный к океанскому плаванию "Св. Петр" со всем грузом и имуществом. Узнав об этом, беглецы возмутились, выступил против даже верный швед Винблан. Противоречия, которые накопились за месяцы плавания, вышли наружу, когда отдалилась опасность погони. Бенёвский прибег к помощи губернатора. Винблана и Степанова с сообщниками рассадили по тюрьмам, «покуда не одумаются». Горячие речи и воззвания Бенёвского оказали своё действие. Команда согласилась и далее считать его капитаном. Бенёвский поспешил отплыть из Макао. Сели на китайские джонки, добрались до Кантона, там уже ждали зафрахтованные французские корабли «Дофин» и «Ляверди». 16 марта 1772 года корабли пришли на Иль-де-Франс (Маврикий), запаслись водой. Во французских владениях Бенёвский чувствовал себя в безопасности – Франция в те годы была с Россией в плохих отношениях. Бенёвский встречался с французским губернатором, и тот рассказывал ему о Мадагаскаре. Можно предположить, что именно эти беседы определили всю дальнейшую судьбу неуёмного искателя приключений.
7 июля 1772 года бывшие камчатские острожники благополучно добрались до столицы Маврикия (являвшегося заокеанской колонией Франции), где, как пишет Рюмин, «определена нам была квартира, и пища, и вина красного по бутылке в день». Из 70 человек, отплывших с Камчатки, во Францию прибыли 37 мужчин и 3 женщины.
Бенёвский оставил своих спутников в Порт-Луи, а сам отправился в Париж. Там он стал популярной фигурой в аристократических салонах – романтическим героем и «славным путешественником», вырвавшимся из «страшной Сибири». Естественной реакцией было предложение поступить на французскую службу. Он выступает с проектом завоевания Алеутских, Курильских островов, Формозы. Но министр иностранных дел герцог д'Эгийон и морской министр де Буайн предложили «графу» возглавить другую экспедицию – на Мадагаскар. Бенёвский охотно согласился и вернулся в Порт-Луи. Последнее собрание беглецов было коротким. Каждый уже принял своё решение. 11 человек решили не расставаться с капитаном – семеро рабочих, приказчик Чулошников, матросы Потолов и Андреянов с женой и верный ученик Бенёвского Ваня Устюжанинов. Остальным Бенёвский выписал подорожные до Парижа. Он уже, судя по всему, встречался в Париже с русским резидентом Хотинским и выяснил, что решившим вернуться добровольно в Россию, ничего не грозит.
Екатерина II рассудила, что в этом случае лучше всего проявить милосердие и избежать излишней огласки. К тому же сама невероятность плавания и лишения, выпавшие на долю беглецов, её растрогали. Императрица была в курсе всех дел – недаром, как только журнал путешествия прибыл в Петербург, она немедленно его внимательно прочла.
27 марта 1773 года восемнадцать человек из команды Беневского отправились домой. Они пешком дошли до Парижа, встретились там с русским резидентом и 30 сентября 1773 года увидели форты Кронштадта. Швед Винблан вернулся на родину, несколько русских поступили на французскую военную службу.
В феврале 1774 года Бенёвский высадился на Мадагаскаре, сопровождаемый командой из 21 офицера и 237 моряков. Не встретив серьёзного сопротивления, они приступили к постройке «столицы» острова – города Луибур. В 1776 году 1 октября 62 старейшины местных племён избрали Бенёвского «новым Ампансакабе», то есть верховным властелином Мадагаскара. Влияние новой колонии росло. В порт всё чаще заходили торговые корабли. Это вызывало зависть колониальных властей близлежащих островов Маврикий и Реюньон. Оттуда в Париж посылали негативные реляции о деятельности Бенёвского. К тому же, в 1776 году умер благоволивший барону Людовик XV. Помощь из Франции перестала поступать. В лагере Бенёвского свирепствовали тропические болезни; число европейцев под его начальством сократилось до 63-х. Это вынудило Бенёвского свернуть свою деятельность и вернуться в Париж.
Вопреки ожиданиям, во Франции барона встретили с ещё большим интересом, чем прежде. Людовик XVI жалует ему титул графа, звание бригадного генерала, орден св. Людовика и крупное денежное вознаграждение. Однако, поскольку ожидаемых сокровищ на Мадагаскаре не было обнаружено, версальский кабинет принял решение положить проект его дальнейшего освоения под сукно.
Когда в Европе разгорелась Война за баварское наследство, Бенёвский вновь взялся за оружие на стороне австрийской короны. Это вполне примирило его с венским двором. Более того, императрица Мария Терезия даровала ему титул графа. Вернувшись в наследственный замок в Бецковской Вьеске, Бенёвский пишет мемуары и проект развития австрийской морской торговли в Далмации. Но в середине 1779 года Бенёвский снова возвращается во Францию. Во время пребывания в Париже Бенёвский увлёкся шахматами и на этой почве сблизился с американским посланником Бенджамином Франклином, который впоследствии принимал деятельное участие в воспитании его детей. Услышав об Американской войне за независимость, искатель приключений устремляется в Америку, рассчитывая вместе с Пулавским вновь побороться за идеалы свободы. Он выехал в Америку из Гамбурга вместе с тремя сотнями гусар, завербованными Франклином. Но англичане задержали корабль и высадили добровольцев в Портсмуте. Бенёвскому удалось избежать их участи, но в Америке он оказался без денег, связей и рекомендательных писем. Пулавского он застал уже смертельно раненым. Хирург госпиталя засвидетельствовал потом, что они беседовали о совместной борьбе на полях отчизны и её страданиях. После смерти Пулавского Бенёвскому не оставалось ничего иного, как вернуться в Европу, однако здесь он пробыл недолго и уже в 1781 году предложил свои услуги лично Джорджу Вашингтону. Проект Бенёвского, рукописный вариант которого до сих пор хранится в архивах Госдепартамента США, предусматривал формирование из завербованных в Европе людей «Американского легиона» численностью до нескольких тысяч солдат с кавалерией и артиллерией. Конгресс не успел утвердить проект, 19 октября 1781 года английские войска лорда Корнуоллиса капитулировали.
По-прежнему озабоченный снаряжением экспедиции на Мадагаскар, Бенёвский попытался увлечь своим проектом нового австрийского императора Иосифа II, который выразил своё одобрение, но денег не пообещал. В поисках финансирования в 1783 году Бенёвский отправился в Лондон. Ему удалось увлечь своим предприятием Жана-Гиацинта де Магеллана, учёного, члена Лондонского королевского научного общества, потомка знаменитого мореплавателя. Бенёвский и Магеллан учредили торговую компанию. Чтобы привлечь к проекту американских партнёров, искатель удачи 14 апреля 1784 года уехал в Балтимор, где окончательно оформился англо-американский консорциум.
25 октября 1785 года Бенёвский на американском торговом судне «Лэнтрэпид» вышел в море. Во время тропического шторма его корабль унесло к берегам Бразилии, где понадобилось несколько недель на устранение повреждений. Наконец достигнув Мадагаскара, Бенёвский убедил туземцев изгнать французских представителей с острова и основал новую столицу – город Мавритания, назвав его собственным именем.
С Иль-де-Франса (Маврикия) был отправлен карательный отряд капитана Ларшера. Совершенно случайно французы наткнулись на тайную тропинку, ведущую к Мавритании со стороны суши. Таким образом, утром 23 мая 1786 года отряд Ларшера с тыла неожиданно пошёл на штурм Мавритании, во время которого «король» погиб от шальной пули в самом начале атаки. Похоронен Бенёвский был на Мадагаскаре, рядом с двумя русскими товарищами, вместе с которыми когда-то осуществил побег с Камчатки.
Наибольшую известность Бенёвскому доставили его мемуары, приукрашенные и переведённые на английский язык его товарищем Магелланом. Первое их издание появилось в Лондоне в 1790 году, через пару месяцев в Берлине напечатали немецкое издание. В течение последующего года мемуары были переведены на французский, голландский и шведский, ещё через пару лет – на польский язык.
Книга пользовалась таким грандиозным успехом, что популярный драматург Август фон Коцебу написал на сюжет побега с Камчатки трагикомедию «Граф Бенёвский» (1798). Эта пьеса известна тем, что на её американской премьере в 1814 году впервые прозвучал гимн США. Хотя ещё в 1800 году в Париже давали оперу про похождения Бенёвского, более известна построенная на той же коллизии романтическая опера австрийца Альберта Доплера. В 1826 году оперу о Бенёвском сочинил англичанин Ч. Э. Хорн.
Деятельность Бенёвского на Мадагаскаре подчас трактовалась как попытка реализации утопической программы по образцу "Города Солнца" Томмазо Кампанеллы. Так, в 1928 году Смирнов Н. Г. написал приключенческий роман «Государство Солнца», где Бенёвский (под именем Августа Беспойска) является одним из главных героев. Основные события романа происходят на Камчатке, в Японии, Формозе, Франции и на острове Мадагаскар.
У Юлиуша Словацкого есть поэма под названием «Бенёвский». Одна из улиц мадагаскарской столицы Антананариву носит имя знаменитого словака.
Судьбе Бенёвского посвящен исторический роман российского писателя Валерия Поволяева "Король Красного Острова". – Из Википедии
[Закрыть] (ведь Бенёвице, согласитесь, звучало бы глупо), Манакару – в Польскую Волю, а на название города Антсирабе «ИЕК» объявил конкурс. Поступали разные предложения – Мальгашское Гнезно, Железобетонная Воля, Заморская Лехия, Национальное Деяние, Южные Крестоносице, Варшава-Колония, Новый Радом, Янов Собеский, Большие Казимежице и Владиславово Ягеллонское, но окончательно выбрали знакомо звучащие Теплице по той причине, что в окрестностях имелись горячие источники. После недолгих раздумий к названию прибавили еще слово «Польские».
Вот Фианаранцуа переименована не была – Республика постановила таким вот образом отдать должное предприятию мальгашского народа мерина, который возвел этот город в XIX столетии в качестве одного из своих культурных центров: название "Фианаранцуа" означает "хорошее обучение". Но, как и в каждом мадагаскарском городе – в обязательном порядке – главным улицам дали имена Пилсудского и Бенёвского.
В мальгашских школах были введены обязательные уроки польского языка. Несчастные юные мальгаши учились бормотать "Сhrząszcz brzmi w trzcinie"[71]71
Сhrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie [хшõшч бжми ф тшч’ине ф Шчэбжэшыне] "Жук (майский жук, а точнее даже – сверчок) гудит в тростнике в [городе] Щебжешине" – строка из стишка Яна Бжехвы.
[Закрыть] и петь Богородицу, а еще заверять: «не станет немец нам в лицо плевать». По памяти они же перечисляли польских королей.
Дети французских колонистов могли продолжать обучение на родном языке, впрочем, широкие и автономные права мальгашских французов очень подробно определил Акт продажи Мадагаскара Польше. Французские поселенцы и так, как следовало ожидать, массово протестовали против этой сделки. Многие из них выехало во Францию после того, как власть над островом передали Варшаве. Впрочем, польские власти касались их в весьма ограниченных рамках: французские колонисты все так же подчинялись французским законам, французским судам и французской администрации, элементы которой именно для этой цели и оставили на Мадагаскаре. Помимо того, Париж содержал на острове военный гарнизон для защиты собственных граждан. Так, на всякий случай.
Французы учили поляков, как вести администрацию в колониях. А при случае: как презирать туземцев. Вот это как раз трудностей не представляло. Польские офицеры в специально спроектированных тропических конфедератках и светлых мундирах чувствовали себя на острове словно князья, наслаждаясь собственным "цивилизационным превосходством". Их письма в Польшу по тону походили на высылаемые в реальной истории юным Клаусом Шенком фон Штауфенбергом (тем самым, которого сегодня почитают в качестве автора знаменитого, хотя и неудачного покушения на Гитлера) в Германию во время сентябрьской кампании в Польше. А писал он, между прочим, что "местное население – это невероятная чернь", народ, "который хорошо себя чувствует только под кнутом", и что пригоден он может быть исключительно для развития немецкого сельского хозяйства. Поэтому, делал вывод фон Штауфенберг, следует как можно быстрее польские земли колонизировать.