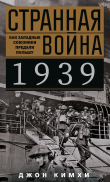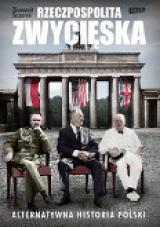
Текст книги "Республика - победительница (ЛП)"
Автор книги: Земовит Щерек
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Ржешов, который проиграл Сандомиру соревнование в столичности, тем не менее, тоже ухватил ветер в паруса. В город, шумно объявленный будущей промышленной метрополией, начали поступать инвестиции – и народ из окружающих сел. В течение декады количество его жителей возросло вдвое: в начале тридцатых годов в нем проживало около 25 тысяч человек, в 1939 их было уже 40 тысяч. Начали расширяться рабочие кварталы. Перед городом встала перспектива стать городом крупным: в 1938 году был разработан план развития – через тридцать лет здесь должно было проживать 150 тысяч человек (в реальной истории в 2010 году здесь жило почти 180 тысяч человек).
Планировались крупные финансовые вложения: возведение зданий общественного пользования, строительство двухполосных (то есть, уже тогда являющихся устаревшими) шоссе, которые должны были появиться – что уж тут поделать – за счет старой городской застройки центра, которой в Ржешове и так было немного. С северной стороны города планировалось проложить объездную дорогу. Что интересно, как можно узнать из статьи, помещенной на официальном сайте города Ржешова: "характерной чертой было закладываемое различие жилищного стандарта квартир в планируемых кварталах в зависимости от степени образования жителей".
То есть, на основе трехэтажного жилого блока с единым фасадом в Ржешове строили квартиры площадью от 32 м2 до 90 м2 – первые были предназначены для рабочих (жилая комната с кухней и туалетом, без ванной), средней величины (около 60 м2: 2 комнат, кухня и ванная с туалетом) для техников и чиновников, а самые крупные, трехкомнатные, для инженеров: с кухней, ванной и раздельным туалетом; количество квартир на одном этаже колебалось от 2 до 4.
И сделать в Ржешове необходимо было ой как много. Репортер "ИЕК" в номере от 12 сентября 1938 года так описывает свое пребывание в этом городе:
"Ржешов не принадлежит к числу самых красивых в мире городов. Некоторое называют его "Моисейшев", так как национальных меньшинств здесь хватает, но, в принципе, там очень даже мило и уютно, особенно вечером, когда темнота скрывает всякую грязь и недостатки, а улицы заполняются прохожими, беззаботно снующими туда-сюда по аллее 3 мая", – пишет автор, мимоходом доказывая, что меньшинства в межвоенной Польше рассматривались в категориях "проблемы" даже средствами массовой информации, которые сегодня мы бы назвали мейнстримовыми, про-правительственными и такими, которые формируют общественное мнение, ибо как раз таким стредством массовой информации и был "ИЕК".
"Сейчас Ржешов распирает от гордости", но "пока что в Ржещове весьма печально и бедненько, и необходим укол из многих и многих миллионов, чтобы город этот стал походить на западноевропейский", – констатирует журналист "ИЕК".
ВАРШАВА
Модернистская застройка вступила и в Варшаву – а что застраивать тут имелось, ведь столица относительно сильно пострадала от войны: ведь она была фронтовым городом, располагающимся на линии Вислы. Конечно, она не познала столь чудовищных разрушений, как после варшавского восстания, но убытки в городской структуре были серьезными. Уничтоженные бомбардировками кварталы отстраивались в том же стиле, что и в уже упомянутом Сандомире. Так что новые кварталы не слишком отличались от тех, которые появились в ранний период ПНР. Ведь ПНР не взялась ниоткуда: в какой-то степени она была, если говорить об архитектуре и городском строительстве, исполнением мечты Второй Республики о форме ее самой. Достаточно почитать, как представляли себе будущее столицы межвоенные авторы science fiction, например, Стефан Барщевский в книге Чанду:
Понятное дело, что в Варшаве Барщевского имелись все те футуристические изобретения, без которых фантастика не может обойтись, то есть "подвижные тротуары, подземные электрические и пневматические железные дороги", но писатель представил и какую-то часть видений межвоенных поляков относительно идеального внешнего вида столицы. А чтобы столица была идеальной, ее следовало поначалу – в соответствии с теми представлениями – разрушить. Только лишь затем, чтобы возвести заново.
"Сохранился лишь седой Рынок Старого Города и кое-где историческая застройка", ну, к примеру, Королевский Замок. "Это были всего лишь немые свидетели политического романтизма, в рамках которого (…) преобладала печаль по прошлому, нежность к созданному отцами и праотцами", – писал Барщевский. Варшава, заново выстроенная на развалинах старой, сделалась "городом, наполненным светом, проникавшим повсюду, где было множество пространства, украшенного зеленью бульваров и парков". Дома, в основном, были "пятиэтажными, приспособленными к окружению стилем и цветом, с как бы отполированными, такими легкими для очистки стенами".
Помимо этих "полированных стен" (которые, естественно, в Варшаве появились, только несколько позднее) – это видение ничего вам не напоминает? Ну а дальше еще лучше:
Варшава – равно как и другие города – должна была стать чистой, свободной от дымов и испарений, ибо "век угля минул бесповоротно". Все должно было приводиться в движение электричеством и водой. О горняках следовало вспоминать с испугом, словно о рабах. "О лошадях как о транспортном средстве было забыто", – писал Барщевский. – "Эти прекрасные животные" сделались лишь "украшением жизни". Все передвигаются на автомобилях, которые "являются одновременно и геликоптерами (…) доступными для каждого и удобными по причине чрезвычайно легких, но могучих аккумуляторов". А потом Барщевского несло совсем: крыши всех домов голода были одновременно и посадочными площадками. На углах этих крыш размещались неоновые надписи с названиями улиц, над которыми варшавянин пролетал, так что город сверху был похож на огромную карту.
Но давайте вернемся на землю, даже если она является почвой альтернативной истории. Следует признать, что реальные предвоенные планы развития Варшавы были столь же импозантными. После войны, пользуясь частичным разрушением столицы, эти планы проводили в жизнь в расширенной версии.
Было начато, к примеру – с громадным размахом – строительство монументальной, представительской части Варшавы, а точнее, ее нового центра: квартала Маршала Пилсудского.
Этот квартал реализовали так, как ее описал варшавский президент, Стефан Старжиньский, в предвоенной публикации Развитие столицы. Итак, район этот начинался от Вислы (приблизительно в окрестностях Агриколы), чтобы захватить Уяздовский Замок и «памятник в честь Маршала, который должен быть возведен на площади Свободы» (нынешняя площадь На Роздрожу – На Распутье).
Именно в этой точке, у основания монументального памятника Маршалу (конкурс на создание этого памятника был объявлен еще перед войной) начиналась аллея, естественно, имени Пилсудского, которая затем пересекала улицы Маршалковскую и Польную. Далее, через Мокотовское Поле и Ипподром, шла она – как описывал Старжиньский – в виде "великолепного, широкого, современного проспекта вдоль трассы парадов (…) вплоть до Храма Провидения" и до Поля Славы перед этим святилищем.
Вокруг аллеи Маршала Пилсудского был спроектирован и строился "ряд параллельных и поперечных (…) улиц", которые "на территориях, оставшихся от ипподрома и Мокотовского Поля" образовывали новый представительский район. "Ось этого района – аллея Маршала – на долгие годы заменит нам игравшую до сих пор первую роль Уяздовскую Аллею", – писал Старжиньский.
Еще перед войной проект отстраиваемой столицы будил сильные эмоции. В 11-ом номере ""Архитектуры и Строительства" за 1938 год известный архитектор, студент, между прочим, Ле Корбюзье, Зигмунд Скибневский, в статье "Новый, превосходный район" радуется, что тот не станет такой же «трагедией», которой считал застройку Гдыни, сравнивая ее с застройкой Грохова. Скибневский в реальном ходе истории был одним из основателей Бюро Восстановления Столицы, им же он стал и в альтернативной истории, после выигранной войны. И это как раз он руководил строительством района Маршала.
Район был выстроен в рекордное время. Смиглы и его окружение относились к нему, словно к памятнику, возведенному в честь победы, впрочем, громадная статуя Рыдза, который после "берлинской виктории" посчитал себя особой, чуть ли не равной Пилсудскому, тоже должна была встать на площади Берлинских Победителей, точно на полпути между площадью Свободы и Храмом Провидения Божия.
Район Пилсудского и вправду оказался гигантским. По размаху она сильно превышала нынешнюю варшавскую MDM[49]49
MDM – Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa = Маршалковский Жилой Район, самый центр Варшавы.
[Закрыть]. Вот только эта монументальная часть города с самого начала была мертвой. Здесь размещались исключительно центральные государственные учреждения. У обычных варшавян не было особых причин, чтобы туда собираться, и через какое-то время перестали там даже прогуливаться. Нельзя не согласиться с тем, что Лазенки[50]50
Лазенки – парк с Королевским дворцом (бывшей купальней!), популярное место отдыха варшавян.
[Закрыть] были, что ни говори, приятнее.
Потому-то по району Маршала, между огромными строениями в форме параллелепипедов, бетонными фигурами, сформированными в гордые формы, ездили практически только лишь правительственные лимузины и автомобили дипломатических миссий. Целое производило мрачное и гнетущее, довольно-таки тоталитарное впечатление. В то же самое время Муссолини возводил под Римом гигантский квартал с названием EUR, несколько ранее Альберт Шпеер спроектировал мегалитические здания столицы мира – Германии, в которую должен был превратиться Берлин (не забывая о так называемом Ruinenwert, то есть, заботясь о том, чтобы здания были спроектированы таким образом, дабы и тысячи лет спустя они выглядели столь же живописно, как развалины римских и греческих храмов), а в Москве возводились строения, по размаху равняющиеся египетским пирамидам. Район Пилсудского идеально вписывался в это течение.
Храм Божьего Провидения тоже был массивной, бетонной глыбой. К ее строительству Республику обязывало специальное постановление от 17 марта 1921 года: это было как гласило указанное постановление "исполнение обета, данного Четырехлетним Сеймом" в качестве выражения благодарности для небесных сил за Конституцию 3 мая. Перед храмом расстилалось Поле Славы, называемое еще Форумом, ассоциацию которого к Римскому Форуму делаа очевидной колоннада Национальной Библиотеки. Именно там стояла триумфальная арка, на которой перечислялись места великих польских побед. Имелась там – а как же – и надпись "Берлин 1939". Названия улиц в этом районе (Первой Бригады, Второй Бригады, Кадровых Стрельцов, Дружинников, Голубого Солдата и тому подобное) ассоциировались исключительно с так называемыми деяниями Независимости.
Боже ж ты мой, – писал Витольд Гомбрович в Дневниках из чудом спасенной Польши, – это районище, площадище, ибо районом всего этого назвать ну никак нельзя – это есть нечто такое, что с человеком ничего общего не имеет. Это потрошит из человека все человеческое и наполняет, словно воздушный шар, сжатым национальным воздухом. Идет человек по этой улице, думая еще о себе, как о человеке, и тут бело человеку делается, пусто, бело-бело от всей этой пустоты, никаковски, и шаг за шагом он в воздушный шар превращается – и вот он уже не человек. Воздушный шар, заполняемый патриотизмом, телесность которого такой порции патриотизма вынести уже не может и вот сейчас от него – бабах! – и лопнет. Идет человек по этому Району Маршала Пилсудского, по этому РМП, тротуар, каблук, пусто, пусто, углы прямые, бетон, каблук, бетон, величие, величавищие, величиезавр, все далеко, стены далеко одна от другой, пространства тут масса, а вот дышать нечем. Пространства полно, а давит! Гнетет хуже, чем давней архитектуре стены каменных доходных домов. Сатурн на монуиенте словно мстительный Сатурн, как Уран, Нептун, Плутон, а потом – дорога широкая, затопленная в белом космосе пустоты. Громадный Дед на памятнике, нечеловеческий, совершенно не такой, чем был, не такой, чем мы его запомнили. Ну да, Пилсудский был ворчуном, но мог – пускай и осторожно – кулаком стукнуть – так ведь этот страх перед этим стуком, перед грубостью – как раз и делал его человечным. То, что от страха из пистолета палил, чудом себе в лоб не попал в Енджееве, когда с легионерами границу Королевства переходил, то, что от страха трясся в школе на Праге во время майского покушения. Это его человечным делало. И еще то, что опал, что ругался, что блядями прозывал. А тут – Рыдз из него божество сотворил, и сам теперь, словно Август под Цезарем, на божественность претендует.
Идет человек, идет себе по этому районищу, от смеха давится, когда видит эту колоннаду а-ля древний Рим, ибо тут же ему де Кюстин [51]51
Кюстин – (Custine) Астольф де (1790-1857), маркиз, французский литератор, монархист. По приглашению императора Николая I посетил Россию. В книге «Россия в 1839» (т. 1-4, 1843; много переизданий в Европе) – восприятие России как страны «варваров» и рабов, всеобщего страха и «бюрократической тирании», книга вызвала поток официозных опровержений. Отношение к ней русской интеллигенции было разноречивым. – Советский Энциклопедический Словарь
[Закрыть] вспоминается, и что он про Петербург писал. Что это не здесь, не на эту землю, не на эту историю, не на этот народ, ибо только народ способен из самого себя способен национально идиота из себя сотворить, когда сам себе нечто подобное возводит. Что выглядит эффектно, но соответствует как корове седло. Потому что такова и есть наша нуворишеская и вульгарная великодержавность. Манифестация ее напоминает то, как нувориш деньгами своими хвастает и прикуривает сигары долларами.
И парадокс заключается еще и в то, что Район Маршала Пилсудского, весь этот РМП – ничего польского в себе ни капельки не имеет. Ну да, не имеет, нет ее, ибо почему оно тут должно быть, что должно быть, если польскость эта, возможно, и пространство, только к пространству этому слишком легкое отношение, семимильными, а не простыми шагами. Это только какое-то легкое касание этого пространства – не тяжкий шаг! Это что ж, улан толстый? Гусар полноватый, пускай и крылатый? Сармат пузатый, товарищ по оружию грузноватый – но легко, на коняшке, через степь, через равнину! А его, то есть наша, архитектура – что? Деревянная усадьба, хотя и на каменном фундаменте! Легкая! Соломенная крыша мужицкой хаты! Легкая! Даже Вавель какой-то такой, не приземистый, тоже не тяжкий, как раз затем, чтобы был, и только лишь затем, что все другие имеют замчища национальные, хранилища памяти народной – так что и нам иметь следует. Так ведь Вавель и не тяжелый, легкий-легусенький. А тут все эти колоды фашистские, эти мегалиты сталинские, тот последний и мстительный дух побитого и убитого Гитлера.
Польша, раз уж мы тут в польский дух играемся и остаемся при нем – это, все-таки, конь, а не конюшня, это – все-таки – структура, опирающаяся на чем-то неуловимом – на соседях, на системе дворов-усадеб, неопределенной такой, соединенной не дорогами, не шоссе – но соседскими симпатиями и антипатиями, на том, что, пан, мол, уважаемый, пан дорогусенький, именно на этой уважаемости, на этой помещичизне – а не на насаждении на земле, этой вот земле подобных мегаблоков окаменевшего дерьма, потому что эта земля подобных не вынесет.
Лично для меня весь этот район – не Варшава.
После ухода Стефана Старжиньского на главный пост в сандомирском воеводстве новым президентом Варшавы стал ее предыдущий вице-президент и сотрудник Старжиньского, Юлиан Кульский. Кульский продолжал реализацию планов предшественника. И делал все, чтобы с ним сравниться. Потому что Старжиньского, когда он уходил на должность сандомирского воеводы, варшавяне провожали более эмоционально, чем Веняву, когда тот отправлялся на дипломатический пост в Рим. Ведь Старжиньский для Варшавы был символом золотого века. Стефан Вехецкий, он же Вех, варшавский фельетонист и хроникер, описывающий плебейскую, уличную культуру столицы, писал, что Старжиньский желает «лишить его хлеба». Ибо о чем, – плакался Вех, – придется писать, когда весь город будет порядочным образом устроен. Драматизировал, что его герои – варшавские плуты, комбинаторы, мелкие преступники и бездельники, смазывающие волосы не бриллиантином, а смальцем – никак не смогут функционировать на «вымощенной Зомбковской улице».
И действительно, управлялась Варшава как следует. И у нее были амбиции. Пускай скажут об этом хотя бы то, что при Старжиньском они уменьшались, а не росли. "Тарифы, – вспоминал президент в Развитии столицы, – был снижен с 25 грошей до 20, и это не считая специальных скидок". А по столице – вспоминаем – ездило все больше автобусов, то есть расходы на общественный транспорт росли, и эти возрастающие расходы на транспорт в нашей действительности были обоснованием роста цен на билеты. Помимо чисто польских моделей, Варшава заказывала много транспортных средств зарубежного производства, в основном, «шевроле». Чтобы было еще приятнее, была снижена оплата за пользование общественными туалетами, причем, на половину, с 20 грошей до 10. Ну а «оплата за пользование писсуарами», – сообщал президент, – была полностью отменена".
Кульский, планка для которого была подвешена очень высоко, за работу взялся энергично. Модернизацию Варшавы он начал с обеспечения сообщения.
"Самой большой из коммуникационных сложностей Варшавы, – перед войной в Развитии столицы писал Старжиньский, – является то, что ее развитие основано на слишком узких улицах Краковское Предместье, Новый Свет и ул. Маршалковская". Потому, уже при Кульском, главной коммуникационной осью, пересекающей последовательность «Иерусалимские Аллеи – Третьего Мая – Вашингтона» стал проспект Независимости. В Жолибож пробили путепровод, расширяя Бонифратерскую. Строились новые виадуки, в том числе и те, что предлагались еще Старжиньским – на улицах Радзыминьской, Бема, Млынарской и Земовита.
С целью разнообразить монотонный, плоский характер города, новый президент Юлиан Кульский (в соответствии с планами, вычерченными еще предшественником) попытался использовать береговой откос Вислы, который считался «необыкновенно ценным естественным урбанистическим элементом Варшавы». "Это возвышение, – писал Старжиньский в Развитии столицы, – наряду с прекраснейшей водной гладью царицы рек наших, Вислы, это наиболее дорогие ценности в пластическом формировании города".
Чтобы использовать эти – как определил президент – "ценности", по краю откоса проложили новую улицу, вид с которой протирался "далеко на восток, за реку, пробуждая в гражданине, по причине возможности поглядеть далеко-далеко за город, чувство величия и силы (…). С другой же стороны улица (…) обсаженная деревьями и ухоженная, всегда будет представлять собой эстетический элемент в городе, позволяя горожанину почувствовать красоту волнистости территории, чего нам так не хватает не только в Варшаве, но и в округе".
Что касается самой Вислы, Старжиньский понимал необходимость регулирования ее берегов, но пока что, как он сам писал: "Висла меняет свое течение и направление, и остается такой же капризной, словно бы через пустыню, а не через Столицу текла". К регулируемой Висле город стал разворачиваться "лицом". Начали прокладываться прибрежные бульвары, "чтобы реку в городе ухватить гранитными берегами", и "прибрежные артерии". Был предпринят "ряд работ на Гданьской набережной", цель которых заключалась в том, чтобы "во всей красоте показать нам чудесный силуэт Старого Города". В широком масштабе планировалось возвращение к жизни исторических памятников.
Неподалеку от того места, в котором в реальной истории высился Дворец Культуры и Науки (разрушающий – по мнению многих – урбанистический уклад Варшавы), появилось нечто, не сравнимое, правда, с гигантизмом Дворца, но особенно уютным тоже не было. Речь идет о Центральном (Главном) Вокзале, громадная глыба которого, стоящая у обширной привокзальной площади на месте нынешней станции «Варшава-Центр» (неподалеку от пересечения Иерусалимских Аллей с улицей Маршалковской) доминировала во всем центре города. Вокзал был обдуман как визитная карточка Варшавы, и в то же самое время – как манифестация могущества польского государства, здесь имелось множество аллегорических рисунков и барельефов на стенах, в том числе – монументальное изображение богини Полонии.
Вся суть заключалась в то, чтобы производить впечатление на приезжих. Ибо Варшава ожидала гостей. Еще до сентября 1939 года перед польской столицей встала перспектива организации нескольких международных мероприятий, которые можно сравнить с Евро-2012. В их числе была Всеобщая Национальная Выставка, которая должна была состояться в 1944 году и с гордостью представлять результаты двадцатипятилетнего существования возрожденной Республики, а так же Всемирная Выставка, привлекающая миллионы посетителей со всего мира (такие выставки продолжают проводиться: нам они известны под названием Экспо). В 1950 году в Варшаве планировалось организация Олимпиады. А в 1941 году в Польше должны был состояться чемпионат мира по велоспорту.
Несмотря на военные разрушения, Варшава приняла решение принять вызов и организовать все эти мероприятия. Тем более, что уже существовали чудовищно амбициозные планы строительства выставочных территорий на Саской Кемпе[52]52
Саска Кемпа (Saska Kępa). Название этого правобережного района переводится как ‘саксонские кочки’. Но не торопитесь с выводами. Вокруг Саской Кемпы нет болот, да и германоязычной общины тоже не наблюдается. Давным-давно здесь действительно был острова на Висле, но со временем река изменила русло, и остров слился с «материком». Саксонским его называли потому, что в начале XVIII века польский король Август III из саксонской династии Веттинов арендовал эту местность и устраивал здесь гулянья. Если же говорить о сбивающих с толку географических названиях, то Саска Кемпа здесь прямо-таки чемпион: Французская улица (Francuska) переходит в Парижскую (Paryska), пересекает Аллею Соединенных Штатов (Aleja Stanów Zjednoczonych), откуда уже рукой подать до Египетской (Egipska) или Афинской (Ateńska)… http://culture.pl/ru/article/putevoditel-po-neponyatnym-nazvaniyam-varshavskih-rayonov Кстати, как раз в Саской Кемпе проживает замечательный писатель Вальдемар Лысяк, он даже книгу написал «История Саской Кемпы» – Прим.перевод.
[Закрыть], в районе нынешнего Национального Стадиона (именно после всех этих международных планов на Саской Кемпе остались улицы: Французская, Интернациональная, Финская и т.д.).
И эти проекты стали реализовывать. Помимо павильонов начали возводиться монументальные здания, в том числе, Музей Техники и "варшавская башня" – в этом плане Варшава явно позавидовала Парижу (а ведь Эйфелева башня тоже была построена с целью отметить Всемирную выставку). Неподалеку от башни начали возводить высокий обелиск. Оба эти строения, "доминанты (…) видимые в перспективе Иерусалимских Аллей из-под Центрального Вокзала, – как пишет Ярослав Трыбуш, специалист по незастроенной Варшаве, в опубликованной в журнале "Res Publica Nowa" статье "Варшавское не-появление"[53]53
Очень красивая игра слов. По-польски статья называется: Niepowstanie warszawskie, что можно перевести как «варшавское не-появление», но и как «варшавское не-восстание» – ведь в реальной истории Варшава в значительной степени была разрушена как раз в результате Восстания 1944 года. – Прим.перевод.
[Закрыть], – они прекрасно помогали бы ориентироваться в городе".
Как считает Трыбуш, варшавская башня не походила бы на парижскую, но "наверняка, ьыла бы ближе по стилистике игле Всемирной выставки в Нью-Йорке 1939 года, названой Building the World of Tomorrow (Строение Завтрашнего Мира). Олимпийский стадион (вместе со "спортивным парком") начали строить на Секерках. Другая часть "спортивного парка" должна была появиться на Жолибоже[54]54
Жолибож – дзельница Варшавы, расположенная в северо-западной части города на левом берегу Вислы. В настоящее время является самой маленькой по площади дзельницей города. Секерки – дзельница к востоку от парка Лазенки. – Прим.перевод.
[Закрыть].
Вех так описывал варшавскую Олимпиаду 1950 года:
– Ну вот видите, уважаемый пан Вонтробка, уже ж третий день Олимпиады в Варшаве.
– Да иди пан к черту с такой олимпиадой.
– А пану она чего мешает!? Приехали люди со всего света, нашу красавицу Варшаву осматривать…
– Ну, это факт, народу со всего света понаехало. На Маршалковской толкучка такая, как на Керцеляке (центральный рынок Варшавы – прим.перевод.) в базарный день, пройти невозможно, все время кто-нибудь только и «гавдуюду», «сильвупле», «прего», «престо», и ежли человек святейшего польского языка послушать желает, так ему нужно в очаг, как говорится, семейный, к супруге уважаемой заворачивать, а такого, пан признает, не всегда и хочется. Ничего человек не понимает, чего там ему говорят, и это в собственном, прошу вас, городе. Даже на водку некуда, пан мой, пойти, ведь все пивные теми иностранцами переполнены, холера бы их всех взяла. И всю селедочку слопали, и всю водочку выхлестали… Так что иди-ка ты, пан, с такой олимпиадой. Французские граждАне с усиками фу-фу-фу, англичане брЫтанские, родственники уважаемые с Америки, что еще при царе выехали, а теперь возвращаются с долларом и думают, что в этой жизни короли, так что или, пан. Вот, правда, немцы, холеры чертовы, не вписались, хи-хи-хи…
– Пан Валерий, это побежденный враг, побежденный и обезвреженный, так что чувство джентльменства и чести заставляет относиться к таким с уважением…
– С уважением, пан мой красивый, это я могу тещу водкой напоить или тестю в рожу со всем уважением поцеловать, только не фрицу… Даже если он уже и обезврежен.
– Ну, у всех у нас с ними всякой было, только ведь теперь Германии уже и нет. Имеются Лужица, Вендийский Край, Шлезвиг имеется…
– Дам я им Шлезвиг, холерам чертовым! Мой кузен был на Вестерплатте [55]55
Вестерпла́тте (нем. Westerplatte) – полуостров на польском побережье Балтийского моря под Гданьском (Данцигом), где в период с 1 по 7 сентября 1939 года гарнизон польского Военно-транзитного склада удерживал оборону против немецких войск. – из Википедии
[Закрыть] , так рассказывал, уважаемый, как там грохотало…
– Ну, может, Шлезвиг – неудачный пример. Ну а Рейнская область? У их спортсменов замечательные результаты в пятиборье…
– Когда, уважаемый мойЮ ни на Опачевскую наступали в тридцать девятом, так мы им такое пятиборье устроили, так мы их до самого Груйца гнали, ну а потом уже и возвращаться надо было, потому что их там немного набралось, что прямо страшно стало…
– Так что же, пан Валерий, пан положительных сторон Олимпиады не видит? Варшаву можно теперь загранице представить, а ведь есть что! Да и экономика заработает, ведь гости, что ни говори, а денег тут сколько там оставят…
– Представить я могу кулак морде, а не Варшаву чужакам! Но правда такова, что ведь и вправду оставят. Только что в трамвае видел, как пиской одному такому фу-фу-фу карман покроили и портмонетик элегантно так извлекли…
В Варшаве, last but not least, начали строительство метрополитена. Старжиньский считал, что столица нуждается не менее чем в 25 километрах подземных путей (стоимость их строительства он оценивал «как минимум, в 200 миллионов злотых»), и это было бы «всего лишь скромным началом». «Помимо крупных капиталов, – писал президент, – подземка требует серьезной подготовительной работы, и они были начаты и ведутся в быстром темпе, поскольку мы не теряем надежды, что возрастающие со дня на день сила и могущество нашей Республики и нашей Столицы позволят нам в относительно короткое время приступить к этой как серьезной, так и какой же срочной инвестиции».
Последнее предложение следовало, похоже, читать как "пока что у нас нет денег на метро, но не будем терять надежд" (перед войной кредиты на строительство метрополитена Варшаве готовы были предоставить зарубежные фирмы, в том числе, что любопытно, одна германская, но в будущем они требовали большой доли в доходах метро и даже всего общественного транспорта). Но в альтернативной истории "сила и могущество Республики" и вправду возросли, так что Варшава могла себе такого рода инвестицию позволить.
Строительство было начато в соответствии с планом, намеченным еще перед войной.
Сеть подземных коммуникаций, как в германской системе "U-Bahn/S-Bahn", должна была быть связана с наземными линиями (что по непонятным причинам не может осуществиться в Варшаве из реальной истории, хотя расширенная система рельс была бы столь идеальным дополнением рахитичного метро, что, а кто знает, нужно было бы копать очередные туннели).
В ноябре 1938 года было создано (при Трамвайной Дирекции) Бюро по Исследованиям Подземной Железной Дороги, которое и создало планы метро. Первой следовало проложить Линию А, идущую с юга на север: с окрестностей площади Любельской Унии до жолибожской площади Вильсона (со станциями, между прочим, на площади Наполеона (нынешней Варшавских Повстанцев), площади Пилсудского, на Налевках и на Мурановской площади). Линия В должна была идти в состока на запад: от Восточного Вокзала на Воле до перекрестка улицы Вольской с Плоцкой (пересадочной станцией с Линией А размещалась бы под площадью Пилсудского). Это был абсолютной минимум.
Далее планировалось строительство линии, идущей от площади На Раздорожье (которая тогда уже была бы площадью Свободы с гигантским памятником Маршалу посредине) до улицы Каровей, где соединялась бы с Линией В, и очередной линии, тоже начинающейся под памятником Пилсудскому на площади Свободы, и до окружной дороги, идущей на Жолибож (через площади Спасителя и Товаровую). Планировалась линия, соединяющая Новый Свет с улицей Товаровой и укружающа столицу – опять же из под ног Маршала через Восточный вокзал и Шмулёвизну до Мурановской площади, а дальше через Товарову и Груецкую – назад под памятник Пилсудскому, который – как получалось – стал бы покровителем крупнейшей в городе пересадочной точки. Все эти линии – прибавим – под землей должны были идти лишь частично: на левой стороне Вислы никаких тоннелей копать не собирались, равно как и на улице Окоповей. На реализацию этого предприятия – подсчитали – нужно было затратить тридцать пять лет.
Так что в альтернативной истории, в которой все должно было пойти хорошо, через тридцать пять лет после 1939 года, то есть в средине семидесятых годов, Варшава должна была стать городом, располагающим приличной системой путей сообщения, городом с приятной аллеей на краю откоса Вислы, с выставочными территориями, а так же громадным и мрачным мегарайоном, населенным чиновниками, военными и заваленным памятниками, флагами и тоннами министерских бумаг. Этот район не был бы скроен но человеческой мерке, точно так же, как не по людской мерке скроены окрестности дворца Чаушеску в Бухаресте или же застройка эффектных, но как-то не слишком любимых недавно построенных столиц: Бразилии или же Анкары.
ВТОРАЯ ЖЕЧЬПОСПОЛИТАЯ КАК ПНР
Расширение Варшавы, как заметил Старжиньский, шло «вслед за городскими инвестициями». Город развивался «вдоль и в округе улиц Гроховской, Радзыминьской и Пулавской и т.д. и т.п., тех головных артерий, который были устроены в первую очередь». После обустройства улицы Вольской город начал переть вперед еще и там. Планировали и строили целые новые кварталы: между Служевом и Служевцем, между Млоцинами и Вавржишевом.
Что любопытно, если бы кто-нибудь из нашей действительности перенесся в ту, альтернативную реальность, то с изумлением отметил бы, что новые кварталы столицы удивительно похожи на старую Новую Гуту или же на те кварталы польских городов, которые возводились в эпоху ранней ПНР. Одним слово: в этом пункте нам изумительно легко представить "что было бы, если бы".
Ведь знаменита история о том, как словенский философ Славой Жижек, глядя на здание предвоенного Пруденшла[56]56
«Prudential» (Пруденшл), варшавский небоскреб, который был возведен в 1931-1933 годах на площади Наполеона (ныне площадь Варшавских повстанцев) в стиле ар-деко для английского страхового агентства «Пркденшл» – из Википедии.
[Закрыть], принял его за коммунистическое чудище. «Сталин только поставил точку над I, – прокомментировал Жижек. – Все это было здесь уже раньше». Архитектурные и урбанистические основы ранней ПНР не сильно отличались от тех, что были распространены в конце тридцатых годов во Второй Республике.
Можно быть уверенным и еще в одном – во всех этих проектах не предусматривалось (поскольку никогда и не предусматривалось) наиважнейшей вещи, которая и вызывает, что польские города выглядят так, как выглядят: деятельности так называемого человеческого фактора, то есть, не столько людей, которые жти проекты реализовали, сколько тех, которые бы ними пользовались. В Польше, что уж тут поделаешь, всегда гораздо легче было что-нибудь спроектировать и выстроить, чем впоследствии содержать в более или менее состоянии. А новые обитатели-горожане, массово поступающие в новые кварталы Варшавы, были родом из деревень и не обладали опыта в пользовании городскими удобствами и оборудованием. В результате, новые районы, несмотря на все изыски, представляемые на кульманах архитекторов, довольно быстро достигли того состояния запущенности, которое известно нам из ПНР.