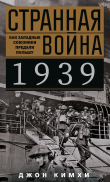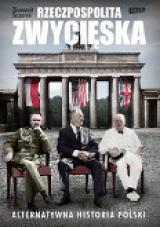
Текст книги "Республика - победительница (ЛП)"
Автор книги: Земовит Щерек
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
МАДАГАСКАР – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
Колония на Мадагаскаре в альтернативных пятидесятых годах сделалась только лишь источником неприятностей и хлопот. Правительство негласно начало выпрашивать французов, а нет ли у них желания выкупить остров назад, пускай даже за часть той суммы, что была выплачена десять лет назад, но французы только выразительно стучали себя по лбу. Хотели колоний – имейте теперь.
А польскому обществу мадагаскарские проблемы тоже были выше крыши. Тема, поначалу экзотическая и любопытная, приелась и сделалась исключительно скучной. Оппозиционная пресса расписывала о том, какие сумасшедшие деньги идут на содержание острова, о польской администрации на нем и, якобы, виллах под пальмами и других тропических радостях, которых у польских политиков из верхних эшелонов власти просто девать некуда.
В 1951 году Польша признала независимость Мадагаскара, но Варшава эту независимость контролировала. Участие в контроле было предложено еще и Парижу который – хотя бы учитывая наличие собственных граждан на острове – отказать не мог.
После того, как с мачты спустили польский флаг и подняли мальгашский, после того, как бывшие колонизаторы и колонизированные пожали друг другу руки, Республика забрала с острова администрацию и часть военных соединений, оставляя на месте лишь нескольких консультантов и немного солдат. А еще – взбешенных польских колонистов, которые едва-едва выживали на глинистой и неурожайной земле Мадагаскара.
Нас сюда заманили, нам обещали достойную жизнь взамен за тяжкий труд, теперь же Польша от нас отвернулась, и за тяжкий труд мы получаем еще более тяжкую жизнь, - писал в своем дневнике один из колонистов. – Неожиданно мы сделались обитателями страны, с которой нас ничего не связывало, которая была страной бедной и отсталой. Тогда зачем мы выезжали из отсталой Польши, чтобы жить в еще более отсталой стране? К тому же, управляемой теми, кого Республика так долго гнобила? И к которым, не скрываю, мы редко относились, как к равным себе. И как теперь устанавливать с ними отношения? Как глядеть им в глаза? Где прятаться, если они начнут искать мести? Или нам всем перебраться в стены польского форта, который нам здесь милостив оставили?
ЗАВЫШЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ
В пятидесятых годах в параллельном мире появились первые признаки кризиса. Международные кредиты, пускай и данные под низкий процент, нужно было выплачивать, не говоря уже про несчастную рассрочку за Мадагаскар. Государственный интервенционизм привел к тому, что Польше удалось в значительной степени сделаться промышленной, расширить инфраструктуру, но с другой стороны, подобная система тормозила предпринимательство снизу. Ожидания общества в отношении к реальной экономической ситуации, к тому же еще и искаженной пропагандой успеха, были слишком высокими, и несмотря на размещение части промышленного производства в провинции, село не было хорошо развитым, в города постоянно прибывало много людей, ищущих работу. Масштаб безработицы был гораздо ниже, чем до войны, заработки повысились, но недостаточно высоко. И случилось именно то, что часто случается в подобных ситуациях, ведь определенное улучшение бытовых условий порождает еще более высокие стремления. Аппетит растет по мере еды, и граждане начали требовать больше, чем Польша была в состоянии им дать. И существует ведь правило, что революции вспыхивают не тогда, когда нечего в кастрюлю положить, но тогда, когда становится чуточку полегче и получше.
Так что, все чаще стали происходить уличные протесты недовольных рабочих и безработных. Социализм, которого поляки не познали, для многих все так же счиался решением, потому на улицах вновь появились красные штурмовые бригады. Власть отреагировала именно так, как и следовало ожидать, то есть арестами левых активистов. Заслуженная Береза снова заполнилась.
К протестующим на сей раз присоединилась и либеральная оппозиция, требующая демократизации политической системы. И, что любопытно, президентский лагерь осудил эти протесты весьма умеренно.
Верховный Вождь уже знал, что идут тяжелые времена.
МЕЖДУМОРЬЕ РАСПАДАЕТСЯ
Альтернативная Республика не была в состоянии удержать сильный блок государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Уж слишком слабой была ее сила воздействия и – по причине усталости от внутренних и приграничных проблем – небольшая фактическая возможность предоставления союзникам возможной военной помощи. Чехи вместе с австрийцами установили более тесные связи с послегерманскими государствами и с Западом. Балтийские страны предпочитали сотрудничать, скорее, со Скандинавией, чем с совершенно непривлекательной Польшей. Объединенная с Варшавой в единую федерацию Словакия, успокоенная относительно стабильной международной ситуацией, начала чего-то там заикаться о независимости. Все так же с Польшей стратегически была связана Венгрия, у которой имелись собственные проблемы в регионе – она никак не могла потерпеть утраты Трансильвании и Воеводины, что приводило ее к конфликту с Румынией и Югославией. Действующий уже с какого-то времени трансатлантический союз установления безопасности ослаблял связи в Междуморье, и государства региона вернулись к классической политике взаимных «игр» и установлению региональных временных альянсов.
ГЛАВА VI
ЧТО БЫЛО БЫ С ТОЙ ПОЛЬШЕЙ?
Предполагая, что Польше были предоставлены гигантские кредиты, я выбрал наименее правдоподобный сценарий (хотя весьма серьезно об этом говорил Эугениуш Квятковский в цитированном выше высказывании)[77]77
См. стр. 25.
[Закрыть]. Ведь очень сложно решить, а было бы у англосаксов откуда наскрести столь большие средства, предоставленных Польше в виде кредитов. Но я предположил, что было откуда, и что денег этих хватило для реализации намерений и планов междувоенной Жечипосполиты. В этом альтернативном видении речь идет о попытке представить себе некую польскую мечту, которая – раз! – и исполнилась, о ситуации практически идеальной, которую Вторая Республика видела в собственных снах.
Но подобное фантазирование не имеет смысла, если не поместить его в реальном контексте. И, если можно представить такую внешнюю ситуацию, в которой от Польши были бы отодвинуты смертельные для нее угрозы (погружающийся в маразме и коллапсе Советский Союз, политически разбитая Германия), то внутреннюю ситуацию в Польше так подрихтовать уже не удастся.
Причина добровольного предложения Польше союзниками столь гигантской помощи не сильно отличается, как я уже вспоминал, от той, что была предложена Джорджем Фридманом в книге Последующие 100 лет. Разве что это его видение было перенесено почти что на сто лет назад.. В футуристическом сценарии Фридмана Польшу должны подкрепить США для того, чтобы держать под шахом все более ассертивных и агрессивных русских. В сценарии, в котором коалиция их Франции, Великобритании и Польши громит Германию, причин для укрепления Польши даже больше: Европе необходимо защищаться не только от России в ее советском издании, но и перед возрождением германской мощи.
Но Фридман, как мне кажется, в своих рассуждениях делает весьма существенную ошибку. Дело в том, что он предполагает, что достаточно будет Польше подкинуть оружия и финансов, и откроется потенциал, достаточный, чтобы она стала самой настоящей державой.
Фридман, к примеру, предвидит, что после распада России и ослабления государственных структур Украины и Беларуси такая дополнительно вооруженная и финансово подкрепленная Польша вернется на Кресы и таким образом будет дополнительно укреплена.
Сложно, правда, представить это укрепление Польши, следующее из неожиданной потребности сопрячь гигантские территории Беларуси и Украины в свою хозяйственную, общественную, инфраструктурную и всякую иную систему. У Польши всегда были серьезные проблемы с освоением даже собственного пространства, что уже говорить об аннексии соседских территорий. Достаточно вспомнить, сколько проблем было с Заользьем. Или поехать на современные послегерманские западные земли, чтобы своими глазами увидеть цивилизационное поражение Польши на этих территориях, ведь Польша до сих пор не в состоянии справиться с тем, что оставили там немцы – и похоже, что уже нельзя валить вину за нынешнее положение вещей на сорок лет ПНР и чувство временности колонизаторов этих земель. ПНР ведь закончилась четверть века назад, а жители западных земель давно уже не боятся, что вернутся немцы и все у них отберут, потому и нет смысла в них вкладывать средства. Впрочем, отсутствия цивилизационного лейтмотива Польши более всего боятся в ее трагическом культурном пейзаже – в деревнях, выглядящих как соединение всего со всем, и городах, осваиваемых людьми, лишенными чувства непрерывности с теми, кто эти города создавал. Речь идет о том, что способ, каким поляки пользуются собственными городами, склоняет к размышлениям, что они совершенно не чувствуют и не понимают архитектуры и урбанистики. Это в чем-то походит на то, каким образом нынешние обитатели Туниса осваивали давние французские кварталы Туниса. И речь не идет только лишь о принадлежащих Польше постнемецких территориях. Четко видно, что современные поляки не ведут себя как непосредственные наследники даже тех, которые создавали польские города и в других, этнически польских регионах страны.
Огромное влияние на такое положение вещей, естественно, имеет влияние отсутствие еврейского городского населения и уничтожение огромного числа польских интеллигентов, то есть отрыв, как это часто определяется, "головы у народа". А еще социальное продвижение, социальный подъем селян, произошедший в ПНР. Селяне в прошлом, становясь новыми горожанами и переселяясь уже не только лишь в пригородные блочные кварталы, но и в городские центры, понятия не имели, как этими городскими удобствами и благами пользоваться. Не слишком-то справились, кстати, и в селах. Ведь деревня, до недавнего времени бедная и в большой степени деревянная, как только заметила возможность улучшения условий своей жизни, архитектурно не ссылалась архитектурно на местные образцы, как это происходит, к примеру, в Венгрии, и таким локальным образцом в Польше могла быть только лишь всеми презираемая деревянная хата. То есть, селяне начали строить то, что предложила им фантазия. Но вот это отсутствие архитектурного охвата – ведь никак не повредило бы вычертить хотя бы генеральные директивы сельской застройки – можно воспринимать как одно из проявлений отсутствия польской цивилизационной связности.
Ну да, спасенная Вторая Республика имела бы иную структуру, чем ПНР: в ней существовали бы помещики как класс, в ней проживали бы евреи, класс горожан только укреплялся бы, крепла бы интеллигенция. Огромное значение наверняка бы уделялось, как и перед войной, созданию польских региональных стилей – как архитектурных, так и орнаментальных. Культурный пейзаж выглядел бы совершенно иначе – но и не так уже сильно. В конце концов, ПНР тоже не пришельцы создавали, но те же самые люди, которые бы выстраивали Вторую Республику, если бы та выжила. Польские модернистские города эпохи ПНР тоже не строили пришельцы из других галактику, но "довоенные" поляки. А народ, который в них поселился, прибыл в них из таких же самых деревень, из которых они прибыли бы в них же в спасенной второй Республике. Понятное дело, что вплетающиеся в городское население селяне не доминировали бы городской пейзаж столь быстро, как это происходило в ПНР, но наплыв из деревень в города был бы и так силен, в особенности, если мы предполагаем мощное развитие польской промышленности. У этих новых горожан было бы от кого учиться пользованию городскими удобствами – но они были бы все так же теми же самыми людьми, с теми же самыми инстинктами, которые были присущи пришельцам в польские города времен ПНР. Помимо того, достаточно поглядеть на снимки довоенных польских городов, чтобы понять, что и у этих "учителей" была масса хлопот с поддержанием городского пейзажа в надлежащем состоянии, а так же почитать описания одичавших польских местечек и межвоенную прессу, плачущуюся о "западноевропейской мечте".
А если мы примем во внимание, что культурный пейзаж, создаваемый народом, является отражением его реального потенциала, тогда ьудет легко понять, что Польше предстояло много чего еще сделать на собственном "дворике". Ведь у нее не было достаточно иного собственного, привлекательного содержания, потенциала, который – в качестве державы – она могла бы нести за собственные границы. Поначалу, как кажется, ей следовало бы поработать над тем, чтобы прилично выстроить саму себя, чтобы не превратиться в оттоманскую Турцию или царскую Россию, в очередной колосс на глиняных ногах, который завоевывал других, мало чего имея в самой себе, чтобы, в конце концов, неизбежно рухнуть.
Междувоенная Польша, если бы ей удалось выжить, крепла бы, накапливала потенциал и укрепляла бы собственную форму, но уже в исходной точке она были слишком уж разбитой изнутри, слишком бедной и отсталой в плане инфраструктуры, чтобы процесс шел быстро. Даже если пропустить разрывающие страну проблемы с меньшинствами, с которыми Польша, скажем мягко, сосуществовала не очень хорошо, нельзя было не обратить внимания на проблему существования в государстве гигантских различий, которые не слишком-то помогали в интеграции. Речь идет о громадных различиях в уровне жизни между городом и деревней, равно как и громадной разницы в развитии и цивилизационном уровне между Кресами и Силезией или Великой Польшей. Помимо того, границы междувоенной Польши весьма сильно закрепляли ее в Восточной Европе и "расцарапывали" отношения с православным миром. Нынешние границы однозначно помещают Польшу в Центральной Европе, отсекая страну от "восточнославянских" проблем, на которые, ну да, мы смотрим, но не обязаны в них участвовать.
Польское размахивание сабелькой и националистический авторитаризм отстранило бы от Польши ее партнеров, гарантирующих безопасность, а вот это не было бы хорошо. Ведь Польша, учитывая ее геополитическое положение, в каком-то смысле обречена на поиски какой-то формы собственной великодержавности. И уж наверняка, на укрепление своей позиции и силы, если она желает функционировать в такой форме, в какой – более или менее очевидно – она функционирует уже тысячу лет. Но как Первая, так и Вторая Жечьпосполита в реальной истории проиграли в борьбе за выживание в этом сложном регионе, играя самостоятельно.
С другой стороны, межвоенная Польша, если бы выжила, имела бы огромный шанс внести в европейскую культуру собственное содержание и собственные смыслы, не являющиеся калькой иных смыслов и содержаний. На это она была бы способна со своей спецификой – помещичеством, городской культурой, довоенной интеллигенцией, меньшинствами, художественными кругами и – что весьма важно – стремлением догнать и перегнать. И только лишь тогда, как заметил Гомбрович, с ней по-настоящему начали бы считаться на континенте, если бы тот не мог представить самого себя без Польши, точно так же, как он не в состоянии представить себя без Франции, Италии, Англии или даже Германии.
Польша, пытаясь окрепнуть на этом "европейском военном пути", которым является открытое, равнинное пространство, тянущееся от Атлантики до Урала, должна была бы избрать для себя какой-то путь развития. Грубо можно вычертить два – назовем их "восточный путь" и "западный путь". Первый путь, это тот, по которому сейчас идет, к примеру, сегодняшняя Россия. Россия не пытается уравновешивать свое силовое воздействие (hard power) воздействием, основанным на привлекательности – то ли экономической, то ли культурной (soft power) – а даже если и пытается, то за всем этим не следуют системные изменения, которые бы эту российскую soft power делали достоверной. Это не означает, что такого воздействия нет – для многих регионов (части Кавказа, Средней Азии, Беларуси, значительной части Украины) Россия привлекательна – но ее внутренняя ситуация и предлагаемые ею цивилизационные решения не в состоянии удовлетворить жителей Центральной Евпропы, которые от России отворачиваются и ее боятся. А вот Германия, наоборот, обладает очень большим потенциалом цивилизационной привлекательности: и экономической, и культурной, и так далее, и благодаря нему – если не считать периодов военного варварства – действует за пределы границ. То же самое можно сказать о Великобритании, Франции или Соединенных Штатах. Это и является «западным путем».
Польша должна была бы сконцентрироваться на одном из этих путей. Желая, например, в качестве регионального лидера, быть привлекательной для государств Междуморья, ей следовало бы, в большей степени, поставить на экономическое и общественное развитие, чем на военное, и довести до ситуации, в которой Междуморье само бы "льнуло" к ней, признавая Польшу желанным и достойным доверия партнером. Кроме того, идя этим путем, она сделалась бы неизменным элементом геополитического порядка Европы на востоке, который – как таковой – ценился бы и западными державами. Но если бы, наоборот, Польша сделалась бы эгоистичным региональным крикуном, пытающимся ставить окружающие государства на место посредством силовых демонстраций, очень быстро ее признали бы не стабилизирующим, но дестабилизирующим регион элементом.
Конечно, у довоенной Польши имелись огромные амбиции, относящиеся развития, и она развивалась, но ее отношения с близкими соседями по Междуморью были далеки от идеала. Вину за это не поносила исключительно она сама, но, будучи более крупной и сильной страной, Польша не могла удержаться от воздействия на соседей с позиции военной силы, что не прибавляло ей популярности в регионе. И делало ее в подобных действиях своего рода центрально-европейской версией России. Причем, скорее всего, той нынешней, поскольку следует помнить, что Советский Союз в глазах некоторых общественных групп располагал определенным потенциалом идеологической привлекательности.
Понятно, что по мере развития и усиления Польши такая привлекательность бы возрастала, и если бы Республика удержалась от региональной спеси, а вместо того выступала бы в качестве арбитра в "междуморских" спорах, которых в регионе хватало, у Жечипосполитой имелся бы шанс вырасти в такого лидера. Но сложно представить подобный сценарий, если бы в Польше нарастал национальный авторитаризм. И даже после его свержения Республике сложно было бы вновь обрести достоверность и доверие региона, точно так же, как в нынешнем мире доверием не пользуется Россия, ведущая себя непредсказуемо и презирая законы международного сожительства.
Точно так же, в основном, благодаря построению представления о Польше как государства, привлекательного для собственных граждан, каким-либо образом можно было решить внутренние проблемы страны и пытаться объединять с идеей Жечипосполиты национальные меньшинства. Только вот, такая Республика должна была бы согласиться на введение в свою структуру хотя бы элементы многонационального государства. Ведь серьезной проблемой Второй Республики была ее внутренняя шизофрения – в состав государства были включены населенные русинами Кресы, но велась политика создания народа, скорее этнического, чем политического. С одной стороны, публицисты жаловались на то, что среди украинцев потерялась красивая идея gente Ruthenus, natione Polonus (народ русинский, нация польская – лат.), а с другой стороны государство проводило пацификацию украинских местностей и разрушало церкви. С агрессивными фракциями украинцев дискутировать, понятное дело, не удавалось, но если речь идет о попытках связать с Республикой наиболее широких кругов украинского населения, то была избрана политика, трагичная по своим результатам, ведь главным инструментом сделалась конфронтация.
В отношении к евреям политика государства колебалась весьма сильно: в эпохе, предшествующей Национально-Радикальному Лагерю, для властей хотя бы в какой-то степени было важно пробудить в них чувство совместной ответственности к Республике, но под конец существования Второй Республики, скорее, доминировала риторика "полонизации", буквально провозглашалась потребность в избавлении из государства еврейской стихии. А в государстве, столь этнически разделенном, каким была Вторая Республика, подобное решение, без обращения к неприемлемым средствам трудно было себе представить.
Наряду с экономическим развитием Польши пробуждалось бы общественное сознание поляков, и военная авторитарная диктатура наверняка бы в какой-то исторической точке была бы свергнута, вот только существовал риск, что это случилось бы в тот момент, когда внутренний конфликт уже развернулся бы слишком сильно, и государство, удерживаемое вместе исключительно силой, могло бы попросту распасться. Не исключено, что таким же образом, как распалась Югославия. Возможно и такое, что и в Польше произошла бы интервенция западных держав. И если бы соответствием польского Косова стала бы, к примеру, восточная Малая Польша, то польской Черногорией могла бы стать, допустим, Силезия. И с ней могли бы порвать с ней точно так же, как Черногория порвала с Сербией. Ведь до какого-то момента различие Черногории от Сербии рассматривалась в, основном, региональных категориях, но когда международная марка Белграда значительно ухудшилась, Черногория внезапно вспомнила о государственных традициях – как кажется, в значительной степени потому, что просто не желала делить с Сербией судьбу парии в Европе. В сильно ослабленной Польше, обедневшей, с безнадежной репутацией за границей, которую избегают инвесторы, сепаратистские настроения могли бы разгуляться еще сильнее.
Историю альтернативной Польши я довел именно до этой точки, поскольку, чем дальше мы заходили в историю, тем больше бы появлялось возможных вариантов, и даже столь головоломный рассказ не смог бы их все охватить.
Что случилось позднее, вы узнаете из помещенного далее репортажа о путешествии по Второй Республике в 2013 году. Субъективная форма позволит принять единственную конкретную – и по мне, наиболее вероятную – последовательность событий.
ЭПИЛОГ
РЕПОРТАЖ О ПОЕЗДКЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ В 2013 ГОДУ
Приземлился я в Окенче – официально: в Аэропорту имени Маршала Юзефа Пилсудского почти что после полудня. Громадная модернистская глыба, возведенная еще перед Олимпийскими Играми в 1950 году, соседствовала с более современным, довольно скромным терминалом.
Пограничный контроль прошел более-менее быстро, хотя багаж – несмотря на то, что его просвечивали – обыскали еще раз, а документы осматривали против света и проводились через всевозможные считыватели. Таможенники, в одинаковой степени уставшие, сколько и надоедливые, пояснили мне, что того требует внутренняя ситуация в стране.
– У нас в Польше много проблем, – сказал таможенник повыше, в темно-зеленом мундире и округлой фуражке с небольшим орлом. – Надеюсь, вы уж простите неудобства.
– Какие проблемы?
– Да пан, чего, газет не читает? – буркнул таможенник пониже, несколько курносый, с типичным восточноевропейским лицом. Низкий, округлый, розовые щеки и нос будто разваренный овощ. – А откуда пан так хорошо по-польски говоришь? – заинтересовался он.
Я пожал плечами.
– Я из польского семейства.
– Так вы – поляк?
– Ну, это было бы слишком большим упрощением, – сказал я.
Он махнул рукой.
– И что? Разве ничего у вас там про Польшу не пишут?
– Пишут, – пожал я плечами. – Один раз хорошо, другой раз – плохо. Как и обо всех.
– О, – заинтересовался тот, что повыше. – А чего пишут?
– Хорошее или плохое? – спросил я, подтягивая рюкзак.
– Ну, сначала… – задумался таможенник, – сначала хорошее.
– Ну… – теперь уже я задумался. – Амшут, что… что народ гостеприимный. Женщины красивые. Нуу… Шопен. Серьезная литература…
– А плохое?
– Знаете, – ответил я, усмехаясь про себя. – Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки впустили меня в эту страну.
– У "этой страны" название имеется, – буркнул тот, что пониже, курносый.
– Знаю, знаю, – буркнул теперь и его напарник. – Евреев у нас бьют и украинцев. Мы же плохие парни Европы. Ведь кто-то обязан быть. Только, пан, если бы все было так просто…
– Простого ничего нет, – ответил я. – Об этом мне известно.
– Это хорошо, что известно, – ответил таможенник и пропустил меня дальше, на паспортный контроль. Тот прошел гладко.
День был замечательный, сентябрьский. Перед застекленные окна терминала вливался теплый, мягкий свет. Небо было бледно-голубым, с желтоватым подливом. Я очень люблю это время года. Меня охватывает ранне-осенняя спокойная меланхолия и отрешенность, а у меня сложилось впечатление, что это будет самый подходящий настрой для путешествия по Польше. Так что осень я выбрал сознательно. Она, вроде как, и золотая и исключительно польская, но для меня было важно увидеть эту страну и в солнце, и в грязи, в красоте и уродстве. Для этого нет лучшего времени года, чем осень.
В холле меня обступили таксисты. "Такси, такси, сентер уан хандрид злоты". Я отогнал их всех. В путеводителе я читал, что такая поездка, максимально, стоит пятьдесят, но и так не собирался брать такси. Мне было известно, что из аэропорта имеется удобное железнодорожное соединение с Центральным Вокзалом. Я шел, поправляя тяжелый рюкзак, и осматривал витрины и выставленные товары. Та же самая дешевка, что и во всех аэропортах, беспошлинные сигареты, духи, бестселлеры для долгих перелетов и сувениры для тех, кому не на что тратить деньги, а вот со вкусом у них значительно хуже, чем с содержимым кошелька. Но, с другой стороны, – подумал я, – такие сувениры, это же витрина народа. Они много говорят о том, каким образом народ желает продаться. И каким его запомнят.
Шарфики футбольной сборной. Польша. Бог, Честь, Отчизна[78]78
«Бог, честь, Отчизна» – девиз польских рыцарей. См., например, https://www.saga.ua/43_articles_showarticle_1872.html
[Закрыть]. Вавельский дракон на мраморном постаментике, уродливый, как черт. Варшавская сиренка, на таком же постаментике, уже получше, в основном, по причине крупного размера груди. Ну да. «Красота польских женщин». Львовский лев. Маленькие автомобильчики – радваны. Наиболее типовые польские автомобили, модель классического периода, ставшая культовой. Не только здесь, но и во всем регионе, насколько мне известно. Величайший экспортный успех Польши во всей истории. Маленький, пучеглазенький, симпатичный автомобильчик. На нем катались представители контркультуры во всем, как это когда-то называлось, Междуморью. От Эстонии до Греции.
А ко всему этому путеводители: по-английски, по-французски, по-испански, по-итальянски… О-хо-хо, имеются путеводители даже на немецком и русском языке. Poland, Pologne, Polonia, Polen, ну вот, пожалуйста – Польша, даже Bolandia[79]79
"В Судане Польшу называют «Боландией», это потому, что в арабском языке нет буквы "п"… – https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVlciOtf3ZAhVFDywKHWDLA6wQFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F8%2F472%2FArtykul%2F866081%2CNa-slowo-Bolandia-wielu-Sudanczykow-sie-usmiecha&usg=AOvVaw2f2H-bhTk1Dk85p-S_48h_
[Закрыть] имеется. И по отдельным городам: Lemberg, Львов, Cracow, Krakau, Cracovie, Varsovie, Warsaw, Warschau – на bitte. Рекламные проспекты: Visit the Tatras; Enjoy Warsaw's nightlife, this city truly never sleeps; Exotic touch of Jewish Nalewki district; Go to the Krakow's Kazimierz and feel the taste of genuine European Jewishness; Cracow, the city of Polish kings; Lodz's industrial charm, Polish Riviera – small, therefore cozy; Go and see Polish sea, the pearl of the Baltic; Kresy offroad – rent the jeep and feel the heat!; Rural paradise – welcome to Rurytania!; Polesie – Polish Africa[80]80
Для тех, кто не в ладах с английским: Посетите Татры; Наслаждайтесь ночной жизнью Варшавы, этот город действительно никогда не спит; Экзотический прикосновение еврейского района Налевки; Отправьтесь в краковский Казимеж и почувствуйте вкус подлинного европейского еврейства; Краков, город польских королей; Промышленный шарм Лодзи; Польская Ривьера – небольшая, поэтому уютная; Приезжайте увидеть Польское море, жемчужину Балтики; Кресы за пределами проезжих дорог – возьмите напрокат джип и почувствуйте кайф!; Сельский рай – добро пожаловать в Руританию!; Полесье – Польская Африка. (…) Путь к современности – от ГОП до ЦПО. ГОП – Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) – Верхнесилезский Промышленный Округ – Верхнесилезский промышленный район – городская агломерация в Верхней Силезии и западной Малой Польше (Малой Польше), сосредоточенная вокруг города Катовице в Силезском воеводстве.. А про ЦПО вы читали раньше…
[Закрыть]. И кое-что для наиболее изысканных – The trail of modernism – from GOP to COP.
И Пилсудский, Пилсудский, Пилсудский. "Дедушка". Так его здесь называют. Только лишь в Турции я видел нечто подобное с Ататюрком. На пограничном посту неподалеку от Эдирне всего в одном вестибюле я насчитал пятнадцать Ататюрков: на портретах, на календарях, плакатах, открытках. Ну ладно, здесь это все-таки в чуточку меньшем масштабе. Пилсудских здесь чуточку меньше, чем Ататюрков в Турции, хотя и ненамного меньше. В холле аэропорта, еще того, старого, сороковых годов, грома-а-дный маршал имелся в виде грома-а-адного настенного изображения, выполненного где-то в пятидесятых годах, впрочем, рядом со Смиглым-Рыдзем. Пилсудский в мачеювке[81]81
Мачеювка (macejówka) – фуражка характерного покроя с круглым верхом, плотно прилегающий головной убор Польских Легионов и стрелецких организаций, который любил носить Пилсудский.
[Закрыть], Рыдз – в конфедератке. Белые змейки на воротнике. Оба, лицом к лицу, глядят куда-то вдаль, ну совсем как Маркс-Энгельс-Ленин, разве что Пилсудский какой-то затюканный и обеспокоенный, а Рыдз радостно усмехается и скалит зубы будто какой-нибудь киноактер двадцатых годов. У всех тех старинных диктаторов был такой шарм давнего кино. Ататюрк на снимках выглядит что твой вампир из старых фильмов ужасов; Рыдз – словно почтенный муж, которому изменяет жена; Муссолины – словно тот, с которым эта жена изменяет; Сталин – словно ученый-психопат. Даже тот несчастный идиот Гитлер походил на персонажа из дешевой оперетты или старинного комикса.
И вот теперь тут, среди сувениров, маленькие фигурки Пилсудского. Дедушка сидит, стоит, глядит, думает. На таком постаментике, на эдаком. Имеется и Пилсудский на Каштанке[82]82
Не рассказ Чехова, а кличка любимой лошади Пилсудского.
[Закрыть] – диктатора можно посадить на лошадь, снять с нее. Но вот Смиглого-Рыдза среди сувениров нет.
– А где же у вас Рыдз? – спросил я у продавщицы.
– Кого? – Не поняла. Оторвалась от смартфона. Молодая, в волосах цветастая пряжь. Колечко в носу.
– Рыдза-Смиглего.
– А что? – задала она вопрос в ответ. – Не знаю. На Вавеле. А в чем дело?
– Нет сувениров с Рыдзем, – пояснил я.
Девушка несколько удивленно глянула на меня.
– Пан первый, кто про него спрашивает.
– А почему у вас нет Рыдза?
– Не знаю, вот нету у нас Рыдза, – продавщица была раздражена. – В лес идите, можете себе набрать[83]83
Rydz = гриб рыжик. Давным-давно в шестидесятые годы была песенка: Rudy, rudy rydz – рыжий, рыжий рыжик. Пела, по-моему, Хелена Майданец. Вариант на русском языке – «Рыжик» – пела Тамара Миансарова.
[Закрыть]. Только пищевые продукты на борт самолета проносить запрещено.
– Спасибо.
– Пока.
– До свидания.
– Дания.
Я вышел.
Перед зданием аэропорта стояли такси. Классические польские Ls, стилизованные под пятидесятые годы. Ну типа того, что класс и неизменность, идея, слизанная у лондонских такси. Снова "мыстыр, уан хандрыд". Я отрицательно качал головой, шел дальше, следуя указателям "Transport to Dworzec Główny, Warsaw Centrum«. Прошел мимо огороженного крупного паркинга. Присматривался к автомобилям. Немного польских машин PZI, много американских, довольно-таки много японских. Тут же „пежо“, „фиаты“, в том числе и польские. Немного баварских „bmw“, и вообще много машин из германских государств». Станция была тем же самым, что и аэропорт – частью мирового, глобализованного пространства. Двери на фотоэлементах, машина для чистки мраморного пола, на стенах панели мягких цветов. Я заплатил картой за билет в автомате и и сел в подъехавший вагон.
Трава за окном была еще зеленой, сочной и густой. Никто ее не стриг. Через пару минут я увидал жилые блоки. Те самые, которые правительство строило в шестидесятые и семидесятые годы, чтобы предотвратить образование трущоб и, хоть минимально, соответствовать требованиям Афинской Хартии[84]84
Афинская хартия – это градостроительный манифест, составленный Ле Корбюзье и принятый конгрессом CIAM в Афинах в 1933 году. Текст документа основывался на результатах ранее проведенного изучения опыта планировки и застройки 33 крупнейших городов мира. Итогом стал кардинальный пересмотр принципов и целей градостроительства в исторически изменившихся условиях функционирования мегаполисов. Из 111 пунктов Афинской хартии наиболее важны следующие два:
– "свободно расположенный в пространстве многоквартирный блок" – это единственно целесообразный тип
жилища;
– городская территория должна чётко разделяться на функциональные зоны:
жилые массивы;
промышленная (рабочая) территория;
зона отдыха;
транспортная инфраструктура.
[Закрыть]. Дома были серыми, бетонными. По форме напоминали такие же здания из бедных кварталов британских и ирландских городов, впрочем, по их образцу эти кварталы и строились. Тут в голову пришло желание увидеть их вблизи. Я вышел на станции «Колония Раковец», прошел сквозь обрисованный баллончиками и обоссанный тоннель – и вышел прямиком в микрорайон.