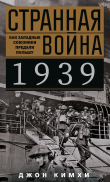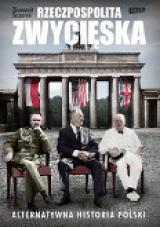
Текст книги "Республика - победительница (ЛП)"
Автор книги: Земовит Щерек
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Словом – если речь идет о внешности культурного пейзажа страны – между продолжавшейся Второй Республикой и ранней Польской Народной Республикой наверняка можно было бы найти очень много похожестей. Достаточно осмотреть довоенные фотографии, чтобы развеялся миф о чистых и надлежащим образом содержащихся городах межвоенного периода. Понятное дело, миграция из села в города Польши, не познавшей социализма, проходила бы медленнее, чем в ПНР, ну а городские homines novi (новые люди – лат.) учились бы поведению в городе от своих осевших здесь ранее соседей (ведь послевоенным новым горожанам не было у кого учиться: обмен населения в городах осуществился в широком масштабе, в западных землях люди приезжали в совершенно пустой город, который следовало заселять с нуля). Но в альтернативной истории в города мигрировали те же самые люди, которые мигрировали и в ПНР. И как раз те же самые люди – с теми же привычками, ментальностью и отношением к пространству – формировали бы пространство в победной Второй Жечипосполите.
То есть, если бы продолжать предвоенную урбанистическую мысль, выстраиваемые заново жилые кварталы, скорее всего, походили на те, которые мы знаем сейчас. Трудно сказать, в последующей перспективе имели бы мы дело с пауперизированной версией дешевой массовой застройки, как это случилось в случае блочных домищ времен Гомулки и Герека[57]57
Влади́слав Гому́лка (польск. Władysław Gomułka; 6 февраля 1905, Бялобжеги, близ г. Кросно, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия – 1 сентября 1982, Варшава, ПНР) – польский партийный и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК Польской рабочей партии в 1943—1948, первый секретарь ЦК Польской объединённой рабочей партии (ПОРП) в 1956—1970.
Э́двард Ге́рек (польск. Edward Gierek) (6 января 1913, с. Поромбка, Царство Польское, Российская империя – 29 июля 2001, Цешин, Силезское воеводство, Польша) – польский политический деятель, первый секретарь ЦК ПОРП в 1970—1980 гг. – из Википедии
[Закрыть], ведь это наверняка бы зависело от скорости развития Польши, масштаба притока сельского населения в города и качества урбанистической мысли (ведь результат мог быть гораздо худшим, к примеру, трущобы). Конечно же, все это относится и к Варшаве. Чтобы увидеть, каким образом развивалась бы «незастроенная Варшава», достаточно поехать в районы, возведенные сразу же после войны.
Но не будем слишком далеко забегать в будущее. Прежде, чем это сделаем, необходимо вычертить международный контекст, в котором очутилась Польша.
Итак, помним: на дворе 1940 год, война недавно закончилась, а Германия разделена. В Польшу – которая должна стать противовесом Франции в Европе, силой, защищающей континент от большевистской России, и одним из гарантов того, что Германия не поднимется из развалин – закачиваются громадные денежные средства с Запада.
Польша, как сама того хотела, становится державой, о которой она так давно мечтала. В кредит, правда, но иным способом сделаться такой могучей у нее просто не было бы шансов.
ГЛАВА IV
ПОЛЬСКАЯ ВЕРСИЯ ИМПЕРИАЛИЗМА
В межвоенной литературе, в особенности – фантастической, было много представлений великодержавности Польши. Республика с удовольствием сама себя представляла в Европе щитом Запада, прикрывающим от угрозы с Востока: то ли большевистской, то ли «желтой».
Эти видения описали Ежи Стахович и Агнешка Хаска в изданной в 2012 году книге "Сны о могуществе" (Śniąc o potędze).
Эта литературная "великодержавная Польша" нередко бывала частью европейской федерации в какой-либо форме или даже Соединенных Штатов Европы. И – а как же еще! – как правило, в такой федерации играла первую скрипку.
Так было, например, в уже цитированной и изданной в 1925 году повести Чанду авторства Стефана Барщевского. В этой книжке Федерация Европы по структуре походит на наш нынешний Евросоюз, только что со столицей в Париже, а не в Брюсселе, только вот кто тогда думал про какой-то там Брюссель. Или же у Адольфа Новачиньского в Системе доктора Каро 1927 года издания, где Республика встала во главе Соединенных Штатов Европы.
Быть может, таким способом проявлялся наш извечный комплекс "недооцененного защитника Европы", который мог бы свидетельствовать о нашей вечно неисполненной любви к западной части континента. Хотя – стоит признать – не все страдали этой болячкой. Были и другие комплексы, как правило, имперские. Что вовсе не должно удивлять в государстве, помнящем себя державой, которая получила от соседей по рукам и в конце концов сама сделалась добычей империй. Потому-то эта польская державная импотентность порождала по-настоящему любопытные фантазии. Случались исключительно эгоистические видения Польши, державной для самой себя и просто так. Хаска и Стахович в "Снах о могуществе" описали, к примеру, книги полковника Романа Умястовского (кстати, главы пропагандистской службы Смиглого-Рыдза в 1939 году), который под псевдонимом Болеслав Жарновецкий в романах Год 1974 и Год 1975, изданных в 1927 году, описывает нашу страну как мегадержаву, поставившее всему миру шах, поскольку заключила союз с Японией, Францией и – ладно, чего уж тут поделать – Чехословакией. Во всяком случае – в той тревожащей весь мир конфигурации именно Польша ведет победные сражения с Германией, Россией и, что в те времена должно было звучать чуть ли не святотатством, с Соединенными Штатами и Великобританией.
Чтобы лучше понять, в чем тут суть, возьмем, к примеру, такой вот отрывок из Года 1974:
Великопольские армии вел генерал Анджей Вильконь. Главнокомандующий, определяя для него роль молота, которым он должен был разбить на кусочки германские панцири и щиты, сказал:
– Ударишь и дойдешь до Берлина.
– Ударю и дойду до Берлина! – словно эхо сказал генерал. У него смеялись глаза, а радость наполнила мужественное сердце.
Так вот в 1927 году мечтал будущий глава польской пропаганды. В реальной истории все эти мечты закончились пшиком. В качестве любопытного факта можно лишь сообщить, что в ночь с 6 на 7 сентября 1939 года Умястовский выступил со знаменитым воззванием относительно эвакуации Варшавы на восточный берег Вислы и создании там новых линий обороны, то есть с тем же решением, которое реализовалось в альтернативной истории. И в альтернативной истории из этого кое-что вышло. Но вот в действительной истории приказ главы пропагандистского ведомства вызвал в Варшаве страшную панику и истерию. После краха Польши Умястовский эмигрировал в Великобританию, где в 1982 году умер.
Но в альтернативной истории полякам зато удалось дойти до Берлина.
ЗАПАДНЫЕ ЗЕМЛИ
Перед войной то тут, то там вывешивали пропагандистский плакат с надписью: «Мы здесь не со вчерашнего дня, мы доставали далеко на запад». На фоне карты германско-польского пограничья на нем стоял Болеслав Храбрый с мечом. А на фоне вычерчены три границы:
Первая – граница довоенной Польши с надписью "СЕГОДНЯ".
Вторая – захватывающая не только Щецин и Волин, но и Рюген, касающаяся Берлина и оставляющая Лейпциг с нашей стороны – это граница Польши во "ВО ВРЕМЕНА БОЛЕСЛАВА".
А имеется еще и третья линия, обозначающая территории, которыми мы владели "КОГДА-ТО", она расширяет польское (славянское) Поморье до самого Любека.
В альтернативной истории, после расчленения Германии и ввода в нее польских оккупационных войск, Варшаве захотелось реализовать на западе свои территориальные мечты. Поэтому – точно так же, как и после завершении войны в реальной истории – Польша попыталась протянуть руки к Одеру и Лужицкой Нейсе.
Идея проведения наших западных границ именно таким вот образом не была чем-то новым. Линия Одера и Нейсе – это, попросту, наибольшее из возможных сокращение потенциального фронта с немцами: от естественной преграды на юге, которыми являются Судеты, до Щецинского залива на севере расстояние всего лишь 300 км. «Меньше» граничить с Германией уже просто невозможно. Большего сужения нигде нет. И потому-то видения перемещения Польши на запад выдвигались уже перед Второй мировой войной.
Уже упоминаемый Роман Умястовский, который желал вести великопольские армии генерала Вильконя на Берлин, так писал в 1921 году об оптимальной западной границе Польши: "клин Нижней Силезии ворвался между Чехией и Польшей (…). Чешский нейтралитет или же активность (в нашу пользу) так и соблазняют стесать его, дойти до Судетов. Линией, к которой будут стремиться наши армии (…), которая обеспечит нашу нормальную государственную жизнь, станет фронт, опирающийся флангами на море и судетские горы (триста пятьдесят километров)".
И не одно только Умястовского соблазняло подобное стесывание. Польские ученые авторитеты – в том числе и Ежи Смоленьский, руководитель межвоенного Географического Института Ягеллонского Университета, или же Зигмунт Войцеховский из Познаньского Университета (в реальной истории, после войны – создатель знаменитого Западного Института) – согласно утверждали, что без границы по Одеру и Нейсе Польша на западе практически беззащитна.
ПОЛЬША ЗАБИВАЕТ ПОГРАНИЧНЫЕ СТОЛБЫ В ОДЕР И НЕЙСЕ
В межвоенный период планы установления линии границы вдоль Одера и Нейсе были абсолютно нереальными. И то, что действительной истории граница Польши и вправду была так проложена, по сути дела можно рассматривать как исполнение невероятных видений автора фантастического романа.
Но и в альтернативной истории поляки, весьма самоуверенные после победной кампании 1939 года решились каким-то образом связать друг с другом германское Поморье и Силезию.
Англия и Франция таким замыслом восхищены не были: да, союзники намеревались разбить политическое и национальное единство Германии, а еще навечно вырвать милитаристские клыки – только им не хотелось унижать немцев понапрасну. Польша на этих территориях отсутствовала уже 800 лет, – объяснялись западные дипломаты в Варшаве. – А даже когда и была, сложно было назвать ее Польшей в современном понимании этого слова. Там практически нет польских следов. Весь культурный пейзаж чисто немецкий. Там проживают практически одни немцы, там их где-то миллионов десять, что вы с ними сделаете?
Только Польша уперлась. Бек аргументировал, что только лишь таким способом Республика сможет урегулировать свою западную границу, опереть ее на более-менее широких реках, а ведь это как раз реки позволили нам эффективно защищаться. А ну как, – делал ход Бек, – Германия, несмотря ни на что, возродится? Снова нам позволять окружить себя с севера, юга и запада? Отступать за Вислу?
Союзники были в бешенстве. С поляками традиционно разговаривать было нелегко: они были упрямыми и в переговорах применяли тактику "ни шагу назад". У союзников начало возникать огромное желание бросить эту доставляющую столько хлопот Польшу и передать обязанности "щита Европы" кому-нибудь другому – вот только этого "кого-то другого" нельзя было найти днем с огнем.
А поляки, прекрасно это понимая, продолжали вертеть союзникам дырку в брюхе. Они не желали уступать, точно так же, как в реальной истории не желали уступить Сталину рижскую границу, хотя на эту границу у них не было никаких шансов (и как раз это упорство не только доводило Черчилля до отчаяния, но и, скорее всего, похоронило польские надежды отыграть себе хотя бы Львов).
Вот только в альтернативной истории, в отличие от действительной, поляки, так или иначе, уже присутствовали на тех территориях, которые хотели захватить: ведь они представляли оккупационную администрацию в Восточной Пруссии, в Силезии, и над завоеванным в тяжелых боях Гданьском. Помимо того, они содержали оккупационные гарнизоны в Лужице, в Саксонии, в Бранденбурге и Мекленбурге. Польские солдаты служили там вместе со словаками, венграми и войсками из прибалтийских стран. Одним словом – с новыми центрально-европейскими коллегами, которых Польша пригласила попировать на труп побежденной Германии в рамках сплочения регионального сотрудничества.
А так же – обратите внимание – плечом к плечу с, как правило, не слишком склонной к Польше Чехией, которой (стереотипный) прагматизм заставлял в нынешней раздаче международных карт позаботиться о хороших взаимоотношениях с Республикой. Пускай с сердечной болью, но, тем не менее.
ЗАОЛЬЗЬЕ [58]58
Заользье (польск. Zaolzie, чеш. Zaolží, Zaolší, нем. Olsa-Gebiet, "За рекой Олше") – восточная часть Тешинской Силезии. В первой половине XX века был спорным регионом между Чехословакией и Польшей, в настоящее время – в составе Чехии (район Карвина и восточная часть района Фридек-Мистек). – из Википедии
[Закрыть] ПОСЛЕ ВЫИГРАННОЙ ВОЙНЫ
После сентябрьского успеха Республики Чехия энтузиазма не испытывала. В этой альтернативной ситуации президент Эдвард Бенеш отпирался от союза с Польшей, как от болячки. Он предпочел бы, как сам распространялся на Градчанах, вступить в союз со Сталиным, но в это время Польша обладала сильной поддержкой союзников, так что у чехов был выбор: или вступить в западную систему безопасности, или сделаться сателлитом СССР, на что Запад и так бы не позволил. Так что Бенеш ругался на чем свет стоит, в бешенстве мечась по президентскому дворцу, но свежеименованный глава министерства иностранных дел Ян Масарик, сын умершего в 1935 году первого президента Чехословакии, пояснил ему, что из всех паршивых решений – это имеет какой-то смысл.
– Давайте позабудем про Заользье, Эдвард, – пояснял Бенешу Масарик. – Выхода нет. Там уже и так одни поляки. На кой ляд нам вообще это Заользье. То есть, конечно же, необходимо выносить этот вопрос на международный уровень, только нам следует понимать, что тешинскую землю мы все равно назад не получим. Ничего не поделаешь. Тут следует действовать политически. Будем мило улыбаться и вступать в договоры с поляками. Я их тоже терпеть не могу. Но пока что – так надо. У Польши имеется поддержка Запада. А за кем пойдешь ты, за Сталиным? Каким образом? И зачем? Здесь такая ситуация: или – или. Пока что третьего выбора нет, но может же появится. Нам следует переждать. Поглядим, что из всего этого выйдет. А в случае чего, мы всегда можем сменить фронт. Ты же видел, что сделали словаки. Видел, что сделали венгры.
Так что про Заользье в Праге действительно забыли, а сами проживающие в Заользье поляки чувствовали себя не ахти счастливыми, но что тут поделать. Чешскоязычные тешинцы уже выехали в Чехию, поскольку им надоело вечное приставание со стороны поляков, или же они были высланы по решению администрации. Ведь поляки начали вычищать чехов из Заользья еще перед войной. Леон Малхомме, делегат силезского воеводы при Командующем Самостоятельной Оперативной группы "Силезия", так писал в своем сообщении:
В связи с массовым возвращением в Силезию за Олше лиц, которые в количестве нескольких десятков тысяч по причине своей польской национальности вынуждены были покинуть эту свою родную землю в 1919-1938 годах и перебраться за границу, в Польшу, возникает необходимость эффективного урегулирования нынешней эмиграции лиц чешской национальности в Чехословакию.
А вот так это эффективное урегулирование эмиграции выглядело:
"в четверг 20 октября 1938 года мы получили (…) решение Силезского Воеводского Управления, Общественно-Политический Отдел в Катовицах, о незамедлительном исполнении решения, с тем, чтобы покинуть собственный дом до 21 октября 1938 года до 15:00 (…) К счастью, наша соседка, которая была кузиной депутата доктора Вольфа, тут же отправилась во Фриштат [59]59
Фриштат (Frysztat) – часть города Карвина в Тешинской Силезии. До 1948 года – отдельный город.
[Закрыть] и представила ему суть дела. Благодаря нему, нам не пришлось всем покидать дом и хозяйство. А вот отец, сразу же после получения нового постановления от 24 октября 1938 года, должен был покинуть нас в течение двадцати четырех часов без возможности возвращения, забирая с собой лишь чемодан весом до 25 кг, в Чехословакию, в Остраву (…). Отец, который зарабатывал в Остраве, не мог выслать нам деньги. Нам не на что было жить. Впрочем, всем на это было наплевать,
– писал Франтишек Гиль из Немецкой Лютыни. Но помимо административных решений, у чехов имелись и другие проблемы.
Как-то раз, быть может недели через две после отъезда отца в Остраву, польские шовинисты, как их называли у нас, выбили у нас все окна в доме, - вспоминал Гиль. – Они выламывали булыжники, штакетники из ограды и забрасывали нам в окна. Мы убежали из дома. Тогда я узнал двоих из тех, кто нам выбивал окна. В пижаме я побежал в ближайший участок польской полиции, но, к сожалению, хотя я звонил, стучался в двери, никто не отвечал. Только лишь потом мать заявила, что у нас произошло, только виновные никакого наказания не понесли.
Появились первые цветочки польской культуры в форме самого худшего преследования чехов, - вспоминал Йозеф Драгота, директор чешской народной школы в Нижних Блендовицах. – Наши местные старались меня убедить, чтобы я не убегал и не оставлял их там одних. Я решил было так сделать, но передумал, когда услышал, что произошло с другими учителями, которые остались. 5 октября, вечером ручными гранатами забросали жилища некоторых польских учителей. Там были разбиты лишь окна, ни с кем ничего не случилось. Я опасался, что в виде мести могло бы произойти нападение на меня, я же не хотел, чтобы из-за меня кого-то из семьи покалечили.
Но и польскоязычным жителям Заользья очень скоро сделалось не до смеха. Потому что – если исключить национальные вопросы – «возврат на материнскую землю» для тешинцев был просто не выгоден.
Вот оно, как говаривал Йозеф Швейк, "удивительно сплетает судьба": совсем еще недавно тешинцы встречали войска Второй Республики цветами, но очень скоро начали дуться на польскую администрацию, которая, по сравнению с чешской, была по-восточному неспособной, грубой и оторванной от текущих проблем жителей.
Возвышенный энтузиазм тамошних дней быстро минул, опал, до последнего дотянутый национальной демагогией, настроением псевдопатриотической эйфории, - писал Юзеф Хлебовчик, родившийся в Карвине историк. – Первым серьезным проколом оказался продиктованный фискальными интересами варшавского правительства завышенный курс обмена старой валюты на новую. Особенно болезненно он ударил в наемных работников, в частности, в наиболее бедные слои, живущие на различного рода пенсии, воспомощенствования и заработные платы. Появившееся в связи с этим ухудшение условий жизни большого числа жителей до какой-то степени смягчил новый, несколько ниже уровень цен на основные пищевые и сельскохозяйственные товары. Этот же уровень, в свою очередь, вместе с иными специфическими видами отношений, царящих в сельском хозяйстве Второй Республики, ударил по интересам тешинских селян, привыкших чуть ли не к тепличным, по сравнению с Польшей, условиям чехословацкого сельского хозяйства. Стоит подчеркнуть, что как раз местные селяне были основной общественной базой польской жизни и резервуаром его сил в Зальзье.
Польская экономика не была в состоянии создать соответствующих условий для тешинской промышленности – тржинецкого металлургического завода и Карвинского добывающего бассейна. Тешинцам негде было продавать сои товары на польском рынке, мало того, что не слишком емком, так еще и блокируемом внутрипольской конкуренцией. Но и с заграницей торговать тоже не было как – в основном, по причине международной ситуации Польши и подписанных ею договоров.
Работники предприятий покрупнее тоже надолго подвисли в пустоте – администрация занялась изменениями их коллективных договоров с чешсих на силезские только лишь после помпезного вступления в Заользье, так что в результате все это заняло несколько месяцев.
Одним словом – после эйфории надвинулись черные тучи.
В том числе, преображаться начала общественная и политическая структура региона. Националистический OZN (Лагерь Национального Объединения) вошел в Тешинскую область вместе со своими структурами, а бравые парни из его молодежной секции перехватили заользяньский Союз Поляков. Местных коммунистических деятелей арестовали.
Заользяне, из граждан одной из наиболее развитых стран Центральной Европы, сделались гражданами амбициозной и развивающейся, но все такой же отсталой и бедной, словно церковная мышь, Республики.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОТЕКТОРАТ, ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ И ГДАНЬСК
В альтернативной истории, наконец-то, после продолжавшихся всю зиму 1940 года переговоров, касающихся немецких земель, оккупированных польскими войсками, союзники согласились на компромиссное решение.
Во-первых, часть Восточной Пруссии была включена в Польшу на правах отдельного воеводства с временным особым статусом. Остальная часть региона стала международным протекторатом и была присоединена к Литве.
Во-вторых, Поморье и Силезия были охвачены польским протекторатом (эти территории официально назывались Генеральным Протекторатом): администрация высшего и среднего уровня там должна была стать польская, власти самой низшей степени (гмины и солецтва[60]60
Соле́цтво (польск. Sołectwo) – административная единица в Польше, действующая на территории сельских населённых пунктов. Наряду с оседлем и дзельницей солецтво является подразделением (польск. jednostka pomocnicza) гмины. Во многих случаях солецтво действует на территории одного сельского населённого пункта. Мелкие населённые пункты объединяются в одно солецтво. Большие сельские населённые пункты могут быть разделены на несколько солецтв. Солецтво, не являясь юридическим лицом, имеет свой избирательный орган, называемый советом солецтва (польск. rada sołecka), во главе которого стоит солтыс (польск. sołtys). В польских сельских населённых пунктах, где действует солецтво, дом солтыса отмечен красной табличкой с надписью «SOŁTYS». Аналогичные административные органы в городах называются оседле и дзельница. – из Википедии
[Закрыть]) и часть служб, предназначенных для поддержания порядка, должны были остаться немецкими. «До поры», – прибавляли про себя поляки, скрещивая пальцы за спиной.
В-третьих, Лужица тоже сделались польским протекторатом, вот только рамки компетенции местных властей, судов и полиции был намного большим, чем в Генеральном Протекторате.
В-четвертых, две формально независимых, образованных после распада Германии страны: Бранденбург-Мекленбург и Саксония, должны были входить в состав польской оккупационной зоны.
Что касается Восточной Пруссии, то в межвоенной Польше царило всеобщее мнение, будто бы она является угрозой для интегральности Республики. Очень часто ей упоминали происхождение от крестоносцев и неудачное решение Конрада Мазовецкого, который, пригласив немцев, подвесил топор над головой Польши. Все соглашались с тем, что топор необходимо ликвидировать из государственных интересов.
Так что после победы над Германией был реализован план, составленный еще перед войной Владимиром Вакаром, польским экономистом, прометеистом[61]61
Прометеи́зм (польск. Prometeizm) – политический проект, представленный польским политическим деятелем Юзефом Пилсудским, позднее ставшим главой Второй Польской республики. Его целью было ослабление и расчленение Российской империи и, впоследствии, Советского Союза с помощью поддержки националистических движений за независимость основных нерусских народов, живших в пределах России и СССР. Прометеизм был комплементарным проектом идее федерации "Междуморье" (польск. Międzymorze) и основывался на ягеллонской линии польской политики. Создателем и душой концепции, был маршал Пилсудский, который в меморандуме от 1904 года к японскому правительству указывал на необходимость использовать в борьбе с Россией многочисленные нерусские народы на берегах Балтийского, Чёрного и Каспийского морей, и обращал внимание на польскую нацию, которая благодаря своей истории, любви к свободе и бескомпромиссному отношению к трём разделившим Польшу империям, без сомнения займёт лидирующее положение и поможет освобождению других угнетённых Россией народов. – Из Википедии
[Закрыть] и авторитетом в проблемах, связанных с геополитикой нашего региона. Вакар же постулировал, ни более, ни менее, как раздел Восточной Пруссии между Польшей и Литвой. «Мы совершили ошибку, не захватив Восточную Пруссию, – писал он в тридцатые годы. – Ошибку более тяжелую, чем совершил Конрад, ведь тот не мог предвидеть, что Пруссия вскоре отрежет Польшу и Литву от моря. И более тяжелую, чем Зигмунт, ибо кто тогда мог знать, что Пруссия примет участие в разделах Польши и создаст Рейх».
Вакар считал, что Литве следует передать северо-восточную часть Пруссии (с Тильзитом), а Кенигсберг (вместе с Самбией) объявить вольным городом. Все остальные части Пруссии – с Ольштыном и Элком – должны были войти в состав Польши.
И как раз это случилось в альтернативной истории: Кенигсберг с Самбией перешли под контроль Лиги Наций (но de facto контроль осуществляли Англия, Франция и Польша – Англия разместила там крупную балтийскую базу военного флота, что было весьма важно с точки зрения геостратегии, поскольку под шахом находилась Россия). Но уже южный пригород Кенигсберга, располагавшийся к югу от реки Преголы Хаберберг, принадлежал уже Польше.
Клайпеда и район Тильзита были присоединены к Литве (что было выражением благодарности Польши за литовскую военную помощь). Мазуры, Вармия, окрестности Гомбина и Выструця до самой Лябявы – перешли под польское управление.
На Мазурах была проведена гигантская акция по полонизации (она называлась «повторной полонизацией», потому что здешние жители – что для огромной части общественного мнения в Польше было огромной неожиданностью – вовсе не осознавали свою польскую принадлежность. «То, что мы считаем польским народом, вовсе не считает себя польским народом», – писал Мельхиор Ванькович в изданной в 1936 году книге По следам Сментка, представляющей собой отчет о путешествии, которое писатель с дочкой совершил по Восточной Пруссии в поисках польскости. Там Ванькович, среди всего прочего, описал такое вот событие:
И когда мы давимся холодной тминной похлебкой с плавающими в ней сладкими пирожками (дьявольское изобретение), я слышу над собой:
– Черт подериш! Так сударь по-мазурски говоривает? (…)
– Не по-мазурски, а по-польски. (…)
Парень от восторга «загорается», он молотит меня по плечу так, что рука теряет чувствительность, и он вопит на всю корчму, словно в поле:
– Дык я усьо и разумею, дык усьо разумею. А не цыганите? Шо, люди так в Польше говаривают? Так оно ж наша балачка. Дык это я так по Польше могу ездить… (…) Псва, – кричит он хозяину, – псива для них (то есть, для меня) и для дейвоньки. Нам тут толочут, что полоки народ плохой, а это ж наши хлопцы!...
В Восточной Пруссии в 1939 году проживало около двух миллионов немцев. После выигранной Польшей сентябрьской кампании часть из них сбежала через Кенигсберг в собственно Германию. Они сбежали, потому что боялись поляков, в течение многих лет представляемых германской пропагандой в качестве унтерменшей и варваров. Ведь теперь они, поляки, могли иметь охоту разрядить свое бешенство на каждом, кто говорит по-немецки. И нередко разряжали.
Те же немцы, которые на бегство не решились, с каждым днем на собственной родине становились personae non gratae. Польское правительство завело в новом воеводстве польскую администрацию. Немецкий язык перестал быть официальным языком, даже в качестве поддержки (что являлось нарушением договора с союзниками: ведь Пруссия должна была стать воеводством, имеющим «особенный статус»). Власти требовали знания польского языка. Тот, кто этого языка не знал, лишался всяческих прав: он не мог требовать справедливости в суде, не мог сделать какое-либо официальное заявление. Но поляк, всем известно, способен, вот и развился обслуживаемый нашими земляками полулегальный переводческий рынок, только его было слишком мало, чтобы немцы могли более-менее нормально функционировать.
Проводилась деятельность по колонизации. Стянутые из южной и центральной Польши колонисты со своими совершенно отличными, эвфемистически выражаясь, цивилизационными стандартами, часто просто пугали своих немецких соседей.
Германскость осуждали и преследовали. Официальных вывозов никто не организовывал, но немцев поощряли к выезду из польской части Пруссии гораздо интенсивнее, чем чехов – покинуть Заользье.
По городам с факелами маршировали польские националисты – на уровне эстетики и риторики раздел на националистическую часть санации, эндеков или обыкновенных фашистов практически полностью стерся. Марширующие выкрикивали шовинистические лозунги, били стекла в немецких лавках, а весьма часто, с разгона: хозяев этих лавок и их клиентов. Польские полицейские в это время внимательно оглядывали кончики своих сапог, ногти или же наблюдали за облаками, плывущими по уже польскому небу. Время от времени местная пресса с деланным безразличием доносила выловленных из мазурских озер очередных телах. И так складывалось, что эти тела почти что всегда принадлежали людям с немецкими фамилиями. Ну или же мазурским "изменникам польскости", которые не желали "заново полонизироваться".
Немцы из Восточной Пруссии просто-напросто боялись. Все чаще они выезжали. Чаще всего, недалеко, в Самбию, вместе с Кенигсбергом являющуюся – как было уже сказано – территорией, поверенной надзору Лиги Наций, Freie Staat Samland под управлением Союзнического Совета, в состав которого входили поляки, англичане и французы. Находящаяся в Самланде британская морская база являлась выделенной территорией. Располагающиеся в ней подразделения стерегли безопасность всего региона. А появление британского флота на Балтийском море, против чего безуспешно протестовал СССР, очень сильно изменило геополитический расклад сил в регионе.
В Кенигсберг приплыли и немцы из захваченного поляками и уничтоженного Гданьска.
Гданьские немцы убегают, - весной 1940 года писал недавно учрежденный «Гданьский Дзенник», официальный орган ONR (Национально-Радикальный Лагерь). – Они торчат в портах, кочуют по побережью. С чемоданами и свертками. Они представляют достойный жалости вид, только нельзя забывать, что как раз таким, возможно, и грубым способом, как раз свершается историческая справедливость. Мы же помним, что никто их нападать на Польшу не просил, и если сейчас они страдают в мартовские заморозки, на балтийском ветру, в своих пальто и глубока насаженных на уши шляпах, если сейчас им приходится покидать родные дома и страдать, что вот теперь в них переезжают другие, то они должны глянуть в глаза гитлеровским сановникам и прокричать им в лицо: это вы натворили!
История слепа и сурова, и беда тому, кто желает чего-то мастерить в ее шестеренках. Гитлер отважился на это, и жестокий механизм захватил его и порвал на клочья, а вместе с ним и его народ. В конце концов, случилось то, что должно было случиться, ведь Германия этим историческим механизмом безответственно играется уже издавна. И, провоцируя его изгибаться во всякие ненатуральные направления, они навлекли на себя чудовищную месть истории.
Ведь откуда они вообще взялись в Гданьске, на польском Поморье? Кто им, тевтонцам, выдумал то самое Drang nach Osten? Кто выдумал им Lebensraum? За Эльбой им плохо было? Мы, славяне, народ терпеливый, много чего мы выдерживали. Из-за Эльбы немцы вышли на восток, пошли на Одру-Одер – мы ничего. Из-за Одры пошли на Варту – мы ничего. Ну а уж когда захотелось им дальше, за Вислу идти, за королеву рек польских, польская оружная десница грохнула в эту страдающую землю и по-итальянски крикнула: basta!
И ходя теперь по Гданьску, разрушенному, расстрелянному пулями, в котором давнее величие города сменилось мрачностью, в котором старые, гордые, написанные по-швабски названия улиц заменяются скромными по форме, зато гигантскими по сути, прославляющими польских королей и великих мужей табличками – человек не может перестать думать обо всех этих исторических процессах. И хоть немцах в портах хотелось бы иногда злотый подать, хотя бы пятьдесят грошей, ибо будят они жалость и сочувствие, но как только вспомнишь германский напор, тысячелетнее угнетение, так человеку тут же хочется нецензурный жест сделать, крикнуть какое нецензурное слово. Вот только сдерживаться необходимо, чтобы вновь в мире не заговорили, будто бы поляки варвары какие, без цивилизации, без манер…
Потому что мир, прибавим, уж больно немчикам сочувствует, как будто бы уже забыл, кто во всем этом виноват был, кто драться начал. Ведь это английские да шведские суда их в Свободную Самбию через Балтику возят, крепко их в этой Самбии стерегут, буквально пылинки с них сдувают. Лишь бы только из этой их Свободной Самбии ничего поганого не вылупилось, как их державы крестоносцев при Конраде…
В скорое время немцев в давней Пруссии и Гданьске днем с огнем нельзя было найти, а вот относительно редко населенная еще недавно Самбия сделалась начитывающим чуть ли не два миллиона обитателей регионом. В первые послевоенные годы, несмотря на фактическую помощь Запада, там царил гуманитарный кризис – беженцам не было где жить ни с чего жить, потому многие из них выезжали дальше, в какое-то из новых германских государств.
И не следует прибавлять, что те, находящиеся под польской оккупацией, они тщательно избегали.
СИЛЕЗИЯ И ПОМОРЬЕ
В реальной истории дальше всего доходящие территориальные претензии в отношении Германии выдвигались во времена гитлеровской оккупации. И быть может как раз потому они были столь абсурдными – поскольку совершенно нереальными.
Конспиративный Университет Западных Земель (продолжение Познаньского Университета) разрабатывал, к примеру, проекты, включающие в границы нашего государства Лужицу и Рюгге. В свою очередь, в публикации Границы Великой Польши, разработанной в 1941 году в кругах Народной Партии, требовалось присоединить к нашей стране Западное Поморье с Рюгге, Верхнюю и Нижнюю Силезии, любускую землю, Лужицу и Восточную Пруссию.