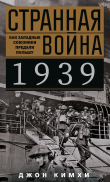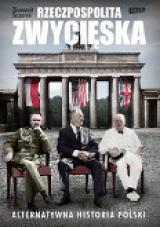
Текст книги "Республика - победительница (ЛП)"
Автор книги: Земовит Щерек
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Сначала стук-грохот такой раздался, что Бируля прямо подскочил, а тут из-за обрыва вылазит – прямиком на нас! – железная скотина!
Танк, вроде как и обычный, но чудище здоровенное, целая халупа на гусеницах. Ну, обычная закопанская халупа, только что обитая броневым листом и на двух парах гусениц, по две с каждой стороны. И стволом, что твой дуб! Глядим с Бирулей друг на друга, потом на танк, снова на себя, и уже неясно, то ли это от пейотля галюны, то ли польская армия и вправду устроило себе стреляющую и ездящую хату. Ну мы подошли, нам же интересно, а эта скотина железная вдруг из пушки как грохнет! Прямо земля затряслась, а мужики по окрестным селам от страха видно под стол от страха полезли.
Ой, как же мы, дражайшая Ниночка, с Бирулей оттуда пиздовали, ты и представить не можешь.
Только лишь кузен Кицкого сказал, когда мы уже немного протрезвели после того пейотля, что армия здесь какой-то новый громадный танк испытывает, потому что здесь, говорил он, полигон за полигоном идут. Танк, якобы, 45ТР должен называться, это он вроде как столько тонн и весит. Но если "Т" – то тонны, что тогда "Р" («Пэ»)? Это чего же, тонны польские? И польская тонна весит меньше, скажем, словацкой? Оно, правда, Словакия сейчас тоже Польша, а Польша – Словакия, у человека шарики за ролики заходят.
Э-эх. Осень идет.
Приезжай в Закопане, и не дуйся на меня больше, и я тебе помогу возродиться.
Твой чудом спасшийся, но нервно приконченный психический фляк (flaque – лужа (фр.)).
Виткасенко
P.S. А отдал ли Поцеховский 500 злотых, который должен был заплатить Пампушечку за картины? Если нет, то прижми его, пожалуйста, немножко, а то он меня компрометирует тем, что у меня в друзьях такие бараны ходят.
Бедный Виткаций не знал, что в это самое время проектировали сверхтяжелый танк, крепость на гусеницах, способный пробиться через практически любые укрепления. Он должен был называться 100ТР.
Но пока что, то были всего лишь планы. В начале сороковых годов основным танком польской армии оставался, ничего не поделаешь, скромненький 7ТР, который и так считался одним из наиболее порядочных танков своего времени. Постепенно его заменяли усовершенствованной версией, в том числе, и с укрепленной броней, то есть моделью, называемой всеми 9ТР.
Легкие танкетки TKS заменялись танком 4ТР, прототип которого перед войной, правда, был отклонен из опасения, что через несколько лет его конструкция будет уже устаревшей, но потом была принята его улучшенная, тоже 4-тонная версия.
В распоряжении польской армии очутились так же отобранные у немцев легкие танки (Panzerkampfwagen Pz-I и Pz-II) и средние танки (Panzerkampfwagen Pz-III и Pz-IV). Помимо них полякам досталось много чешских машин LT vz. 35 и LT vz. 38, которые немцы, после аннексии Чехии внедрили в собственные вооруженные силы и перекрестили в (соответственно) Pz-35(t) и Pz-38(t).
В результате германской "помощи", вперед продвинулась и механизация. К польским артиллерийским тягачам С2Р, С4Р и С7Р присоединились немецкие SdKfz 7, 9, 10 и 11. Польские подвижные составы – что весьма существенно – обогатились тысячами автомобилей, прежде всего, грузовиками "опель блиц", которые прибавились к относительно немногочисленным польским фиатам 508 и 618.
Очередные кавалерийские бригады механизировались, поначалу на основе германского оборудования, временами пополняя его и снаряжением польского производства. Кавалерия осталась важной частью польской армии. Было распространено мнение, что легкие, мобильные соединения очень пригодятся на случай войны с советской Россией, ведь такая война должна была вестись на обширных, равнинных пространствах. Только это было уже не то же самое. В 1943 году генерал Болеслав Венява-Длугошовский, живой символ польского кавалериста, ретивого, харизматичного, влюбчивого и сильно выпивающего, так плакался над закатом эпохи коня и конфедератки:
Все, конец кавалерии, славной, богатой, воспетой
Зубы скалит начавшийся век. Так чего же я злюсь?
Умирает под треск мотоциклов геройское польское лето
Мне же все надоело давно. Ничего не боюсь.
Лето польское – это и сабля, и пика
И уланы несутся в атаке от Гдыни до Татр
Ныне ж только моторы трещат, как докучная девка,
И в лицо бьет не ветер, а мерзкий бензиновый смрад.
Все. Пора умирать. С этим временем мне не ужиться!
В карбюраторе нету романтики даже на грош...
На мундирах уланов машинное масло лоснится
И в мундире таком ты лишь квасишь, бухаешь – не пьешь!
Пусть бухают и квасят себе тюфяки городские
Шволежер [43]43
Шволежер (szwoleżer) – легкий кавалерист.
[Закрыть] – он другого пошиба, я так вам скажу.
Пусть другие теперь времена, пусть и песни другие,
Мне же все надоело, я слышать про них не хочу [44]44
Перевод стихотворения сделала Людмила Марченко, за что ей, есссно, благодарность!
[Закрыть] .
Венява меланхолично плакался, вот только новое – ничего не поделаешь – шло.
Авиация тоже подверглась модернизации. Работы над боевыми польскими самолетами продолжались. После отставки генерала Людомила Райского, во временна которого – "как бы чего не вышло" – качество польских военно-воздушных сил весьма опасно начало отклоняться от того, что существовало за границами страны, состояние польской авиации зависело от ее командующего, генерала Владислава Калькуса, и инспектора воздушной обороны, генерала Юзефа Зайонца. Они поставили на развитие истребителей, но после позиционной в течение долгого времени польско-германской войны, в ходе которой бомбардировка вражеских позиций была обычным явлением, они поняли, что про бомбардировочную авиацию забывать тоже нельзя.
Большие надежды связывались с современным истребителем PZL.56 Коршун, который после войны удачно прошел испытания и встал на поточное производство, чтобы заменить почтенные, но уже в 1939 году отдающие стариной "одиннадцатые" (самолеты PZL P.11). "Одиннадцатые" свое уже отслужили, польские пилоты провели на них все акробатические трюки, которые только можно ыло сделать – а после того легенда потихоньку начала перемещаться в кладовку. Только какое-то время это заняло, замена основы воздушного флота – это вам не фунт изюма.
Поляки желали основой своих воздушных сил на самолетах собственной конструкции, но после войны им в руки попало много немецкого оснащения. Польская армия стала богаче современными истребителями "мессершмитт", пикирующими бомбардировщиками Юнкерс (знаменитые "штуки") и другими бомбардировщиками: хейнкелями или дорнье. Но в польских проектных бюро тоже кипела работа. Разрабатывали легкий бомбардировщик PZL Лосось и самолет PZL Мишка, что был усовершенствованной версией знаменитого "Лося", считающегося одним из лучших бомбардировщиков своего времени. Именно "мишки" и "лососи" отправились на производственный конвейер. Еще появлялись легкие "сомы", которые должны были заменить почтенных и заслуженных, но медленных и мало поворотливых "карасей". Зато за проектные рамки не вышел знаменитый самолет PZL Волк, равно как и его наследники: PZL Леопард и PZL Рысь, их достижения не оказались такими уж убедительными. Но возврат к проекту планировался, только уже с применением германских технологий.
Прежде всего, самолетов производилось очень много. Перед войной финансовые возможности не позволяли развить воздушный флот так, чтобы он мог сравниться по численности авиации СССР или Германии, потому крайне тщательно анализировалось размещение отдельных объектов, которые могли бы стать потенциальными целями для польских самолетов, и исключительно на этой основе запасы и пополнялись. Теперь же поляки, благодаря соответствующим средствам и уколк германского оборудования, постепенно становились авиационной сверхдержавой.
Но самая серьезная революция произошла в польском военном флоте. Довоенный польский флот настолько не соответствовал по численности германским и советским военно-морским силам, что даже не делалось попыток с ними сравняться, и в реальном сентябре 1939 года, в принципе, было принято только одно рациональное решение – сматываться. Таким образом, флот был спасен, и у него появлялся шанс сыграть какую-то роль в войне. Но после победы мы пополнили его таким огромным количеством плавающих единиц, что на них неоткуда было брать экипажи, а иногда – даже куда швартовать. Желающие стали массами записываться во флот.
Увеличивалась так же сила огня пехоты. Солдаты получили в свое распоряжение большое количество описываемых выше "уров", то есть противотанковых ружей калибром 7,92 мм ("урами" планировалось снабдить каждый взвод), а так же производимые в Саноке самые тяжелые пулеметы FK-A калибром 20 мм.
В захваченных германских складах было найдено громадное количество ручного оружия, а так же обмундирования и шлемов: характерных немецких "ночных горшков", или знаменитых "штальхельм", которые, впрочем, перед войной использовали и поляки – именно в них они появились в отобранному у Чехии Цешине, поскольку "ночными горшками" пользовалась государственная полиция, и в отбираемой у Словакии Яворжине, так как подобный шлем был элементом оснащения занимавшей ее 10 бригады моторизованной кавалерии.
И захваченные стальные шлемы вошли в набор стандартного оснащения создаваемых в массовом порядке польских моторизованных подразделений.
ПУТИ СООБЩЕНИЯ
Предоставленные Польше кредиты позволили ей избавиться и от инфраструктурной отсталости. Происходило это, добавим, ужасно медленно. Тем не менее – происходило.
Огромное значение приписывалось моторизации не только амии, но и Польши вообще.
Что самое важное, началась сборка польского соответствия немецкого фольксвагена, то есть, дешевого народного автомобиля. Основано оно было на проекте родившегося в Саноке инженера Стефана Прагловского, который назвал новый автомобиль – от названия собственного родового герба – радваном. Радван был машиной чисто польской (что с гордостью подчеркивала пресса, злорадно напоминая, что немецкий "горбатый" был слизан с чешской татры 97), основанной на польских решениях и польских материалах. Хотя радван обладал очень простой конструкцией, в результате чего и производство, и эксплуатация его были недорогими, это был красивый и даже изящный автомобиль. В первых версиях у него был перед в классическом довоенном стиле: узкий и вертикально срезанный капот между широкими крыльями. Корпус радвана был "срезан" наискось. В поздних, уже послевоенных моделях перед был уже осовременен и – что тут поделать – стал походить на перед "горбатого" (или татры 97), либо же "ситроена 2cv. Впрочем, радван должен был быть для Польши тем же самым, что упомянутые автомобили были для Германии и Франции, "мини моррис" – для Великобритании, "фиат тополино" (фиат 500) – для Италии или же – существенно позднее – "малыш" для ПНР.
Прагловский получил дотации от государства, точно так же, как несколькими годами ранее Фердинанд Порше в Германии на проектирование фольксвагена, и в средине сороковых годов началось серийное производство радванов.
Но в Польше изготовлялись и автомобили высшего класса. Такое производство началось в начале сороковых годов после завершения действия договора с итальянским Фиатом, по лицензии которого в Польше производились фиаты 518 и 508 (знаменитые "юнаки" и "мазуры"). Речь конкретно идет о польском спортивном лимузине класса люкс, о шикарности и спортивности которого должно было свидетельствовать его достаточно – и что тут поделаешь – неуклюжее название: "Люкс-Спорт". К счастью, применялась и его сокращенная версия – Л-С. Кузов сконструировала группа из Государственного Инженерного Предприятия под руководством инженера Мечислава Дембицкого. "Люкс-Спорт" выглядел, следует признать, лучше названия. У него были аэродинамические формы, немного он походил на германский "адлер" 1937 года (машины различались, например, расположением фар) и – если верить сообщениям польских межвоенных журналистов, занимавшихся моторизацией – был чудом техники. У него было хорошее ускорение и, что самое важное (и во что труднее всего поверить) им не особенно трясло даже на паршивых польских дорогах: в нем были использованы гидравлические амортизаторы и особые рессоры.
К сожалению, этот автомобиль рынков запада Европы не завоевал, продукты польской моторизации там высоко не ценилась, во всяком случае, значительно ниже, чем продукты конкуренции – а она была большой. Определенный успех у него был странах Междуморья, где дороги, как в Польше, оставляли желать лучшего. Результат был таков, что "люкс-спорт" занимал позицию, подобную той, которую "чайка" и "волга" занимали в СССР и постсоветских странах. Только лишь в пятидесятые и шестидесятые годы он начал занимать на международном рынке приблизительно такое же реноме, какое на рынке внедорожников занимает румынская "дачиа дастер".
А в Польше производился и внедорожник. Привод у него был, как мы бы сейчас сказали: четыре на четыре и некое весьма любопытное решение: его закрепленные между одной и другой дверью запасные колеса, подвешенные чуть выше передних и задних, служили дополнительными колесами, благодаря ним автомобиль мог преодолевать глубокие выбоины. А что более интересно, поворачивать можно было как передними, так и задними колесами. Автомобиль назывался PZInż 303, и он был предназначен, в основном, для армии – хотя его покупали для удовольствия (и обычных поездок) многие обеспеченные граждане. Ведь дороги в Польше были кошмарными, и поляки пришли к тому же самому выводу, к которому сегодня приходят более или менее богатые украинцы и русские: нечего по родимым выбоинам биться на низких, нежных лимузинах, уж лучше сесть во что-нибудь более высокое и крепкое. Потому-то, через какое-то время, заметив интерес со стороны клиентов, PZInż (Польский Союз Инженеров) начал производить не только гражданские модели этого автомобиля, но и класса люкс.
Впрочем, постепенно – да, постепенно – но состояние дорожного покрытия стало улучшаться.
Располагая увеличенным бюджетом, был создан план расширения польской дорожной сети, предполагавший соединение наиболее важных польских городов (Варшавы, Гдыни, Познани, Лодзи, Катовиц, Кракова, Люблина, Перемышля, Ченстоховы, Быдшгощи, Львова, Станиславова и столицы ЦПО – Сандомира) сетью "автомобильных дорог первой очереди", а меньших (Кельц, Радома, Бреста, Белостока, Гродно, Вильно и Новогрудка) – сетью дорог "второй очереди". Модификация плана заключалась в том, что в новой ситуации решились на постройку автострады, о которой только и мечтали: из Варшавы до Лодзи и Катовиц – на главной коммуникационной артерии страны – а так же из Варшавы в Познань и далее, на Берлин.
В сороковых годах страна была одной большой стройкой. Понятное дело, все затягивалось и пачкалось, но дело касалось чести: у Италии есть, у Германии есть – а у нас нет?
Автостраде "Варшава – Катовице" придали ранг престижа: она должна была соединить столицу с угольным бассейном, а при случае, с Лодзью, важным – что там ни говори – городом центральной Польши, даже если период экономического величия для нее уже был позади. Длина автострады должна была составлять 330 км, строилась она семь лет. На ее прокладке работали, среди прочих, безработные, точно так же, как в гитлеровской Германии декадой раньше. Автостраду сдали в эксплуатацию в 1948 году. Ленточку перерезал (уже больной) Рыдз-Смиглы. Дорогу назвали "Шмиглой[45]45
По-польски «śmigły» – это «гибкий, податливый, шустрый».
[Закрыть] Автострадой". Немного вроде как в честь вождя, но вроде как – черт подери претенциозность – чтобы внушить, что поляки станут шастать по ней из Силезии в Мазовию, так что дым пойдет.
Они наверняка бы и шастали, если бы имели автомобили. Конечно, производство радвана уже началось, но его пришлось ограничить, ибо оказалось, что – несмотря на реформы и общее улучшение экономической ситуации, связанной с крупными государственными инвестициями, а в связи с этим – с увеличением трудящихся, относительно немного человек могло себе позволить даже недорогую машину.
Сразу же после открытия автострады журналисты краковского "ИЕК" выбрались по ней в путешествие из Катовиц в Варшаву, применяя в качестве средства передвижения – а как же – "люкс-спорт". Из Катовиц в Краков вело относительно неплохое шоссе (благодаря нему все больше силезцев выбиралось на уик-энды[46]46
В реальной истории 5-дневную рабочую неделю (да и то не везде) в Европе начали вводить только после Второй мировой войны. Идея о введении 40-часовой рабочей недели в мире оформилась приблизительно к 1956 году и в начале 60-х была реализована в большинстве европейских стран, – рассказывает Николай Бай, профессор кафедры гражданского права Юридического института РУДН. – Изначально эту мысль предложила Международная организация труда, после чего ведущие и развивающиеся экономики стали применять ее на практике. http://mini.w-o-s.ru/article/10
[Закрыть] в Малую Польшу), журналисты «ИЕК» уже неоднократно его описывали, так что на этот раз расписывать его не стали.
Въезд украшает большая таблица с надписью, прославляющей строителей автострады и властителей польского государства, - читаем мы в статье, размещенной в номере от 5 июня 1948 года, – и воистину, их есть за что славить! Ничего подобного в нашей Польше никто до сих пор не видел! Дорога, словно стол ровная, широкая, вот только пустая – кое-де только какой радван случится, фиат или там шевроле. С точки зрения моторизации наша Отчизна какое-то время должна еще потащиться в европейском хвосте, хотя, следует признать, не сравнить с тем, что было еще относительно недавно. В голову не укладывается, что совсем еще недавно тут мужик коров пас, сельская халупа торчала, наверняка еще соломой крытая – а теперь самые современные устройства, кусочек Западной Европы очутился здесь, будто бы из иного мира. Так что, воистину, есть за что правителей благодарить! С автострады видны снопы[47]47
Ага, снопы в июне! Или сельское хозяйство тоже удалось ускорить? А снопы, случаем, не ананасные? – Прим.перевод.
[Закрыть], луга, села деревянные – а мы тут, словно по коридору из лучшего мира, мчим из столицы Силезии в столицу Жечипосполитой. «л-с» в мгновение ока разогнался до ста километров, теперь же прибавляем газу и пробуем на прямой будто полет стрелы дороге – а до скольких разгонится? Сто двадцать? Сто тридцать? Немного боязно, следует признать, только это все ничего, ради читателей писаки головами рискуют! Сто сорок! Каждый их нас щелкает зубами, поглядывая искоса один на другого, но никто первый не скажет: Притормози! В конце концов, наш водитель объявляет: Сто пятьдесят! Больше разгоняться уже не желает. Все мы потихоньку облегченно вздыхаем.
Мчимся мы так и мчимся, так что от этой скорости даже скучно стало делаться. Ведь согласитесь, уважаемые читатели, через какое-то время даже самое фантастическое событие, если оно монотонное, способно человека измучить. Так и у нас с автострадой получилось. Так что, когда мы увидели дорожный указатель поворота на Ченстохову, тут же решили съесть там наш второй завтрак. И что вы скажете! Сразу же после съезда с автострады нас приветствовало старое, доброе, дырявое шоссе, в отношении которого трудно сказать: чего на нем больше: камней, гравия или грязи. А поскольку наш шофер уже приобрел привычку тяжелой ноги, которую на автостраде ой как легко приобрести (к хорошему человек быстр привыкает) – так Ченстохова для нас быстро закончилась, потому что мы, как только с автострады съехали, колесо потеряли. А ведь все говорили, что с «л-с» такого никогда не…
На железной дороге продолжали начатую в тридцатые годы электрификацию. Независимо от того, было принято решение увеличить подвижный состав скоростных вагонов на двигателях внутреннего сгорания – люкс-торпед. Их заказали у «Фаблока» – на заводе локомотивов в Хржанове. В результате их было произведено полтора десятка, их запустили на самые важные трассы страны. Они и вправду были быстрыми, но имели один серьезный недостаток: это было средство передвижения для элиты. Скоростной проезд на эксклюзивной торпеде стоил так дорого, что ездить на них могли немногие. Вот и случалось, что люкс-торпеды возили воздух, а на постепенно электрифицирующейся (не быстро, тут никаких чудес нет) железной дороге третьим классом ездят спрессованные в блоки не столь богатые граждане Республики. Вот только локомотивы, тянущие составы, становились все более современными. И иногда их оборудовали аэродинамическими (немного увеличивающими скорость) очертаниями по образцу и подобию знаменитого локомотива «Прекрасная Елена», который на парижской Выставке Техники и Искусства в 1937 году получил золотую медаль, в результате чего, железная дорога хотя бы внешне начала выглядеть, как захлебывалась слюнями восхищенная пресса, «по-американски».
Кроме того, началась прокладка ведущей из Силезии через ЦПО на Кресы Серно-Угольной Магистрали (MSW) и железнодорожный объездной путь для Варшавы. Планировалось уплотнение железнодорожной сети, в особенности на Кресах, которые следовало ведь поднять из позиции Польши В.
ЦПО И САНДОМИРСКОЕ ВОЕВОДСТВО
В любельских Татарах начал работать завод грузовых автомобилей фирмы Лильпоп, Рау и Лёвенштейн по лицензии Шевроле. В Мельце собирали самолет Вихрь, который стал основой флота польских авиалиний LOT: «ИЕК» от 6 июня 1938 года сообщал, что этот «новый тип самолета польской конструкции (…) не уступает современным коммуникационным машинам, то есть, более всего известным дугласам и локхидам». В Ржешове производили инновационные авиационные двигатели (среди всего прочего, здесь проводились работы над более совершенной версией "струменицы", реактивного двигателя польской конструкции, проект которого предложил инженер Ян Одерфельд), в Денбнице производились шины.
В Поромбке, в Ружнове, Чхове, Солине, Мычковицах и Чорштыне появились гидроэлектростанции. Планировались и строились другие электростанции.
На территории Центрального Промышленного Округа было создано новое воеводство со столицей Сандомире, названное воеводством ЦПО.
Сандомир, располагающийся на границе Польши А и Польши В, лежащий в самой средине ЦПО, перед войной, правда, проигрывал сражение за "столичность ЦПО" м Ржешовом, но после войны местом для властей нового воеводства был избран именно этот город. Причины для этого были следующие: расположенный на линии фронта Сандомир довольно сильно пострадал во время войны, а в столичный город должны были поступить средства, дающие возможность реконструкции и расширения строительства.
Помимо того, Сандомир, лежащий в развилке Сана и Вислы, обладал весьма выгодными возможностями соединения с другими частями страны посредством речных путей, которые Эугениуш Квятковский считал крайне существенными – в рамках совершенствования коммуникации между столицей ЦПО и силезским угольным бассейном были реализованы межвоенные планы, и было урегулировано течение Вислы между притоками Дунайца и Сана.
Помимо того, размещение столицы в исторически важном для Республики городе, когда-то воеводском, представляло собой фактор, который был обязан пробудить местный патриотизм, опирающийся не только на создающейся "традиции ЦПО", но и на традициях сандомирского края.
В новообразованном воеводстве проживало около шести миллионов человек, то есть, оно было более многолюдным, чем – скажем – Словакия или даже вместе взятые прибалтийские государства. Воеводство образовалось из частей келецкого, краковского, любельского и львовского воеводств. В него были включены Радом, Кельце, Тарнов, Мелец, Ржешов, Тарнобжег и Замосьць. ЕЕще его назвали "Америкой" – то ли по причине исторического герба, напоминавшего американский флаг (прекрасно понимая это, воеводские власти размещали его где только можно), то ли по по причине чрезвычайно быстрого и эффектного развития этого региона в "американском" – как любила подчеркивать пресса – стиле. А ЦПО сильно восхищались еще перед войной.
В прекрасном сосновом лесу к юго-востоку от Сандомира, - сообщал «Иллюстрированный Еженедельник» в начале 1939 года, – располагается Сталёва Воля. Еше не город, но уже и не городишко. Нечто такое, что сложно определить, но что называется единственным и наиболее верным образом – Сталёва Воля. Сегодня здесь 3 тысяч жителей, через несколько месяцев будет 6 тысяч. А через год? (…) Автомобиль (…) едет от Сандомира по шоссе. Лес… лес… и вдруг – полоса красивых, современных домов. Откуда они взялись? Ведь тут повсюду лес, а за лесом обычные низкие дома. Откуда в лесах эти перекрещивающиеся под прямым углом, параллельные асфальтовые улицы и эти ряды домов с громадными окнами вдоль улиц А, В. С, D, E, F?... Авто сворачивает с шоссе на асфальтовую дорогу впервые за несколько дней. Мы едем мимо магазинов с красивыми витринами, рабочий клуб…
Специальный корреспондент «МЕК» в ЦПО, Людвик Рубель, в свою очередь, так описывал этот регион в номере от 27 октября 1938 года: «мы возвратились, перегруженные впечатлениями (…) Мы видели вырастающие из-под земли гигантские машинные цеха, нас изумлял темп строительства могучих кварталов, с радостью глядели на вырванную у земли железную руду (…). Американский размах, американская энергия и американизация жизни – вот что провозглашали доклады инженеров, беседы с рабочими и крестьянами».
"Если (…) приезжаешь в места, где семь или восемь месяцев назад паслись коровы или же туда, где охотники охотились на диких зверей, и где сегодня мы видим громадные цеха уже под крышей, водонапорную башню, а местами еще не прикрытый лес железных колонн – то теряется чувство времени и возможностей", – восхищается Рубель, добавляя: "через несколько десятков лет люди не захотят верить, что когда-то говорили про нищету Галичины, что когда-то развилку между Вислой и Саном считали самыми перенаселенными и беднейшими землями государства". Регионы ЦПО обычно назывались Польшей С. "Как было бы хорошо, если бы над всей Польшей можно было бы развернуть знамя творческого труда, знамя, которое уже развевается над Польшей С".
Воеводой нового воеводства стал заслуженный президент Варшавы, Стефан Старжиньский, которому этот пост Эугениуш Квятковский предлагал еще перед войной. Старжиньский – как и всегда поступал – энергично взялся за работу. Сандомир начали серьезно расширять.
План строительства "Большого Сандомира" разработал Ян Захватович из Варшавской Политехники. А предыдущий город в новом Сандомире стало выполнять функции приятного, расположенного на холма "старого города". Планировалось, что вокруг него появятся три дополнительных квартала, в том числе промышленный и представительский: в нем должны были разместиться театр, элегантные торговые ряды и жилищная застройка, словно их крупной метрополии. Было начато строительство большого вокзала и железнодорожного моста: через Сандомир повели железнодорожную линию, соединяющую Силезию с Кресами.
"Большой Сандомир" должен был включить в себя окружающие села, в нем должно было проживать 120 тысяч жителей. Стоит сказать, что даже сейчас их только 25 тысяч. Новые, модернистские кварталы походили на застройку Сталёвой Воли, Гдыни или – если кто желает – Новой Гуты, урбанистическая мысль межвоенного двадцатилетия не слишком отличалась от того, что строилось в ПНР. И тут, и там расширяли улицы, расставляли каменные дома (или многоквартирные блоки) в соответствии с принципом "Luft und Licht" (воздух и свет). Именно такие решения считались тогда современными: архитектура восстановленной Варшавы или Новой Гуты в послевоенные годы казалась эффектной, выгодной и была причиной для гордости в Польше. Весьма подобным образом отстраивалась бы Вторая Республика, если бы она пережила войну. И если бы у нее были деньги.
Помимо Сандомира судьба улыбнулась и соседнему Завихосту: очень важному в средневековье городу, который со времени превратился забытое всеми село. Во Второй Республике планировалось сделать из него крупный речной перегрузочный порт для ЦПО, а при случае, и вернуть ем давнее великолепие. Используя эффектное расположение Завихоста на крутом берегу Вислы, там был создан приличных размеров городок с современными, но и обладающими своим настроением улицами и улочками, а так же районами небольших ломов, спускающихся к Висле: амбициозные польские архитекторы не пропустили такого шанса, тем более, после архитектурного поражения, которым в архитектурных кругах все считали Гдыню. Ну а правительственная пропаганда трубила о продолжении "дела давних королей" и дает Польше "величие, которое не удалось ей дать даже в эпоху золотого века".
Если кто и был когда-нибудь в предвоенном Завихосте, писал Ярослав Ивашкевич в опубликованных в альтернативной действительности Путешествиях по Польше, – тот не поверит, что очутился в том же самом городе. Местность с побеленными, крытыми гонтом хатками превратилась в городок со спускающимися к Висле прелестными террасами. Это курорт ЦПО, Сопот на Висле, городок – вроде как средиземноморский, только лишенный того, что больше всего раздражает в Средиземноморье: тесноты и духоты. Ведь это город со своим настроением – но современный. Улочки настолько крутые и узкие, что создали бы настрой нависания и легкой, кошачьей напряженности пространства, но не так, чтобы невыносимо подавляли жителей, чтобы зажимали. Новые дома снабжены всеми современными удобствами: санузлами, электричеством, проточной водой и даже телефонными установками! Запад, Европа, Америка, шик! И кто бы подумал – в польской провинции!
Все это показывает мне в своей квартире профессор Ржехувский, работающий в завихойской ратуше. Профессор заверяет меня, что его жилище лишь немногим лучше – потому что побольше! – обиталища обычного жителя: работника физического или умственного труда, этого нового польского «человека из ЦПО». Все здешние выгоды и удобства в Завихосте доступны всем, они не зарегистрированы исключительно для элит. Мы пьем на балконе наливку и глядим в пространство, в Польшу [48]48
«Бежать в Польшу», «убежать в Польшу» – польская идиома, означающая «куда глаза глядят».
[Закрыть] , которая здесь перед нами красиво расстилается.
Потому что с балкона… потому что с балкона вид, мало того, что дух захватывает, так и совершенно меняет представление о польском пространстве. Ибо видно с него, как здесь так «центрально-польско» разливается Висла, как нетипично для польской равнины местность нагромождается, как над рекой нависает, как вокруг нее формируется. Нет, не Польша это, а Франция, Испания, венгерский обрыв над Дунаем. И мы, в конце концов, имеем то, о чем вечно мечтали, то, чего Польше так вечно не хватало: живописность, если не считать гористого юга страны. Наконец-то для меня, киевлянина, в реальности сказкой стала та центральная Польша, которая всегда была для меня сказочной. Ведь была она коренным образом польской, ибо в ней та реальная история происходила, о которой я учил, именно здесь были польские короли, стержень польской державы, ибо здесь все те названия, волшебно звучащие – будучи киевским ребенком, я их мог себе только представлять: Илжа, Сандомир, Казимеж, именно Завихост. И эта действительность, которая никогда, признаю, никогда не дорастала до моих детских представлений – сейчас доросла. Польша, та самая Польша внутри самой себя, та истинная, не горская Польша – перестала, именно благодаря Завихосту, быть скучной. Обрела форму. Красивая архитектура на красиво резной территории. А ведь Висла течет по всему польскому пейзажу, а где не протекает, так красиво этот пейзаж выкраивает – то ли здесь, то ли в Сандомире, то ли под Казимиром и Пулавами, то ли в Варшаве, Влоцлавке и Торуни – так почему бы из уступа Вислы не создать важнейшего элемента польского культурного пейзажа? Почему бы его красиво не застроить, как здесь, в Завихосте, почему бы из Вислы цветущую и прекрасную полосу не создать, польский Нил, вокруг которого взошла суть Египта? Так пускай именно так Польша вокруг Вислы обовьется. Еще раз спасло нас старое и любимое речище от немца – так и теперь пусть же спасет наше, признаем честно, скучноватое ведь, пространство…