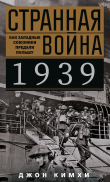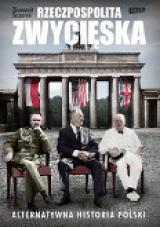
Текст книги "Республика - победительница (ЛП)"
Автор книги: Земовит Щерек
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
В альтернативной истории, как нам уже известно, территории между давней польской границей и линией «Одера и лужицкой Нейсе» образовали Генеральный Протекторат.
В Генеральном Протекторате происходило, собственно, то же самое, что и в давней Пруссии, разве что менее официально и в меньшем масштабе.
Официально Польша не собиралась полонизировать Вроцлав, Щецин, Легницу (тогда еще называемую Лигниц) или другие города. Немецкий язык являлся там языком администрации. То есть – теоретически являлся. Потому что польские чиновники и полицейские не слишком желали им пользоваться.
У всех у них были более серьезные проблемы, чем обучение немецкому языку. В конце концов, незаметно избавиться с громадной территории приблизительно от шести миллионов лиц (а именно столько немцев оставалось там после войны) легкой задачей назвать трудно. Опять же, избавляться от них следовало в белых перчатках, ведь на руки нам глядели англичане и французы, на каждом шагу цепляющиеся к полякам во имя прав человека и национальных прав немецкоязычных силезцев или жителей Поморья.
Но правда была таковой, что как англичане, так и французы через какое-то время уже согласились с тем, что "права немецкоязычного населения" там являются всего лишь словами. Контролеры союзников вмешивались только лишь в случае уж слишком малоприятных противонемецких инцидентов, а в частных беседах с немцами не скрывали, что тем безопаснее всего будет куда-нибудь убраться, только не в польскую оккупационную зону.
– Что ни говори, поляки – это люди восточные, не следует ожидать от них западных стандартов, – сетовали, качая головами, контролеры, а немцы, земляки которых в штальхелмах еще недавно сами вели себя, довольно сильно отступая от тех же стандартов, усердно поддакивали. – Поляки = это католические русские, быть может они когда-нибудь и цивилизуются, для них это, вроде как, весьма необходимо, но пока что это совершенно иной мир. Польские колонисты в оставшихся после немцев домах вырывают розетки из стен, так как не в состоянии понять сути электрического тока. Езжайте в Ганновер, в Швабию, в Рейнскую область, даже в Баварию, – сочувственно советовали немцам союзники. – Куда угодно, только не в Мекленбург, Бранденбург или Саксонию. Тем более – в Лужицу.
А на тех территориях ситуация выглядела еще иначе. Дело в том, что поляки решили восстановить лужицкую государственность.
ВОЛЬНАЯ ЛУЖИЦА
В реальной истории и вправду появились идеи создания лужицкого государства. Доктор Петр Палыс из Польско-Лужицкого товарищества «Pro Lusatia», один из крупнейших знатоков серболужицкой тематики, так писал в статье о лужицком деятеле Войцехе Кучке: «серболужицкая программа-максимум сводилась к получению независимости в миниатюрном государстве по образцу Люксембурга или Андорры. У подобной концепции могли бы иметься все шансы на успех, поскольку в образовавшейся после войны геополитической конфигурации Лужица очутилась между границами Польши и Чехословакии, не образовывая никакого отдельного анклава. Можно было бы принять и автономию в составе Польши или Чехословакии. Географические соображения склонялись бы к первой возможности, но вот среди серболужицкого населения преобладала прочешская ориентация».
Все эти концепции после 1945 года были отброшены. В основном, потому что Москва не желала ослабления "своей" Германии, то есть образованной впоследствии ГДР. А вот в альтернативной истории так не случилось. Это польские, а не советские войска стояли в Лужице. И Варшава решила дать лужичанам независимость.
В реальной истории, когда Польша своими границами коснулась Лужицы, польская заинтересованность забытым до сих пор славянским народом – тонущем, как тогда говорилось, «в германском море» – была огромной. Учреждались пролужицкие товарищества, организовывались научные конференции, посвященные Лужице. Была проведена акция «Польская стража над Лужицей». Академический Союз Друзей Лужицы «Пролуж» посылал в ООН воззвания, направленные на защиту лужицкой тождественности.
Только следует знать, что связанные с Лужицей польские жаркие эмоции столь же жарко не находили ответа от самих лужичан. Конечно же, существовали интеллигентские круги, которые выступали за тесные связи с Жечьпосполитой. Но для обычного лужичанина, живущего – с польской перспективы – в достатке, по высоким цивилизационным нормам, поляки, в основном, ассоциировались с бедными "бродягами". которые искали в довоенной Германии, в том числе и в Лужице, сезонного заработка на хозяйственных работах. А сама Польша представлялась им мало привлекательной, отсталой страной. Лужица не собиралась разделить судьбу Заользья, которое – как считали все в Хотебусе и Будышине[62]62
Напоминаю: Хотебус – немецкий Котбус, Будышин – немецкий Баутцен.
[Закрыть] – на объединении с Польшей ничего не выгадало. Лужичане чувствовали себя гораздо ближе к более развитой (и всегда жившей более по-соседски) Чехии.
В реальной истории активисты, которые собирали среди лужичан под петициями о присоединении региона к Польше, чаще всего уходили несолоно хлебавши. Но у поляков имеется одна сходная с русскими черта: они способны любить даже тогда, когда сами они особо другим не нравятся. Возьмем, к примеру, польскую, не находящую взаимности любовь к чехам.
Потому в альтернативной истории поляки попытались создать лужицкую государственность. Опирались они на таких деятелях, борющихся за независимость Лужицы, как Павол Цыж и Войцех Кучка. Конечно же, лужицкая страна была, понятное дело, слишком малой для неподдельной независимости: реальное количество лужичан следовало оценивать на более-менее 100 тысяч человек. Именно по этой причине Лужицу объявили польским протекторатом. План заключался в том, что это негерманизированные лужичане должны были ославянить своих германизированных земляков.
На территории Лужицкого Протектората со столицей в Хотебусе (который поляки планировали расширить, приблизительно как Сандомир, чтобы сделать из него "настоящую столицу") официальными языками были установлены лужицкий и – только лишь как вспомогательный – немецкий. Детей школах в обязательном порядке обучали польскому языку, как языку страны патрона. На публичные посты были назначены лужичане, им же было доверено управление Протекторатом.
Вот только велико было изумление поляков, когда оказалось, что "славянские лужичане" не проявляют особой охоты к ославяниванию своих немецких соседей. Более того – они даже не проявляют какой-то особой нелюбви к ним. К тому же, нередко они и друг с другом разговаривали по-немецки. Тогда поляки решили взять дело в собственные руки и самостоятельно восстановить лужицкую тождественность. В Хотебуж начали наезжать толпы увлеченных Лужицами польских деятелей, которые должны был объяснить лужичанам, что они являются лужичанами. И научить их лужицкому национализму.
«ЗАПАДНОСЛАВЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВО»
В альтернативном мире это не было концом польских попыток перерисовать карту Европы и возврату к состоянию «когда-то» из уже упоминаемого плаката. Так вот, в 1940 году поляки предприняли головоломную попытку воспроизведения велецкого и ободритского этноса. А так же возврата к «концепции Польши Храброго», концепция же таковая, как определял ее уже упомянутый Зигмунт Войцеховский, была «концепцией огромного западнославянского государства». «Только лишь наиболее близкие этнически полякам велецкие и ободритские славяне остались за пределами границ государства храброго», – писал познаньский профессор.
К такому типу удивительных задумок польские власти поощрялись учеными энтузиастами с довольно специфическими взглядами, как, например, известный этнограф и националист Кароль Стояновский. Он утверждал, что территории между Одером и Эльбой (Одрой и Лабой) онемечены лишь "поверхностно", поскольку – как он сам доказывал – "политическая и языковая германизация не так важна, как происхождение и психические черты". И по этой причине "это население обязано возвратиться на славянское лоно".
Стояновский и его сотрудники провозглашали проект "повторной славянизации" восточных германских территорий.
В реальной истории, когда униженная Польша едва могла дышать под германской оккупацией, Стояновский издал публикацию под названием О повторной славянизации восточной Германии, в которой широко расписывал все то, что, судя по его более ранним публикациям, вынашивалось у него в голове уже давно. «Такие города как Гамбург, Киль, Любек, Магдебург, Лейпциг, не говоря уже о Берлине, располагаются на давних славянских землях, – писал он. – Причем, некоторые названия имеют славянское происхождение (Любек, Лейпциг, Берлин) (…). До настоящего времени не сумели германизировать лужичан, которые выжили в количестве около четырехсот тысяч человек», – утверждал он, сильно пересаливая.
В альтернативной истории именно Стояновский и связанные с ним энтузиасты уговорили польские оккупационные власти осуществить эксперимент по «повторной славянизации». Ведь Стояновский утверждал, что в восточной Германии имеются «элементы, желающие пройти повторную славянизацию». Что, мол, достаточно поскрести бранденбуржца или там мекленбуржца, чтобы увидеть венда.
Кто бывал после мировой войны у так называемых люнебургских вендов, то есть, собственно, у древлян, тому известно о том, что эти венды обладали сознанием своей племенной принадлежности в весьма выдающейся степени. Своей вендийской принадлежностью они явно гордятся и выставляют наверх, - захлебывался от восторга Стояновский в альтернативной исторической линии. – То же самое и в Мекленбурге, где славянское сознание удержалась, в особенности, у дворянства, ранее славянской, а теперь германизировавшейся. Вроде бы как, именно у этих дворян с какого-то времени зафиксировался обычай, что какой-нибудь из сыновей в семействе изучает какой-нибудь живой славянский язык. Серьезным славянским осознанием обладает и Рюгге, несмотря на то, что он быстрее всего позволил себя германизировать.
Стояновский же представил властям довольно подробный проект обустройства не только полабского государства, но и создания самих полабян:
Долгое еще время обиходным и даже официальным языком в полабском государстве был бы немецкий язык. Полабский язык вводился бы постепенно. Поначалу он вводился бы на добровольной основе, а по мере распространения – проникал бы и в органы власти.
Протектором Полабья была бы Польша, которая бы следила, «чтобы элементы, желающие заново славянизироваться, не были бы подвержены террору и притеснениям немцев с гитлеровским взглядом на мир».
Просто-напросто, должно найтись определенное число полабских славян, которое вернется к своему замершему языку, после чего они станут кадрами повторной славянизации на территории, населенной полабскими славянами, говорящими сейчас по-немецки, - продолжал свои выводы Стояновский и тут же страховался, – бессмысленная утопия, скажут многие – народ, который перестал говорить на своем языке, к нему уже не возвращается. Так нет же! Вновь мы в настоящее время являемся свидетелями такого чрезвычайно любопытного социологического явления. Доказательство возможности возврата к своему древнему языку дают нам палестинские евреи, которые в показательных количествах вернулись к древнееврейскому языку, вымершему гораздо ранее, чем язык славянских древлян.
КОПАНИЦА, СТОЛИЦА БРАНИБОР-ВЕЛИГАРДА
Альтернативная Варшава – после относительно кратких сомнений – на подобного рода эксперимент согласилась. «Полабье» было устроено в оккупированном Бранденбурге-Мекленбурге. Теоретически, чтобы не дразнить Англию, Францию и Соединенные Штаты, Бранденбург-Мекленбург оставался независимым немецким государством под польской оккупацией. В действительности же за «повторную славянизацию» взялись с места в карьер.
Начали ее с географических названий. Берлин сделался одновременно и Копаницей, что было ассоциацией к историческому славянскому граду Копанице (его повелитель Якса был последним полабским князем). Этот славянский отзвук до сих пор слышится в названии берлинского района Копёник.
Росток с нынешнего времени становился еще и Розтокой, Шверин – Зверином, Бранденбург – Бранибором, Штральзунд – Стреловом, Висмар – Вышомержем и так далее. Название самого государства Бранденбург-Мекленбург было переведено как Бранибор-Велигард, но предлагалось и альтернативное название: Край Вендов.
Разыскивались "вендийские" элиты: те люди, которые пожелали бы стать зачином нового славянского государства.
Альтернативный "ИЕК" от 10 апреля 1941 года так описывал журналистский визит в Копанице, столице Края Вендов:
Копаница, еще недавно называемая Берлином, представляет из себя довольно-таки мрачный вид. Несмотря на то, что объективно красивый и могучий, город как-то посерел, съежился, пригнулся. Жители ходят по улицам сгорбившись, с погашенным видом и даже не глядят на польских солдат, которуе патрулируют центральную, Липовую улицу или же Венедскую, ранее называемую Фридриха. Эти люди разговаривают приглушенным голосом, а если к ним обращаешься – естественно, по-немецки, ведь здесь никто вендийского не знает (а как он должен знать, раз язык еще даже не кодифицирован), так и знания польского языка ожидать не следует – они ведь по акценту слышат, что я поляк. Ну и ответят мимоходом два-три слова, чего-то там буркнут, что еще не самое паршивое – и дальше, своими делами заниматься.
Следы войны заметны здесь сильно. Город разрушен, люди бледные. Товары по карточкам. Автомобилей что-то маловато, хотя перед войной город был весьма даже моторизован. Что с ними случилось? А не известно. Капитан Ледуховский их польских оккупационных сил отвечает на это, что машины не ездят, потому что нет бензина. Знакомый еще по давним временам берлинский журналист Отто Ф. говорит однако, что бензина – ну да – нет, так и автомобилей нет. Их реквизировали поляки и включили в собственные транспортные парки.
Эх, sic transit gloria mundi. Ничего не осталось от гордой столицы Рейха, от Германии Гитлера, от города, который должен был повелевать всем миром. Ну да, огромный, ну да, обширный, но эта величина и обширность лишь подчеркивают его упадок, его унижение и притеснение.
Даже если перед войной кто-нибудь в Краю Вендов и проявлял какие-либо прославянские симпатии, то теперь, под польской оккупацией, он осознавал, что, в любом случае, ему ближе к своим немецким соседям, чем к полякам, которые, наряду с оккупацией, принесли с собой собственные стандарты, качественно – и что тут поделаешь! – не сравнимые с местными.
Потому-то "потенциальные венды" даже не пробовали высовываться, чем походили на чешских панславистов XIX века, которые после поездки в Петербург сделались бывшими панславистами. Эти чешские экс-панслависты повесили над своими письменными столами кнуты, на которые поглядывали в те моменты, когда снова находили на них панславянские эмоции..
И таким вот образом, робкие попытки "восстановления полабской государственности" около 1941 года пошли псу под хвост.
ПОЛЬШЕСЛОВАКИЯ
Совершенно иным образом дела шли в Словакии.
Еще перед войной, в 1938 году (23 октября) "Ежедневный Иллюстрированный Курьер" информировал:
"Словаки не любят чехов, но не желают и венгров. Что бы быть сами собой, они слишком слабы. Более всего они хотели бы федерации с Польшей. В этой вере к Польше и к благородству польских властей есть что-то трогательное. Быть может и хорошо, что мы не желаем, чтобы действительность – которая никогда не похожа на наши сны – развеяла эти словацкие мечтания", – отмечал совершенно по делу автор статьи.
Но после войны сразу же пожелали. Причем, с обеих сторон.
Словаки в 1939 году были настроены очень националистически, хотя понимали, что без крупного внешнего покровителя у их государства могут возникнуть проблемы в кровожадно-националистической Европе. После распада Чехословакии Братиславой дирижировала Германия, но после проигранной Берлином войны словаки поглядели туда, куда глядели уже ранее: на Польшу. Даже если еще совсем недавно обе страны поссорила мелкая коррекция границ.
Большим сторонником сотрудничества с Польшей был Карел Сидор, крайне правый словацкий деятель, бывший командир Гвардии Глинки и премьер Словакии времен Тисо. Этот до фанатизма католический политик, сторонник более тесных контактов с религиозной Польшей, а не с "безбожной" Прагой, был противником участия Словакии в нападении на Республику и по этой причине в 1939 году был сослано на дипломатическую работу в Ватикан.
После победы над Германией в сентябрьской кампании и после перехода Словакии в польский лагерь, Тисо был отодвинут от власти. И именно пропольского Сидора вызвали назад из Ватикана. "Пропылесосенный" политик встал во главе словацкого правительства. Его католически-фашистские взгляды не были помехой для формирования федерации с Польшей: тогдашние демократические стандарты в регионе не соблюдались с излишней мелочностью. Первым жестом доброй воли было отречение Словакией от каких-либо прав на польскую часть Оравы и Яворины. Нет смысла прибавлять, что словацкие войска отступили оттуда еще раньше.
После многих лет заключения во мраке атеизма, - провозглашал на воскресной проповеди молодой словацкий священник в Липтовском Микулаше, – наконец-то наш Словацкий Край вступил в круг света, наконец-то засветил в глаза страны нашей свет религии, которую можно официально и с открытым забралом провозглашать и исповедовать. Религия эта может – и я верю, что так будет! – представлять для государства моральную опору, она не будет стыдливым суеверием, от которого следует отречься, но истинным столпом державного порядка! В новом словацко-польском государстве мы отступим от вульгарного чешского безбожия, от культуры, дающей лишь временность в голове и пустоту в сердце. Мы вернемся к истокам культуры, которая нас породила.
Говорят, будто бы Польша бедная, будто неразвитая, необразованная – зато Чехия богатая и образованная. Эй, народ словацкий! Не возлагай особой веры на прогресс, на развитие.
Ибо, чем больше света освещает путь, чем больше чего сбоку из мрака появляется – тем легче человек заметить может, что не на дороге он, но в пустыне! И что ничего вокруг и нет! Ну а богатство, а промышленность? Да плевать нам на них, народ словацкий! Ибо помнить следует – все равно, какой Словакия наша будет, бедной или богатой – важно, чтобы была она католической.
Уже весной 1941 года было объявлено создание польско-словацкой конфедерации. Граница была открыта, Словакия приняла польскую валюту, было организовано общее экономическое пространство. Были объединены железнодорожные линии, почты и тому подобное. Обе страны сохранили отдельные парламенты, правительства и президентов, но все эти институции время от времени собирались на совместных сессиях в Бардиове, прелестном местечке неподалеку от польско-словацкой границы. Было договорено, что Польша должна будет вести заграничную политику Словакии. Волей обоих народов – как провозглашало совместное заявление правительств в Варшаве и в Братиславе – является как можно близко идущая интеграция.
Республика, повысившаяся в чине до защитника Словакии, должна была раскусить крепкий орешек. Ей необходимо было делать все, чтобы не позволить втянуть себя в территориальный конфликт с Венгрией, в который пытались втянуть Варшаву словаки – ведь совсем недавно они утратили в пользу Будапешта весь юг страны со вторым после Братиславы крупнейшим городом: Кошицами. А поляки ни за какие коврижки не желали таскать венгров за чубы. Дело в том, что, помимо традиционно восторженного отношения к Венгрии, это государство для Польши было ключевым в создании Междуморья, о котором так мечтали поляки.
МЕЖДУМОРЬЕ
В межвоенные годы довольно часто появлялись мечты о великом славянском могуществе и уверенность в «призвании» Польши в рамках именно этого могущества. Их главным пропагандистом во Второй Республике был генерал Люциан Желиговский. Тот самый, который в свое время сыграл «бунт» против Юзефа Пилсдского (в реальности же тем же Пилсудским и вдохновленный) – и таким образом добыл для Польши Вильно.
Во всех этих видениях Польша должна была стать "опекуном" всего региона.
Имеется множество неславянских малых народов, которые соединят свои судьбы со Славянским Миром и польским народом, - вещал Желиговский на страницах виленского «Слова» в мае 1938 года. – Венгры, румыны, литовцы, латыши, эстонцы и другие – все это неславянские народы, но связанные с нами либо узами традиционной дружбы, как венгры, или долгой совместной историей, как литовцы, либо же заботой о собственном будущем. Поначалу славяне обязаны объединиться под эгидой Польши, и одновременно должна появиться сеть союзов с малыми народами.
Сегодня слова Желиговского звучат как болтовня панславянского юродивого, но концепция Междуморья – союза государств, расположенных между Россией и Германией, под эгидой Польши – должна была, более или менее, заключаться именно в этом.
В поисках корней Междуморья историки обращаются к временам польско-литовской Жечипосполитой Обоих Народов или Европы Ягеллонов, которая в эпоху наибольшего расцвета этой династии растягивалась от границы Инфлянт[63]63
Слово "Инфлянты" (польск. Inflanty) является искажением немецкого названия Ливонии – Livland [Лифлянт]. В 1622—1722 годах северная граница воеводства совпадала с линией польско-шведской границы, впоследствии она же польско-российская.
[Закрыть] до Далмации[64]64
Далма́ция – историческая область на северо-западе Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря, на территории современных Хорватии и Черногории.
[Закрыть]. В XIX веке князь Адам Чарторыйский призывал к созданию федерации Польши, Литвы (понимаемой как территории, охватывающие нынешнюю Литву и Беларусь), а так же венгерских, чешских, румынских и югославянских земель.
Пилсудчики вернулись к этой идее, и она продвигалась – в различной форме – в течение всего межвоенного периода. В альтернативном видении истории после победной войны Междуморье начало становиться фактом.
Впрочем, в реальной истории Запад планировал создание конструкции, являющейся вариантом Междуморья. Эта тема была затронута в самом начале Второй мировой войны. Было доведено до переговоров между Владиславом Сикорским и Эдвардом Бенешем на тему создания после войны объединенного польско-чехо-словацкого государства. Переговоры эти шли с трудом, поскольку Прага сотрудничество с Польшей, которую видела как отсталую и агрессивную страну, в качестве печальной необходимости, поляки же, в свою очередь, опасались экономической конкуренции со стороны гораздо более развитой Чехии (масштаб диспропорции обнажили проблемы, встреченные Польшей в Тешинской области). Тем не менее, переговоры эти были проведены, и на польско-чехословацкой конфедерации дело не должно было кончаться: планировалось ее расширение с созданием так называемой Балканской Унии, куда должны были войти Югославия и Греция.
В 1942 году представители правительств Польши, Чехословакии, Греции и Югославии создали Совет Планирования Центральной и Восточной Европы. Вместо "центральноевропейской мелочевки" должна была образоваться мощная конфедерация государств Центральной Европы.
Что касается Польши, то она никогда не переставала мечтать о собственной «череде стран» между Балтикой, Адриатикой и Черным морем. Междуморье было предметом особой заботы Юзефа Пилсудского и его сторонников. Леон Василевский, близкий сотрудник Пилсудского (и отец никому не известной Ванды Василевской) утверждал, что страны, расположенные между Балтикой и Черным морем, обречены на объединение в какую-то форму федерации под польской эгидой.
Другой сотрудник Пилсудского – прометеевец Тадеуш Холувко, основатель Союза Сближения Возрожденных Народов – считал, что Польша должна вести такую политику, чтобы каждый народ нашего региона знал, что может найти в ней приятеля и защитника. Одной из ее целей должна была стать поддержка слабых и утесняемых народов (представители одного из таких народов, украинские националисты, застрелили Тадеуша Холувку в 1931 году в Трускавце).
В любом случае, как твердил Холувка, Польша обязана инициировать образование более сильных центральноевропейских федераций, состоящих из многих меньших народов. Такие "федерации" должны были стать противовесом для другой федерации: Советского Союза.
Надежды пилсудчиков были более или менее рациональными. Только не станем забывать о том, что мы находимся в Польше, где даже рационализм способен закоптиться в густом дыму национального абсурда.
Например, Кароль Стояновский, польский этнолог, о котором уже (с радостью) я упоминал, во время оккупации Польши Германией издал публикацию под названием Западнославянское государство.
В ней он писал так: "Большая часть народов, населяющих западнославянское междуморье, это католические народы. Католиками являются поляки и литовцы, словаки, чех и, частично, лужичане, венгры, хорваты и словенцы. Католицизм в качестве одной из державных скреп обладает своей исторически подтвержденной ценностью, так что долго на эту тему нет смысла расписываться".
Стояновский утверждал, что нетерпимой политики в отношении православных сербов, болгар и румын нет смысла вести, но нельзя опять же скрыть, что "ради единства западнославянского государства было бы очень хорошо, если бы эти народы приняли католицизм римского толка".
И такими были планы. Стояновский ничтоже сумяшеся творил империи, одни государства обращал в другое вероисповедание, другие уничтожал. Вот Австрия, к примеру, по его мнению жолжна была быть разделена между Словакией и Словенией.
Но на Стояновском межвоенные видения польского Междуморья не заканчивались. Другие версии были более реалистичными. Не всегда, правда, они как-то считались с действительностью, но наверняка уж сильнее, чем предыдущая.
История приказывает Польше объединить страны севера с югом, – писал «ИЕК» 12 сентября 1938 года. – Достаточно поглядеть на карту путей сообщения Польши, чтобы увидеть, что главные пути сообщений Польши идут вдоль параллелей, с запада на восток. Польша была переходной территорией для двух культур и двух экономических формаций: западной и восточной. Польша была транзитным краем для обмена Запада с Востоком. (…)
Через Польшу начинает проходить экономический, политический и идейный ток, соединяющий Север с Югом. Прибалтийские страны (…) желают (или же должны будут желать) культивировать между собой взаимный обмен ценностями, капиталами, идей и людей, чтобы защититься от опасностей враждебных, но могучих соседских автаркий. Здесь важнейшая роль достается Польше. (…)
Польше же, - не скрывает автор статьи, – могут достаться наибольшие выгоды из этого процесса интеграции, который проходил бы от Севера до Юга.
Станислав Сроковский, довоенный польский дипломат и географ, писал в 1925 году:
Доступ Польши к Эвксину (Черному морю) пускай даже через союзную Румынию – это могущественное в результат умножение нашей непосредственной торговой экспансии (…). И коронацией дела по нашему гражданству на берегах Черного моря была бы добыча там для Польши хотя бы небольшого клочка земли для создания собственной торговой фактории и базы для польских судов.
В альтернативной истории идея строительства Польшей Междуморья получила признание Запада по тем же самым причинам, по которым в реальной истории она имела во время Второй мировой войны. Ведь существование «третьей Европы», держащей под шахом Россию и Германию (п еще, с точки зрения британцев, и Францию) для Запада было бы выгодным. Но в реальной истории Междуморья не выстраивали потому, что с этим не соглашалась Москва – по необходимости союзник Англии и Франции.
В новой геополитической ситуации – после того, как Польша сделалась любимчиком Запада, которого всеми силами выдвигали на роль регионального силача – создание Междуморья стало простым: просто польская сила притяжения весьма выросла.
Варшава и все государства между Таллином и Софией связал тесный военный союз и становящееся тесным экономическое соединение. Был создан Балтийско-Черноморско-Адриатический Союз, который в международных отношениях сокращенно называли Интермариум (Intermarium) (в Литве – Tarpjűris, в Чехии – Mezimoří, в Румынии – Intre Mari, в Братиславе – Medzimorie, в Белграде – Međumorje, а в Варшаве – именно Междуморьем). Его армии были тесно интегрированы, во время часых совместных маневров использовалось единый язык военных команд. Французский, чтобы не было видно, будто бы кто-то здесь желает доминировать.
Польские венные суда размещались в югославских, румынских и болгарских портах. Путешествия в рамках Междуморья были весьма облегчены. Правда, пограничный контроль отменен не был, но при пересечении границ можно было располагать только лишь удостоверением личности.
Весьма облегчены были коммерческие контакты: была начата унификация правовых предписаний (в некоторых сегментах вводились совместные кодексы), аннулировались пошлины. В очень-очень далекой перспективе робко планировалось введение совместной валюты.
В этой альтернативной реальности Мельхиор Ванькович[65]65
Мельхиор Ванькович (польск. Melchior Wańkowicz); (10 января 1892 ― 10 сентября 1974) ― офицер польской армии, писатель, журналист и издатель. Известен благодаря своим репортажам о сражениях Войска Польского на Западе во время Второй мировой войны, а также благодаря своей книге, повествующей о битве под Монте-Кассино. – из Википедии
[Закрыть] описал путешествие через Междуморье, от Таллина на Балканы, в своих мемуарах Между морями, изданных в 1942 году.
В Таллин мы приплыли из Гдыни, и уже здесь – с помощью приятелей, членов эстонского автомобильного товарищества – купили машину. Уже вскоре для всех государств Междуморья обязательным станет один образец регистрационных таблиц, но пока что нам приходилось ездить на эстонских. В конторе все прошло очень быстро и гладко, воистину – по сравнению с нашей бюрократией и чиновничьей машиной, проявляющих себя в самых гадких проявлениях настроения – здесь чувствуется подход, скорее, скандинавский, а не российский. Без всяческих никому не нужных хороводов, верительных грамот, бумаг и стараний (в Польше все это заняло бы у меня неделю, я же знаю вас, родимые мои Акакии Акакиевичи!) я мог сразу же усесться за руль внедорожника польского производства, знаменитого «303». Только лишь на внедорожнике, никак не на излишне рекламированном «люкс-спорте», думал я, мне удастся по суше преодолеть расстояние между морями Междуморья.
Ведь странам нашим, всем ведомо, дплеко еще до стандартов и западноевропейской цивилизации. И это нас, наверняка, объединяет, размышлял я, направляясь из Таллина на юг, на Ригу, это наша судьба мировой провинции. Провинции, у которой имеются амбиции догонять и перегонять, и как раз в этой погоне она и объединилась, потому что перед войной все бежали в одном и том же направлении, только по отдельности.
Заметно, как ведется строительство. Из Таллина до самого Ковно ведут улучшенные и улучшаемые дороги, но, поскольку все они идут, в основном, через леса, то видать мало чего. Иногда лишь мигнут какие-нибудь дома – то немецкие, то русские по стилю.
Первая граница Междуморья – эстонско-латвийская. Я специально показываю только свое польское удостоверение личности; ну просто не могу я поверить – хотя я и знаю, что это и по закону – что могу пересечь эту границу без паспорта. Пересек, хотя чемоданы мои и осмотрели (нужно будет глянуть, а имели ли они на это право). С эстонцами я разговаривал по-немецки, с латвийцами – по-русски, но как-то все прошло.