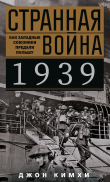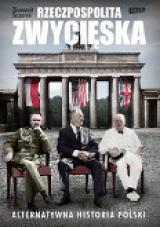
Текст книги "Республика - победительница (ЛП)"
Автор книги: Земовит Щерек
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
А вот между собой Италия Муссолини и Испания генерала Франко сотрудничали очень тесно, образуя совместный антилиберальный и антинигилистский фронт – пускай и неформальный, зато крепкий. В Мадриде и Риме часто говорилось, что, мол, СССР и УНЕ – это, по сути дела, одно и то же, и что они совместно планируют тайно напасть на "последние острова традиционных европейских ценностей" на континенте.
Часть государств Междуморья, в том числе и Польша – на что УНЕ и ТВП глядели с огромным недовольством – флиртовали с неформальным блоком Италии и Испании.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В альтернативном мире ситуация на Дальнем Востоке не слишком отличалась от реальной ситуации. Понятное дело, что в 1940 году не случилось подписания «пакта троих», образующего союз, который итальянская пресса называла «Роберто» (Рома-Рим – Берлин – Токио), поскольку Гитлера вот уже год, как не было в живых, а великодержавные планы Муссолини ему следовало урезать. Но вот война в Азии шла уже добрую пару лет, японские же амбиции родились не вместе с пактом «Роберто», а гораздо раньше. Потому-то, даже после поражения Германии Япония не намеревалась отказываться от своей велико геополитической цели: создания так называемой Зоны Совместного Благосостояния Великой Восточной Азии.
Автором этого плана был, что весьма любопытно, антимилитарист – Кийоши Мики из университета в Киото. Проект должен был заключаться в том, что в восточной Азии следовало создать совместную экономическую и политическую зону (de facto с японским доминированием), в которой белым нечего было искать. Зона растягивалась бы от Папуа до Манчжурии, и от Бирмы до тихоокеанских островов. Эта зона была бы сырьевой базой Японии, территорией, предоставляющей дешевую рабочую силу и – в случае необходимости – армию.
Японцы знали, что, реализуя свой план, раньше или позднее им придется вступить в конфликт с американцами, интересы которых в тихоокеанском регионе были весьма обширными. Японцы собирались захватить зависимые от США Филиппины, расположенные в ключевом для региона месте, так что столкновение было неизбежным. А чтобы вырвать у американцев клыки, они решили – точно так же, как и в реальной истории – сломать шею американскому флоту в Тихом Океане. И ударили на Перл Харбор.
После продолжавшейся несколько лет войны американцы – с помощью британцев и французов, колониальные интересы которых в Восточной Азии тоже подвергались угрозе – победили японцев. А поскольку незадолго перед тем американская ядерная программа завершилась успехом, США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Кокуру (в действительной истории именно Кокура была первоначальной целью, но ее спасли плотные облака, так что трагедия случилась с "запасной целью" – Нагасаки). Манчжурию захватила действующая по тайному договору с Вашингтоном Красная Армия. Япония капитулировала американцам. Капитуляция была безоговорочной. Почти: условие было лишь одно – император не должен был быть лишен трона. Вашингтон с этим условием согласился.
Освободившиеся от японских захватчиков китайцы вновь могли заняться драками между собой. В столкновении националистов Чан Кайши из Гоминдана и коммунистов Мао Цзэдуна победили последние. Точно так же, как и в реальной истории, решающим оказалось их предложение обществу: оно было более привлекательным для желавших перемен беднейших масс китайского народа и позволило победить националистов.
Советский Союз поставлял оружие китайским коммунистам. Он тоже напал на Японию, но на этом его официальное заграничное военное вмешательство и закончилось. Лишенный европейских сателлитов, без возможностей широкой мобилизации, которую в реальном мире Союз осуществил в сороковых годах, и без шансов на какие-то особенные маневры за пределами собственных границ, СССР сконцентрировался на внутренней ситуации, на развитии тяжелой промышленности и участии в атомной гонке. А еще он вкладывал свои пять копеек в левые и антиколониальные движения по всему миру (в том числе и на все еще польском Мадагаскаре).
ПОЛЬША
Спасенная Республика разыгрывала демократическое кабаре точно так же, как сегодня его разыгрывает Беларусь или Россия. Во второй половине сороковых годов президентом все так же был Смиглы-Рыдз, но у него было больное сердце, и он все чаще чувствовал себя плохо. Его портреты висели в каждом официальном учреждении, а на стенах и тумбах для объявлений на каждом шагу можно было встретить визжащие пропагандистские плакаты. В двух очередных «честных» парламентских выборах победил вождистский, авторитарный и склоняющийся к фашизму Лагерь Национального Объединения, по отношению к которому нарастала оппозиция даже среди самих пилсудчиков, которых в народе называли санаторами. Внесанационную оппозицию, как и перед войной, превентивно устрашали и даже совали за решетку: Береза действовала на полную катушку, хотя Запад убеждали, что это такое гуманитарное место уединения для «лиц, нарушающих общественный порядок». Однако, все чаще деятели с «левой» стороны санации начали искать контакта с оппозицией, желая свергнуть авторитаризм Рыдза и ЛНО.
Фракция Рыдза, подкрепляемая Адамом Коцом и Косткой-Бернацким, закреплялась у власти, но Запад способствовал санационным либеральным "левым" с Казимиром Бартом и Александром Пристором. Эти либералы были открыты для диалога с оппозицией, они же постулировали толерантность в отношении меньшинств и требовали демократических реформ.
И все же, страна, управляемая ЛНО, постепенно поднимается с колен, в основном – в плане инфраструктуры. Расширяется сеть дорог, по ним ездят популярные и дешевые радваны, которые уже могут себе позволить уже большее число поляков. Развитие промышленности вызывает появление все более ширящегося среднего класса – рабочие, правда, в него еще не включаются, во всяком случае, не везде (в какой-то части ЦПО и в крупных городах ситуация получше), но заработки рабочих растут. Продолжается миграция их деревень в города. Но мощный государственный интервенционизм подавляет экономическую инициативу снизу и не позволяет польской экономике развиваться так быстро, как она бы могла.
Международная ситуация после победы над Германией и при "сонном состоянии" Советов пока что не самая паршивая. Польша сделалась важной частью крупного международного союза по обеспечению безопасности с приличными и модернизируемыми по ходу вооруженными силами.
Но имеются и минусы. Напряженные отношения с еврейским населением; совершенно трагические – с украинским, сложности с развитием послегерманских территорий и хозяйствованием на них. То же самое касается и Восточных Кресов – все так же там царит нищета, а планы выравнивания Польши А и Польши В остаются чистой воды теорией, так как ни у кого нет толковой идеи относительно того, а как это выравнивание осуществлять.
Провинция развивается, но она все так же остается – по европейским условиям – бедной и отсталой. Более или менее качественные дороги соединяют поветовые города, а деревням остаются грунтовки в выбоинах, летом в пыли, весной и осенью – покрытые слоем грязи. Но улучшение настает. В деревне улучшается образование, проводится мелиорация, рекомендуется образование сельскохозяйственных кооперативов, начинается строительство фабрик в провинции, чтобы крестьяне могли там работать без необходимости переезда в города.
Опять же, взятые после войны кредиты нужно начинать выплачивать, а дл бюджета это огромные трудности. Даже если эти кредиты были выданы под низкий процент.
ПЛОХИ ДЕЛА В КОЛОНИЯХ
Колониальное приключение альтернативной Республики на Мадагаскаре ничем хорошим закончиться не могло.
Мадагаскар был неурожайным, доходов приносил мало, а кроме того – ему ужасно надоело быть чьей-либо колонией. Так что до восстания местных сторонников независимости было рукой подать.
Уже вскоре после начала колонизации вспыхнул первый бунт польских переселенцев, которые не могли вписаться в мадагаскарские условия и желали вернуться домой. Голод им, правда, в глаза не заглядывал, поскольку (в целях поддержания престижа) Польша поставляла основные пищевые продукты, но вот интересных для себя перспектив колонисты заметить никак не могли. Если не считать людей с по-настоящему твердыми характерами и парочки хватких бизнесменов, которые и в новых условиях чувствовали себя словно рыба в воде, большинство поляков желало возвращаться на родину.
Варшава понятия не имела, что делать. Ситуация была курьезной: горстку польских колонистов защищали несколько тысяч польских солдат. От знаменитого "колониального сырья" особой выгоды тоже не было: да, в Гдыню через Суэцкий канал направлялись грузы ванили и пальмового вига, кофе и ягод личи, ильменита и традиционных африканских изделий (на которые какое-то время в Польше даже царила мода), но баснословных прибылей все это не приносило. Покупательная способность польского общества не была слишком высокой, а торговля с остальным миром даже не покрывала расходов по управлению островом. В Польше образованный при МИД Департамент Колониальных дел, равно как и Морская и Колониальная Лига становились на голову, чтобы каким-либо образом обосновать смысл польской колониальной великодержавности, организовывались широкомасштабные акции, в ходе которых выискивались желающие выехать, безработных в городах и седах уговаривали поискать счастья в польской колонии.
Колонисты, пускай и немногочисленные, как-то находились, вот только условия на Мадагаскаре мало кто мог выдержать. Колониальная администрация уже перестала успевать обеспечивать им хотя бы базовые условия для проживания. Где-то через год после первого, вспыхнул второй бунт колонистов, которые ворвались на территорию сада, окружающего резиденцию польского губернатора в Новом Кракове. Если бы не решительные действия конной полиции и армии, которые начали угрожать применением оружия, губернатора, как и было обещано, повесили бы на фонаре. Польские колонисты были в отчаянии и требовали организовать транспорт, чтобы вернуть всех домой.
Мальгаши глядели на все это с изумлением. Престиж колониальной администрации упал чуть ли не до нуля.
Тем более, что, несмотря на официально декларируемой поляками привязанности к наследию Морица Бенёвского, который мальгашей уважал, за что те объявили его королем. Польские колониальные власти считали коренных обитателей острова недолюдьми, не имея понятия о том, какой мелочи не хватило, чтобы сами они очутились в таком же положении в случае проигрыша в войне. Мальгаши, тем временем, народ, обладающий собственной традицией государственности и перечнем повелителей-королей, который могли бы наизусть учить их дети, в 1947 году (точно так же, как и в действительной истории) начали антиколониальное восстание.
Бои шли по всей стране, и повстанцы овладели большей астью острова. Польская армия с помощью французов кроваво подавило бунт. После длящихся целый год чудовищно тяжелых сражениях победили европейцы, в основном, благодаря техническому преимуществу: повстанцы, несмотря на временные успехи, не имели ни малейшего шанса против пулеметов, истребителей Коршун и танков 4ТР, потому что именно таким вооружением располагали поляки на Мадагаскаре. Польша справилась с восстанием именно так, как это было принято в европейских колониях по всему свету. Пленных и заключенных расстреливали, осуществляли показательные казни. Предводители восстания были повешены. Одним словом – все было сделано именно так, как в реальной истории сделали французы.
А город Фианаранцуа переименовали в Шмиглице.
Польская пресса, которая в течение года продолжения войны не убирала с первых страниц сообщений о боях на Мадагаскаре, праздновала польскую викторию в первой в истории колониальной войне Республики. Вновь вышли чрезвычайные издания журналов и газет. О войне даже нчали снимать фильм.
Но после войны польские колонисты перестали прибывать на остров. А тем, которые на Мадагаскаре остались, срочно захотелось возвращаться. Часть из них и так выехала самостоятельно: в основном, в Южную Африку, Австралию, Южную Америку и США.
Так что выходило, что польские солдаты стреляли в мальгашских повстанцев совершенно напрасно. Что вся эта польская колониальная война была кровавой ошибкой. Ведь никто, если не считать польской прессы и Морской и Колониальной Лиги Мадагаскара не хотел, включая и польское правительство, для которого остров был, попросту, все время требующим расходов источником хлопот. Ну да, в "колонию" еще выезжали энтузиасты, молодые люди, желающие пережить экзотическое приключение, записывались в колониальные отряды, и все время случалось, что пропагандой обманывались бедняки, которым нечего было терять, и которые желали изменить свою судьбу – но таких людей было слишком уж мало.
В 1948 году Республика начала задумываться над благородным жестом дарения мальгашам независимости, чтобы таким образом сохранить лицо в данной ситуации. Только с этим решением не согласились французы, опасаясь за своих сограждан на острове, которых Польша – напоминали им – обязалась защищать. Опять же, признание мальгашам независимости для колониальных держав стало бы невыгодный прецедент. Над отношениями "Варшава – Париж" начали собираться черные тучи, а Польша не могла себе позволить ухудшения отношений с одним из своих ключевых союзников. "Вы взяли на себя ответственность, – говорили французы, – так что будьте теперь последовательными".
СМЕРТЬ РЫДЗА
Альтернативные пятидесятые годы начались двумя похоронами: поначалу Юзефа Бека, многолетнего и заслуженного министра иностранных дел (хотя, как говаривали те, кто его недолюбливал, одаренного большей удачей, чем политической интуицией), а потом – и Верховного Вождя. Рыдз-Смиглы, уже давно болеющий, умер от сердечной болезни зимой 1950 года. Церковные власти, совсем иначе, как во время конфликта, связанного с захоронением на Вавеле Юзефа Пилсудского, относительно быстро выразили согласие на захоронение новопреставившегося среди королей. «Осиротевшие», как они сами себя назвали, сотрудники устроили Рыдзу похороны, которые были копией похорон Юзефа Пилсудского: лежащий на лафете гроб был поставлен на открытой железнодорожной платформе. Поезд переправил ее из Варшавы в Краков, где с вокзала лафет перевез гроб по Королевскому Пути на Вавель. То есть, все состоялось точно так, как пятнадцать лет раньше. Правда, бросающих цветы плакальщиков было гораздо меньше. Похоронили Рыдза в мраморном саркофаге, украшенном резной надписью DEFENSOR POLONIAE.
Сразу же после смерти Смиглего раскрылись уже давно ведущиеся фракционные бои, в которых приняли участие как его санационные сторонники, так и "левая фракция" санаторов. Эта последняя, правда, националистическим мейнстримом была в сильной степени сдвинута на обочину, ослаблена и даже притеснена, потому – несмотря на поддержку Запада – и не сыграла в выборах преемника Верховного Вождя какой-то выдающейся роли.
В 1950 году не удалось и то, что удалось Рыдзу на волне послевоенного энтузиазма – соединить в одних руках должность президента и Верховного Вождя. В результате фракционных конфликтов и необходимости поиска компромисса оба этих поста – как и перед войной – были разделены. И, как легко предугадать, обе эти должности начали обрастать отдельными коалициями. У этих коалиций интересы отличались все сильнее, и таким вот образом в Лагере Национального Объединения начала образовываться еще более глубокая пропасть.
МЕНЬШИНСТВА И ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Но пока что в параллельном мире паршиво не было. Разделение слишком уж централизованной власти произвело на Западе хорошее впечатление, равно как и громкие обещания серьезных реформ. Власть начала обещать проведение диалога с украинцами, немцами и мальгашами.
Только вот украинцы никакой охоты на диалог не имели. Во всяком случае, не все: националистические организации успешно терроризировали всех тех, которые имели. Украинцы в Восточной Малой Польше очутились в ситуации, которой нельзя было позавидовать. Националисты наказывали их за нежелание сотрудничества, а польские власти – за сотрудничество с сепаратистами. Многие, которым все это осточертело, хотело выехать. Польские власти заметили шанс ослабления украинского элемента и организовали переселенческие акции, хотя те были довольно-таки квелыми. Направлений было три: Восточная Пруссия (хотя и были опасения относительно избыточной концентрации в данном месте стихии, враждебной Польше, в связи с чем способной пойти на сотрудничество с немцами или литовцами); Мадагаскар (хотя тут уже мало кто давал себя обмануть) или же Нижняя Силезия с Поморьем, то есть Генеральный Протекторат.
Только вот ситуация в Генеральном Протекторате усложнялась.
После продолжавшемся на этих территориях более половины декады польском владении под девизом "чего хочу, того и ворочу", немцы, выехавшие из Протектората и оставшиеся там, при каждой возможности на международных встречах описывали притеснения, которые они получали со стороны поляков. Эти немцы требовали изменения статуса своих регионов на такой, которым пользовались, хотя бы, Лужица или Мекленбург-Брандербург. А было бы еще лучше, если бы оккупант поменялся на более, как они сами это высказывали, цивилизованного. И уж наверняка – прекращения направляемой из Польши эмиграции на эти земли.
Вроцлав и Щецин, региональные столицы, сохранили свой немецкий характер, хотя кое-где уже начали появляться малюсенькие польские деловые предприятия и анклавы. Сами поляки не слишком стремились к заселению немецких, враждебных им метрополий, провинциальных городов это тоже, практически, не касалось. В связи с отсутствием более решительной поддержки со стороны государственного аппарата – блокируемого предупреждениями со стороны Запада – мало кто решался на выезд в Протекторат.
Польские планы "подкожной" полонизации этих территории завершались пшиком. Польская soft power[73]73
Мягкая сила (англ. soft power) – форма внешнеполитической стратегии, предполагающая способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», которая подразумевает принуждение. По словам введшего этот термин американского политолога Джозефа Ная, язык и культура страны – это «мягкая сила», которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую, или косвенно, на мировую политику и деловые связи. Впервые термин ввел в оборот профессор Гарвардского университета Джозеф Най в своей книге 1990 года Bound to Lead The Changing Nature of American Power. Одной из предшественниц концепции «мягкой силы» была концепция "культурно-идеологической гегемонии", которая была разработана итальянским философом Антонио Грамши в 1930-х годах в «Тюремных тетрадях». Она получила широкое распространение в кругах западноевропейских и американских неоконсерваторов. – Из Википедии
[Закрыть] была слишком слабой, так что без того, чтобы не выбросить всех немцев за Одер и Нейссе, а на их место завести поляков, концепция была попросту невозможной. Все правильно, общегерманская экономика была сломлена, малые германские «государства» находились в состоянии бедности, но Польша была не в состоянии экономически интегрировать вокруг себя «свою» часть Германии. Она ведь и сама только-только встала на ноги, и рост ее благосостояния сильно зависел от финансового допинга. О польской культуре, до сих пор считаемой в Германии чем-то низшим по отношению к немецкой культуре, нечего было и говорить. Всеобщее презрение немцев к ней походило всеобщее презрение, которое поляки испытывали к русской культуре во времена советского доминирования в реальной истории. Немногие польские поселенцы, которых потом их немецкие соседи начинали ненавидеть, выезжали в Пруссию. Польская пресса вопила, требуя уважения к «тысячелетним правам» Жечипосполитой и «расправы» с немцами, только у правительства не было пространства для маневра. Выселить немцев оно не могло хотя бы потому, что в Варшаве прекрасно понимали, что столь радикальная акция изменила бы отношение к Польше: теперь она уже не была бы стражем мира в регионе, но его разрушителем, и – что за этим следует – Польше могли бы отказать в дружбе и предоставлении помощи. И ситуация становилась более грозной, поскольку теперь исправить отношения с Западом начал стремиться и Советский Союз, который в Европе, не столь пострадавшей от тотальной войны, не вырастил таких когтей и клыков, которые вырастил в реальной истории. Кроме того, у Польши была масса проблем с украинцами и начинающими все громче требовать своих прав белорусов (не говоря уже про несчастный Мадагаскар), чтобы рисковать конфликтом на своей западной границе.
Потому-то в начале пятидесятых годов, что как раз совпало с занятием должности новых Верховным Вождем, было объявлено о торжественном завершении протектората и заявлено о создании двух независимых государств: Нижней Силезии и Поморья. Эти государства обязывались защищать польское меньшинство (местные поляки, чувствуя предательство со стороны польской державы, массово выезжали оттуда) и оставаться под польской оккупацией, точно так же, как Лужица и Брандербург-Мекленбург.
За западной границей давно уже были заброшены бесплодные мечтания о "повторной славянизации", построенные на волне послевоенного энтузиазма к польской державности. "Поощряемые" к принятию славянской тождественности немцы не до конца были в состоянии понять, что поляки имеют в виду, и в чем тут вся штука с этим Краем Вендов. Ведь никто из них, сколько ни жил, живого венда в глаза не видел. В Лужице все давно уже понимали, что творится, только лужичанам польское управление нравилось приблизительно так же, как и местным немцам.
Варшава перестала финансировать вендийские дома культуры, прессу и культурные мероприятия, поддерживающие несуществующий этнос, а в Лужице ограничились чисто символическим культурным присутствием. Перестали вспоминать о строительстве новой, громадной столицы лужичан в Хотебусе или Будышине. Польское присутствие в четырех восточно-германских государствах ограничилось военным присутствием и очень сильным вмешательством в политику этих "стран". И еще, last but not least, к заботе о том, чтобы Нижняя Силезия, Поморье, Лужица (немцы не пользовались эти названием, предпочитая «Саксонию») и Бранденбург-Мекленбург не начали уж слишком тесного сотрудничества между собой. Равно как и со странами других оккупационных зон.
Но подобная ситуация приводила к тому, что Польша была отрезана от Запада обширными территориями, жители которых ее не обожали. Понятное дело, что железные дороги свободно обеспечивали обмен с Европой через Германию, все пользовались и германскими автострадами, тем не менее, тот Запад, что был более-менее дружественным в отношении Польши, к которому Польша тянулась, отодвинулся от нее на несколько сотен километров.
Как ездили через Германию? В прессе появлялись репортажи по этой теме:
Наш экспресс «Варшава – Париж» приближается к границе Поморья. Здесь еще, на основе отдельных договоров, железнодорожная трасса проходит экстерриториально, так что поморские чиновники и таможенники в вагон даже и не заходят – одни только наши. Проверяют паспорта, салютуют ладонью. Немцы появляются только лишь на границе Бранденбурга. Они холодные и неприятные, лают в наш адрес короткие, прерывистые предложения, как будто к своим собакам обращаются. Долго проверяют паспорта и обыскивают сумки, цепляясь к каждой мелочи. Со мной едут инженеры и помещики с самыми изысканными манерами (мы едем на парижскую выставку), но даже они, стиснув зубы, должны сносить эту немецкую спесь, тем более жесткую, что это единственный вид спеси, который немцы способны в отношении нас проявить. Представление завершается, штампы ставятся, и поезд проезжает через Берлин. Здесь стоянка, несколько минут, чтобы распрямить кости. Мы хотели сойти в закусочную на перроне, чтобы попробовать знаменитые берлинские колбаски, но тут же, непонятно жаже откуда, появился визжащий полицай. Из его воплей мы поняли, что он требует предъявить визы – тогда мы показали свои паспорта. – Это только транзитная виза! – рявкнул он и загнал нас назад в вагоны.
Едущие вместе с нами немцы глядели на нас с превосходством и презрением. Это можно было вычитать в их глазах – а может это у нас уже паранойя начиналась. Во всяком случае, вскоре за Берлином имелась очередная граница. Снова вошли брандербуржцы. Они спрашивали, не везем ли мы какую-нибудь контрабанду. «Да что мы могли бы везти контрабандой, – возмутился сопровождавший меня инженер Y., – если нам на границе не разрешили дурацких колбасок купить!». Таможенники тут же облаяли инженера, крича, чтобы тот не был таким умным, поскольку это не они выдумали здесь границу, а только поляки. После тщательнейшего обыска и проверки документов под свет и с лупой они ушли. Но через минуту со злобными усмешками появились ганноверцы. «Эх, вздохнул едущий с нами пожилой помещик, виленский зубр, – ганноверцы еще раз придут на ганноверско-рейнландской границе, потом рейнландцы, еще раз рейнландцы на рейнланд-французской границе, а потом уже только французы – и уже Париж».
ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ В РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ТАК И НЕ
СЛУЧИЛИСЬ
Помещичество, которое пережило войну практически в ненарушенном состоянии, было весьма любопытным явлением в спасенной Польше; они были элементом, который в Третьей Республике полностью отсутствовал. Можно сказать, что оно представляло собой единственную вещь, которая смогла бы преодолеть польский стереотип на Западе и выйти за пределы схемы представления «холод-грязь-нищета». Польские помещики, с одной стороны, бывали раздражающе консервативными и тупыми, но с другой стороны – их общество отличалось какой-то фантазией, шиком, стилем и классом, уверенностью в себе и относительным отсутствием комплексов. А еще – они обладали просто зрелищным и привлекательным стилем жизни. Александр Ват[74]74
Алекса́ндер Ват (настоящая фамилия Хват, польск. Aleksander Wat, Chwat; 1 мая 1900, Варшава – 29 июля 1967, Париж) – польский писатель, поэт, переводчик; один из создателей польского футуризма. – Википедия
[Закрыть] в На моем веку рассказывал Чеславу Милошу[75]75
Че́слав Ми́лош (польск. Czesław Miłos) 30 июня 1911, Шетени, Ковенская губерния, Российская империя – 14 августа 2004, Краков, Польша) – польский поэт, переводчик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 года, праведник мира. – Википедия
[Закрыть], что в качестве модели жизни польских помещиков во Второй Республике брали различные слои населения – от чиновничества до богатых селян. И хотя доходы от имений уже не были такими уж огромными, помещики все так же подпитывали ряды государственной администрации, они же занимались бизнесом, словом – они являлись «образчиком» поляка и символ польского этоса[76]76
Этос– (от др. греч. ethos обычай, нрав, характер) совокупность стойких черт индивидуального характера. – Философская Энциклопедия
[Закрыть], к которому все повсюду стремились. Обогащающиеся предприниматели, поднимающиеся по лестнице должностей чиновники приобретали крупные земельные владения и старались установить и поддерживать отношения со своими благородными соседями, то есть войти в ту «структуру имений» – сеть, на которой была растянута давняя Жечьпосполита.
Понятное дело, что с общественным подъемом рабочих и селян, то есть, вместе с образованием низшего среднего класса, вместе с тем, как он начал шире принимать участие в публичной жизни, представление о поляке, его "имидж" менялись. Случился тот самый процесс, что и в Великобритании: сейчас англичанин уже не ассоциируется с джентльменом в котелке, но с покрытым татуировками докером или пьяным туристом. Но помещики как класс были элементом, пряжкой, объединяющей польский элемент, придающей ему довольно привлекательную форму.
И как раз этой вот формы совершенно не хватило в реальной истории. Ведь социализм, желая уравнять всех граждан, ликвидировал класс, который над этим усредненным значением возвышался, и который не без причины был назван "паразитирующим". Но, хотя в ПНР в общественном плане возвысились действительно широкие слои населения, а дети безграмотных крестьян становились академическими преподавателями, ликвидация этого вот образцового, этосного класса привела к тому, что "польский элемент" утратил единственную как зрелищно привлекательную, так и оригинальную форму, к которой можно было ссылаться в процессе создания национальной тождественности.
В альтернативной истории помещичество выжило. Молодые шляхтичи, уже не имея занятий на селе, перебирались в города, где находили занятия в официальной сфере или бизнесе, заводили юридические канцелярии или врачебные кабинеты. А еще они вели светскую жизнь, в которую желали включиться многие из низших классов. Сохранилось и довоенные горожане, что привело к тому, что наплывающим из провинции в города "новым горожанам" было от кого учиться пользованию городским пространством, в связи с чем, ее разложение и варваризация не произошли в столь гигантских масштабах, как в реальной истории (в особенности, под конец ХХ века).
Приличную часть городских жителей составляли горожане еврейской национальности, и хотя их более обеспеченные слои были сильно полонизированы, а многие евреи выехали в Израиль, так называемая польская проблема в Республике время от времени поднималась. Антисемитские параноидальные высказывания вс так же существовали в публичном пространстве, и чем чаще правые боевики мешали евреям в нормальном общественном функционировании, тем сильнее становилось несогласие евреев с подобным положением вещей. На варшавских Налевках, в краковском Казимире, в Вильно, Люблине, Радоме, во Львове и в других местах, где проживали крупные скопления бедных евреев, начало зарождаться интеллигентское движение национальной эмансипации. Только в его рамках никто не призывал к эмиграции из Польши. Наоборот. Здесь выдвигались требования равноправия еврейского народа с польским народом. Это движение через какое-то время преобразовалось в организацию, называющуюся "Евреи Жечипосполитой", сокращенно "ЕЖ".
На территории Республики живут не одни только поляки, - провозглашали предводители этого движения на митингах. – Уже более тысячи лет здесь живут евреи, к тому же осознающие свою национальную тождественность. Тысячу лет! А как долго польскую национальную тождественность имеет польский мужик? Пятьдесят лет? Сто? Да пускай и двести! Действительно, польский элемент, «польскость» существовала на этих землях задолго до появления национальной тождественности, но раньше здесь проживали и германцы, и кельты, и другие народы, имен которых мы и не знаем. О чем это свидетельствует? Да о том, что каждый когда-то откуда-то прибыл. И то, что именно поляки создали на этой земле государственные структуры, не означает, что мы в рамках этих структур обязаны отрекаться от собственной тождественности, точно так же, как и то, что государственные структуры не так давно создавали здесь русские, немцы и австрийцы, только это никак не означало, будто бы поляки должны были бы отречься от собственной тождественности. Потому мы сражаемся лишь за то же, за что сражались поляки – чтобы мы могли бы быть сами собой на нашей собственной земле, ибо, да, поляки, это ведь и наша земля! Не только ваша, но и наша! Пейзажи, которые воспевают ваши поэты, это ведь и наши пейзажи, и их воспевают еще и наши поэты! Наши поэты пишут о тех же самых гибких ивах, о тех же полях, расписанных хлебами, о той же самой Висле, о тех же самых деревеньках, о тех же самых городах! Это не одна только ваша земля, и тут вы обязаны с этим согласиться! Мы имеем на нее точно такое же право! И мы имеем точно такое же право разговаривать на ней на нашем собственном языке, и уже если вы, поляки, говорите: учите в школах наш язык, то мы отвечаем: хорошо! Только тогда и вы учите наш язык!
Часть полонизированных евреев с враждебностью отнеслись к ЕЖ, что это движение вредит и так уже расшатанным польско-еврейским отношениям. Но какая-то часть, в особенности молодежь – над которой издевались в школах за их еврейскость, к которой сами они не сильно испытывали привязанность – сейчас заметила, что за ними стоит организация, громко высказывающая то, о чем сами они думали исключительно тихонечко. И поэтому такая молодежь вступала в ряды этого движения.