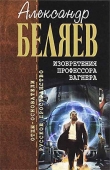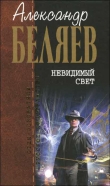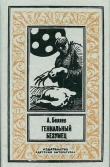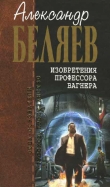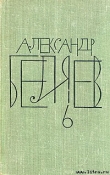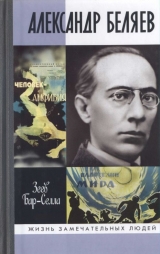
Текст книги "Александр Беляев"
Автор книги: Зеев Бар-Селла
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
«– При каждой эвакуации часть лошадей оставалась брошенной на произвол судьбы. Они уходили в леса и здесь быстро дичали».
То есть со второй фразой все в порядке: лошади действительно уходили и дичали. Непорядок в первой фразе, точнее в одном слове:
«…при каждойэвакуации»!
Дело в том, что до 1920 года все армии, оставлявшие Крым (большевики в 1918 и 1919 годах, немцы в 1918-м, белые в 1919-м), уходили с полуострова по суше. Понятно, что бросать лошадей и передвигаться на своих двоих никому бы и в голову не пришло. А немцы вообще проводили плановую эвакуацию по железным дорогам, забрав с собой в эшелоны абсолютно все движимое имущество, включая лошадиный контингент.
И лишь однажды распорядок действий был нарушен:
«На пристани дым коромыслом. Давка увеличивается. Между людскими толпами уныло бродят всеми покинутые лошади, чувствуя близкую гибель от голода и жажды» [188]188
Калинин И. М.Под знаменем Врангеля // Белое дело. Избранные произведения: В 16 кн. Кн. XII: Казачий исход. М., 2003. С. 230 (1-е изд.: Калинин И. М.Под знаменем Врангеля: Записки бывшего военного прокурора. Л., 1925).
[Закрыть].
Это Керчь. Ноябрь 1920-го… Грузятся на корабли все три казачьих полка 3-й Донской дивизии.
А вот отступает к Севастополю Дроздовская дивизия. На ее пути —
Еще один крымский порт, еще один очевидец:
«…казаки… [с]о слезами на глазах… прощались со своими боевыми конями, целовали их и, перекрестившись, шли к пристани. Другие старались не смотреть в глаза своих любимцев, чувствуя себя виноватыми. Некоторые кони инстинктивно чувствовали предстоящую разлуку и пугливо поводили ушами, сиротливо озирались и жалобно всхрапывали. „Эх, Васька! Вывозил ты меня из беды. Пятьдесят красноармейцев на тебе я зарубил, а теперь оставляю тебя для этой сволочи, – сокрушался один казачий офицер, снимая седло и уздечку. – Смотри, брат, – не вози красного, сбей его с седла, как сбивал ты всякого, пока я не овладел тобой. Прощай, Васька!“» [190]190
ГАРФ. Ф. 5935. Оп. 1. Д. 12. Л. 2 (см.: Ушаков Л. И., Федюк В. П.Белый Юг: ноябрь 1919 – ноябрь 1920. М., 1997. С. 87).
[Закрыть].
И, наконец, всё вместе: очевидец, Крым, кони и литература – стихи Николая Туроверова, написанные 20 лет спустя в Париже:
Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы.
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо.
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.
Только тогда, в ноябре 1920 года, садившиеся на суда кавалеристы бросили на берегу своих верных коней. И Беляев описал именно это событие. Ну а если в Крыму установилась советская власть, то большевику прятаться от нее в горных трущобах никакой нужды не было. И, значит, загнанный беглец Бойко мог быть только белогвардейцем!
Попутно решается еще одна загадка: кто такой «Петр»? Вот подробное описание его внешности и места обитания:
«…у правой стены, в небольшой выемке, находилась кровать, сделанная из сучьев, покрытая мхом и сухими листьями. Серый, изорванный кусок материи – быть может, остатки шинели – служил одеялом. У изголовья кровати стояла винтовка. Старый шомпол был воткнут в расщелину скалы над костром. На шомполе висел солдатский котелок. Обитатель пещеры, несомненно, имел отношение к армии. Но какой армии: красной или белой? Был ли он, так же, как Бойко, случайно оторван от своих и отсиживался здесь в ожидании перемены, бежал ли с фронта, как дезертир, или, быть может, это был просто бандит, выходивший из своих лесов в смутные дни безвластья, чтобы пограбить, и, как зверь, скрывавшийся в свою нору, когда власть – для него все равно какая – восстанавливала порядок?..
Бойко пытался разрешить этот вопрос, изучая внешность хозяина пещеры.
У него было грубоватое, обросшее рыжей бородой лицо, сонные, небольшие глаза. <…> Если сбрить эту бороду, оставить усы, то такое лицо можно встретить среди старых армейских капитанов».
Тайна личности «Петра» раскрывается просто: он не красный, не белый – он зеленый!
Прозвали их так оттого, что жили они в лесу. А в лес их привело сильнейшее нежелание становиться на любую из сторон – большевиков или белогвардейцев. Хотели же они только одного – мирной спокойной жизни. А поскольку мира и покоя им не дали, они воевали и с красными, и с белыми.
Покончить с зелеными большевикам удалось лишь через два года после захвата Крыма – в конце 1922-го…
Вот такой рассказ вышел из-под пера Беляева. Но написать – это одно, а напечатать совсем другое. Понятно, что признаться в сочувствии к белякам редакция «Всемирного следопыта» не собиралась. И заставила автора выдать белое за красное. Что тот с грехом пополам и сделал…
А теперь несколько слов о подзаголовке – «Необычайные приключения подпольщика».
«Подпольщиком» называется не тот, кто сидит в подполе, а тот, кто ведет подпольную борьбу. Бойко же потерял сознание еще при советской власти и, придя в себя, вначале прятался, а потом сбежал, чтобы спрятаться получше… Так что, скорее всего, глупейшим подзаголовком мы обязаны редактору – решил подстраховаться на случай, если у какого-то читателя еще не отшибло историческую память…
Глава двенадцатая
НОВАЯ МОСКВА
Итак, в начале 1923 года Беляев приехал в Москву. До того он бывал здесь неоднократно – каждая поездка из дома в Демидовский лицей и обратно приводила его на Северный (Ярославский) вокзал. О баррикадах в декабре 1905-го и напоминать не стоит. Но нынешний приезд не был похож ни на один прошлый – впервые Беляев вознамерился стать москвичом. Да и Москва была уже мало похожа на знакомый Беляеву город. Теперь это была столица России. Суетливая, нелепая, даже отвратительная, но новая Москва.
В новой Москве и хотел Беляев начать новую жизнь…
Он даже не понял, как сказочно ему повезло: без мытарств, беготни и унижений получил в полное свое распоряжение то, что в тогдашней Москве составляло высшую меру измерения жилых помещений – комнату!
И совсем скоро принимал в этой комнате приехавшую из Ялты жену. А когда она приехала, обладатель московской жилплощади оказался еще и трудоустроен: работал в Наркомпочтеле – Народном комиссариате почт и телеграфов. Дочь полагала, что он работал там плановиком [191]191
Беляева С. А.Звезда мерцает за окном… С. 328.
[Закрыть]. Поверить в такое трудно. Плановик занят разработкой производственных планов, составлением смет, проверкой эффективности использования вложенных средств… То есть именно тем, в чем у Беляева специальных знаний и навыков не было напрочь. Поэтому гораздо более убедительным выглядит сообщение вдовы о том, что в Наркомпочтеле Беляев служил юрисконсультом [192]192
Беляева М.Указ. соч. С. 80.
[Закрыть].
Мы помним неоднократные заявления Беляева о том, что никакой тяги к занятиям юриспруденцией он не испытывает, и были свидетелями его удавшихся попыток переменить род занятий. Речь, понятное дело, идет не об угрозыске, а о журналистике.
Беляев и на этот раз остался верен себе. Наркомпочтель издавал ведомственный журнальчик – «Жизнь связи» (с 1924 года – «Жизнь и техника связи»), и Беляев немедленно с ним подружился. Едва успев приступить к работе в наркомате, он принес в редакцию первую статью – пока в рамках своих служебных занятий: о юридических аспектах международных почтовых связей СССР. Статья была подписана одной буквой: Б, [193]193
Б.Положение внешних почтово-телеграфных сношений С.С.С.Р. // Жизнь связи. 1923. № 2(5). С. 117–123.
[Закрыть]До конца 1923 года за такой же подписью журнал напечатал еще несколько статей, но утверждать, что их автором был Беляев, мы не можем [194]194
Б.Из прошлого связи. Великобританская почтовая реформа в XIX веке; Воздушное почтовое сообщение в франко-прусскую войну; Происхождение почтового ящика//Жизнь связи. 1923. № 10. С. 131–132; Б.Из прошлого связи. I. Почта до основания Всемирного Почтового Союза. II. Китайская почта. III. Из истории телеграфирования//Жизнь связи. 1923.№ 11.С. 117–120. Однако статья из той же серии, опубликованная в декабрьском номере (Из прошлого связи. 1. Кто изобрел телефон? 2. Городская почта в старину // Жизнь связи. 1923. № 12. С. 95–97), была подписана: Бочаров.Не принадлежит Беляеву и статья «К вопросу о нашем доходе в 1923–1924 году» (Жизнь связи. 1923. № 9. С. 28–30) за подписью А. Б.Автором ее несомненно являлся сотрудник Статистического отдела НКПТ А. Барон, в 1923 году опубликовавший в том же журнале еще несколько статей и рецензий.
[Закрыть].
Но в 1924 году Беляев становится постоянным участником журнала и, прежде всего, автором публикуемой в каждом номере статьи с ответами на письма читателей «О чем нам пишут». Подписаны эти статьи то аббревиатурами (А. Б.; А. Б-ев),то полным именем – А. Беляев.Поскольку, кроме дежурной статьи о переписке с читателями, он заполнял журнал информационными заметками, полемическими статьями и рецензиями (пользуясь и псевдонимами: Романыч, Романов, Ал. Ром.),можно с полной уверенностью заключить, что какими бы ни были первоначальные служебные обязанности Беляева, год спустя основным полем его деятельности в Наркомпочтеле стала журналистика.
А раз в год Беляеву позволяли печатать и что-нибудь художественное: в 1924–1926 годах по рассказу [195]195
В киргизских степях (Рассказ начальника Округа) // Жизнь и техника связи. 1924. № 3. С. 76–82; Три портрета // Жизнь и техника связи. 1925. № 11.С. 120–126 (Подпись: А. Ром);Страх //Жизнь и техника связи. 1926.№ 11. С. 57–61 (Подпись: А. Ром).
[Закрыть], а в 1927-м – целый роман [196]196
Радиополис (Научно-фантастическая повесть) // Жизнь и техника связи. 1927. № 1–8/9.
[Закрыть]. Естественно, не абы о чем, а по профилю журнала – почтовики и связисты в прошлом, настоящем и будущем.
Прикоснулся Беляев в Наркомпочтеле и к театральному искусству. Появилась в 1923 году такая вещь «Синяя блуза» – агитационная эстрадно-театральная группа, пропагандирующая революцию и революционное искусство. Началось всё в Московском институте журналистики на базе «живой газеты» представления новостей в лицах и телодвижениях – и распространилось, как дурная болезнь. Столько их стало, что понадобился им даже свой особый гимн:
Мы синеблузники, мы профсоюзники —
Нам всё известно обо всём,
И вдоль по миру свою сатиру,
Как факел огненный, несем.
Мы синеблузники, мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи —
Мы только гайки в великой спайке
Одной трудящейся семьи…
Поветрие не обошло стороной и Наркомпочтель, где живгазета «Синяя блуза» инсценировала беляевский рассказ «Три портрета» и получившееся либретто напечатала в той же долготерпеливой «Жизни и технике связи» (1927. № 11. С. 185–195). Надо думать, что в постановке – советом и делом – принял участие и автор…
Приходилось, впрочем, заниматься и менее веселыми делами. За время, проведенное в Наркомпочтеле, Беляев выпустил две книги служебной тематики. Первая – «Современная почта за границей» – вышла в 1926 году, и в предисловии автор скромно назвал ее брошюрой. Но «брошюра» эта насчитывала 184 страницы, так что скромность здесь явно не к месту. Как и было обещано, в книге подробно описывалась организация почтово-телеграфного дела за рубежом. Единственный развлекательный элемент в сухое изложение вносили многочисленные фотографии, как этнографического свойства – лодка-сани шведских почтальонов, воловья, верблюжья и речная (на плоту из высушенных тыкв) почта в Индии, письмоносцы в снегах Тибета, – так и демонстрирующие новейшие способы доставки писем: почтовые аэропланы и дирижабли, подземные почтовые электромагистрали, киоски-автоматы для наклеивания марок, сами ставящие штемпель на конверт…
Вторая книга вышла с опозданием – в 1928 году (на обложке указан 1927-й). Книга необычная, поскольку авторского текста, за исключением предисловия, вообще не содержит. Называлась она «Спутник письмоносца: Элементарное практическое руководство по справочной службе почтовика».
Из предисловия же выясняется, что на самом деле имелся в виду не каждый почтовый работник, а исключительно сельский представитель почтового ведомства. Поскольку «с первых же дней появления письмоносца на селе крестьяне начали обращаться к нему за различными справками». Вопросы задавались самые разные – политические и хозяйственные, бытовые и юридические.
Что касается политики, то «в этой области крестьянин интересуется как внутренним, так и международным положением, вопросом о войне, о нашей подготовке к ней, что хочет оппозиция и в чем ее разногласия с партией».
Казалось бы, дать нужный ответ на такие вопросы куда как непросто.
Но это только кажется – чтобы не попасть впросак, «стоит только внимательно и регулярно читать газеты, в особенности „Правду“ – здесь можно найти ответ на любой запрос».
«К вопросам бытового характера, – продолжает Беляев, – относятся вечные споры о земле».
Например: «Кто имеет право на пользование землей?»
Имеет ли право на землю грузин? Инвалид? Старик 60 лет? Цыган?
«Иногда задают очень сложные и трудные вопросы. Даже хорошо изучив все законы, на них бывает трудно ответить. По иному запутанному делу даже сами судьи затрудняются дать ответ и ошибаются. <…>
Например, вас спрашивают, как поступить: крестьянин женился и вошел в двор родителей жены. Жена скоро умерла, с родителями же он не ладит („тесть выгоняет“).
Не отвечайте „вернись во двор родителей“, или – „требуй раздела двора“».
И Беляев предостерегает: «Судебные и земельные дела столь сложны, что превращать письмоносца в „аблаката“ было бы скорее вредно, чем полезно».
Поэтому основное содержание книги – подборка законов, касающихся всех сфер сельской жизни (от брачного права до призыва в армию), – выглядит после такого предупреждения не совсем серьезно. Истолковать закон и определить область его применения может адвокат, а не почтовик, у которого юридических познаний не больше, чем у крестьянина.
Так что стремление позволить почтовым служащим (вослед знаменитому телеграфисту Ятю) образованность свою показать принесло, наверное, больше вреда, чем пользы…
Но кроме служебной существовала и жизнь личная. А здесь идиллия – жилищная – скоро закончилась. Беляевы, как и рассчитывали, поселились у Нины Яковлевны Филипповой. Но мужа ее перевели в Ленинград, и в квартиру вселились новые обитатели – сотрудники НКВД. Первый был женат и до соседей ему дела не было. Зато второй – холостой – принялся Маргариту терроризировать. И добро бы приставал. Такое хоть можно если не извинить, то понять… Нет! Он запретил ей пользоваться кухней и вообще отравлял жизнь, как умел. В конце концов, видя, что намеков интеллигенты не понимают, он прямо заявил, что пора им из квартиры убираться. А если будут артачиться, доложит куда надо, что квартира эта конспиративная и того гляди из-за Беляевых все явки будут провалены…
Потрясенная Маргарита лишь с недоумением смотрела на мужа, который вел себя так, как будто все происходящее его не касается. Потом Маргарита догадалась, что Беляев был просто парализован страхом. Тем не менее через одного нового знакомого, которого Беляев натаскивал по политграмоте (Маргарита называла его «политработником»), удалось снять другую комнату и избавиться от опасного соседства. Комната, по словам Маргариты, была ужасной, но именно здесь, в доме 14 по Лялину переулку, 15 марта 1924 года у Беляева родилась первая дочь – Людмила.
Что не помешало Беляеву полгода спустя добиваться встречи с Верой Былинской. Вот только вышедшая замуж Вера на предложение не ответила… Семья была сохранена.
Глава тринадцатая
ТРИ ГОЛОВЫ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ
Совсем недавно – до выхода этой книги – фантастику Беляева отсчитывали с рассказа «Голова профессора Доуэля». А вот относительно того, где впервые рассказ появился, единодушия почему-то не было…
Сам А. Беляев утверждал, что «„Голова профессора Доуэля“ была… напечатана в 1926 году в журнале „Всемирный Следопыт“» [197]197
Беляев А.О моих работах. С. 23.
[Закрыть].
Но 45 лет спустя дочь писателя уверенно заявляла:
«В газете „Гудок“ стал печататься с продолжением его первый рассказ „Голова профессора Доуэля“» [198]198
Беляева С. А.Звезда мерцает за окном… С. 329.
[Закрыть].
Еще через полтора десятка лет, в статье «Старт дает „Гудок“», сухая эта информация расцветилась художественными подробностями: пришел, мол, в редакцию «Гудка» не старый еще, близорукий человек, и приняли его на работу рядовым сотрудником. С робостью смотрел он на веселую, талантливую и зубастую молодежь – Илью Ильфа, Юрия Олешу, Евгения Петрова… А потом, глядя на них, взял и написал свой первый рассказ – «Голова профессора Доуэля»… И газета его напечатала! Тогда-то все и увидели, что кроется за скромным обликом рядового сотрудника… [199]199
Петров А.Старт дает «Гудок» // Гудок. 2002. № 233. 21 декабря. С. 6.
[Закрыть]
Итак, рассказ Беляев написал сам. Отчего ж тогда главную заслугу в этом деле заголовок статьи возлагает на газету «Гудок»?
А это один из самых стойких литературных предрассудков: советская литература дело не одиночек, а коллектива. Данную же конкретную легенду изобрел Виктор Шкловский еще в 1933 году. Предметом его разбора стала так называемая «южнорусская школа», то есть писатели, родившиеся в Одессе и перебравшиеся в Москву. Вот Шкловский и придумал, что своим творческим взлетом все эти ильфы-петровы-олеши обязаны совместной работе в редакции газеты «Гудок». Там они правили малограмотные заметки рабкоров, а, значит, сами учились писать. И, в конце концов, научились [200]200
Шкловский В.«Юго-запад» //Литературная газета. 1933. № 1. 5 января.
[Закрыть].
В 1950-е годы легенду эту подхватил Константин Паустовский, а потом она стала общим местом. В конце 1960-х с ней чуть было не покончил Аркадий Белинков, опубликовав в журнале «Байкал» несколько глав из книги о Юрии Олеше [201]201
Белинков А. В.Поэт и толстяк// Байкал. Улан-Удэ. 1968. № 1–2.
[Закрыть]. Там Белинков наглядно показал, что если в «Гудке» писателю что и светило, так это только писать разучиться. Но эти номера журнала из библиотек сразу изъяли, главного редактора уволили, а Белинков оказался в эмиграции. И легенда устояла…
Однако самое смешное это, пожалуй, то, что Беляев в «Гудке» никогда не работал. Ни одного дня! Более того, и рассказа своего в «Гудке» не печатал!
На самом деле первым «Голову профессора Доуэля» опубликовал «Всемирный следопыт» – в марте и апреле 1925 года [202]202
Всемирный следопыт. 1925. № 3. С. 17–27; № 4. С. 24–31.
[Закрыть]. А затем рассказ стал печататься в «Рабочей газете». Странное издание: по формату и качеству – заводская многотиражка, а подзаголовок оглушительный: «Орган Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)»! Публикация растянулась почти на месяц [203]203
Рабочая газета. 1925. № 134–152. 16 июня – 7 июля.
[Закрыть]. И тогда стало ясно: в журнале рассказ был напечатан в сокращенном виде.
После чего Беляев еще раз и полностью издал «Голову профессора Доуэля» в одноименном сборнике [204]204
Беляев А.Голова профессора Доуэля. С. 5—76.
[Закрыть].
А в 1937 году рассказ был переделан в роман и снова трижды опубликован – на этот раз в Ленинграде: в 1937-м – в комсомольской газете «Смена» (февраль – март) и в журнале «Вокруг света» (№ 6–12), а в 1938-м – отдельной книгой в издательстве «Советский писатель».
Однако и с романом дела обстоят совсем не просто… Потому что написан он был не в 1937 году, а гораздо раньше. Сам Беляев в этом признавался!
«Советская научная фантастика неизбежно должна была пройти стадию ученичества у западно-европейских мастеров. Естественно, мы должны были овладеть и стандартными формами. „Голова“ и отражает этот период. И наиболее печальным в анахронизме я нахожу не то, что книга в виде романа издана теперь, а то, что она только теперь издана.В свое время она сыграла бы, конечно, большую роль: ее недостатки и достоинства сослужили бы большую службу» [205]205
Беляев А.О моих работах. № 5. С. 24.
[Закрыть].
Мало того – оказалось, что эта третья, написанная в 1928 году и никому не известная «Голова профессора Доуэля» не сгорела, не пропала, а существует!
Отчего же до сих пор она пребывала в безвестности? Ответов на этот вопрос как минимум два: во-первых, никто ее не искал, а во-вторых, никто не опознал – в 1928 году название у романа было совсем другим: «Воскресшие из мертвых».
Название это заслуживает самого пристального внимания, но не будем торопиться… Что знали о романе до того, как мы совершили наше открытие? Совсем немного, но это немногое сказано самим Александром Беляевым:
«Могу сообщить, что „Голова профессора Доуэля“ – произведение в значительной степени… автобиографическое. Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать. Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, все же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни „головы без тела“, которого я совершенно не чувствовал: полная анестезия. Вот когда я передумал и перечувствовал все, что может испытать „голова без тела“. Когда я поправился, уже в Москве мне попалась научная статья с описанием работы Броун-Секара (1817–1894 гг.), который делал опыты, еще очень несовершенные, оживления головы собаки. Эта статья и послужила толчком, так как она к личным переживаниям „головы“ прибавила научный материал, на котором мне представилось возможным создать научно-фантастический роман» [206]206
Беляев А.О моих работах. С. 23.
[Закрыть].
Конечно, драматизм биографических обстоятельств – три с половиной года в гипсовой кровати с параличом нижней половины тела – несколько преувеличен (как явствует из письма Вере Былинской, паралич затронул не всю нижнюю половину тела, а только ноги, да и тот через несколько месяцев прошел). Не вполне точен и рассказ о том, что мысль о самостоятельной жизни отдельно взятых частей тела осенила писателя лишь в Москве по прочтении статьи об опытах Броун-Секара… Еще 10 января 1913 года в «Смоленском вестнике» появилась анонимная заметка, в которой рассказывалось о лауреате Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1912 год и его опытах по поддержанию жизнедеятельности отдельных органов, извлеченных из организма [207]207
[Б. п.]Опыты д-ра Карреля // Смоленский вестник. 1913. № 8. 10 января. С. 3.
[Закрыть]. Вполне достаточно, чтобы направить пытливую мысль писателя в нужное русло… Но примечательно и другое: смелый экспериментатор Алексис Каррель (Alexis Carrel)назван в заметке американцем.
И действительно, в предисловии к публикации во «Всемирном следопыте» (оно озаглавлено «От редакции», но принадлежит, несомненно, Беляеву) сказано: «Целый ряд ученых работал над разрешением этой задачи: Гаскель и Эсвальд, Ашов и Тавара, в Америке – Керельи др.» [208]208
Всемирный следопыт. 1925. № 3. С. 17. Лишь в рассказе 1929 года «Амба», где речь снова пойдет об оживлении отделенного от тела мозга, Беляев напишет эту фамилию, как и положено: «Каррель».
[Закрыть].
На самом деле, Каррель, хоть и прожил много лет в США, все эти годы (1905–1941) был и оставался французом. А теперь обратим внимание на странную эволюцию беляевского повествования: в рассказе действие происходит в Америке, а в романе – во Франции! Видимо, приступив к написанию романа, Беляев узнал, что в заметку вкралась ошибка, и поспешил ее исправить.
Но внимание Беляева к Каррелю могло объясняться не только воспоминаниями о газетной заметке 1913 года. Ведь прославился Алексис Каррель не только Нобелевской премией… Слава его была и достаточно скандальной – например, он открыто провозглашал превосходство белой расы и биологическую необходимость уничтожения рас низших, а своим медицинским авторитетом поддержал веру в то, что в Лурде (деревне у подножия Пиренеев) действительно происходят чудодейственные исцеления, о чем объявил в специальной брошюре… Реакция французского медицинского сообщества была соответствующей, оттого-то и пришлось Каррелю оставить Францию и перебраться в США.
Подобное соединение в одном лице ученого-революционера и ярого реакционера позволило превратить одного человека в двух персонажей – ученого-новатора и ученого-преступника. Даже именами своими герои рассказа могли быть обязаны фамилии нобелевского лауреата (как ее запомнил Беляев): Доуэлю досталась вторая половина (Кер– ель), а Керну – первая ( Кер-) [209]209
Нельзя, конечно, забывать и музыку! Друг писателя, Николай Павлович Высоцкий, вспоминал, что тот «охотно играл на рояле сложные пьесы таких авторов, как Скрябин, Мак Доуэльи другие» (Беляева С. А.Воспоминания об отце. С. 36). Имеется в виду американский композитор Edward Alexander MacDowell(1861–1908). Нынешнее русское написание его фамилии иное – Мак-Доуэлл.
[Закрыть]…
«Голова профессора Доуэля», напечатанная в одноименном сборнике, удостоилась и внимания критиков. Первую и весьма пренебрежительную рецензию написал бывший беляевский земляк Константин Локс (1889–1956), ученый секретарь Главнауки при Наркомпросе [210]210
Ершова Т. Л.К. Г. Локс // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 448–449.
[Закрыть]:
«Работа над фантастическим рассказом, в основу которого положена научная гипотеза, чрезвычайно соблазнительна своей кажущейся легкостью и безграничными возможностями. Самое поверхностное знание химии или биологии ныне как будто открывает головокружительные перспективы полетов на соседние планеты, освобождения внутриатомной энергии, воскрешения мертвецов и т. п.
Художественная трактовка подобных событий должна иметь, однако, некоторый смысл, заключающийся или в целесообразно поставленной теме или в самом качестве фантазии автора.
Возможно, кто-нибудь изобрел способ оживлять отдельные части человеческого организма – что же следует из этого? По мнению Беляева – ничего. Так написан его первый рассказ „Голова профессора Доуэля“. Все сводится к тому, что изобретатель стал жертвой своего коллеги, который оживил его собственную голову и заставил ее производить новые научные открытия.
Попав в руки уголовного розыска, предприимчивый профессор, эксплоатировавший (так.)таким необычайным способом мозг своего учителя, стреляется.
По этому поводу несколько сентиментальных мотивчиков. <…>
Что же касается „научных гипотез“ Беляева, то о них можно сказать только одно: научная фантастика не освобождает от законов своеобразного правдоподобия, не менее убедительного, чем обычное, реалистическое. Достигнуть этого можно умелым развитием той или иной возможности науки, которую нужно знать. Этих знаний и этого умения у автора нет, и поэтому его собственные „опыты“ более или менее удачны в тех частях, где изложение построено только на фабуле» [211]211
Локс К. А. БЕЛЯЕВ. Голова профессора Доуэля. Изд. «Земля и фабрика». М.-Л… 1926. Стр. 199. Тир. 4000 экз. Ц. 1 р. 20 к. // Печать и революция. 1926. Кн. 8. С. 200–201.
[Закрыть].
Вторая – чуть более снисходительная – принадлежит перу Сергея Динамова, главного в ту пору эксперта по авантюрному жанру:
«„Голова профессора Доуэля“ – первая книга А. Беляева. Составившие ее рассказы относятся к научно-фантастическому жанру.
Свои темы А. Беляев берет преимущественно из области биологии. В повести „Голова профессора Доуэля“ развивается проблема оживления трупа. <…> Все это, конечно, вещи невероятные, но в научно-фантастическом жанре невероятное кажется таковым лишь тогда, когда оно плохо доказано. Как доказывает А. Беляев свои фантастические предположения? Весьма недурно. Его смелые гипотезы – убедительны, невозможное кажется возможным.
<…> Литературный шаблон тяготеет над А. Беляевым, у него нет крепкой словесной чеканки, стиль его часто напоминает „стиль“ пинкертоновской литературы: „Он ушел взбешенный, осыпая меня тысячью проклятий. Я торжествовал победу“ [212]212
Фразу эту Беляев сохранил в неприкосновенности и в романе.
[Закрыть]и т. п.» [213]213
С. Д. [Сергей Сергеевич Динамов][Рецензия: ] А. БЕЛЯЕВ. Голова профессора Доуэля. ЗИФ. М.-Л., 1926. Стр. 199. Ц. 1 р. 20 к. // Книгоноша. 1926. № 39.С. 28.
[Закрыть].
Ничего более внятного не было сказано и в последующие 80 лет. Разве что с годами смелость беляевской фантазии заслужила всеобщее одобрение, а литературная сторона вообще не подвергалась обсуждению.
А сказать было что… Ну, например, что «Голова профессора Доуэля» – не просто научная фантастика, а один из редчайших в советское время образцов «литературы ужасов» [214]214
Из прочих примеров: «Крысолов» А. Грина (1924) или удивительная повесть Н. Автократова «Серая скала» (1955).
[Закрыть]. И это только то, что бросается в глаза…
А вот то, что в глаза не бросилось – начало главы «Жертвы большого города». Из рассказа 1925 года оно с некоторыми добавлениями перешло в роман 1928 года, где выглядит так [215]215
Вычеркнутое дано в квадратных [скобках]; вставки – жирным курсивом;вычеркнутые вставки – в фигурных {скобках}.
[Закрыть]:
«Спускались сумерки. В лаборатории было тихо. Только воздух с тихим шипеньем вылетал из горла головы. Лоран сидела, опустив свою голову на руки. Вдруг она услыхала голос головы профессора Доуэля.
– Меня преследует одно желание… безумное желание… Я хочу,чтобы вы поцеловали меня…
Лоран вздрогнула и с ужасом посмотрела на голову [216]216
В рассказе фраза «Лоран вздрогнула и с ужасом посмотрела на голову»отсутствует.
[Закрыть].На лице головы появилась страдальческая улыбка.
– Вы поражены?.. Вы не ожидали встретить такого поклонника? Успокойтесь… Это не то… не то, что вы думаете… Я знаю, что я могу возбудить только отвращение. Ожившая голова мертвеца!.. Мое тело давно [в могиле] превращено в пепел…Но поймите меня: нельзя жить одною только мыслью, одним сознаньем… Поймите, что такое вы для меня! Вы молоды, прекрасны. Вас полюбят, и вы будете дарить любимому свои поцелуи. Но никому в мире вы не можете дать своим поцелуем того, что дадите мне! Для меня вы – не только женщина. Для меня вы – жизнь, вся жизнь во всей ее [широте] полноте.Целуя вас, я прикоснусь к жизни, ко всему тому, что доступно вам, ко всему, о чем я могу только безнадежно тосковать. Если вы отшатнетесь от меня, я буду несчастен… Ведь это же не поцелуй страсти! Какая страсть может быть у головы, лишенной тела? Смотрите: мое сердце спокойно бьется в стеклянном сосуде. Оно не может любить. Это – поцелуй-символ. Поцелуй жизни, сияющей, торжествующей, которая пожалела и эту маленькую, гаснущую искорку, что еще теплится во мне… Не дайте мне до конца почувствовать, что я только труп… Сжальтесь надо мной… Поцелуйте меня!..
Во время этой речи Мари, бледная, сидела молча, глядя на голову широко открытыми глазами. Только хруст пальцев выдавал ее волненье. Скорбная складка легла меж[ду] ее бровей. Чувство глубокой жалости боролось в ней с невольным физическим отвращением.
После долгой паузы она медленно встала, подошла к голове… поцеловала… и вдруг коротко вскрикнула и отскочила.
Голова укусила ее [за] губу.
Лоран была так поражена, испугана и возмущена, что почти без сил опустилась на стул.
А глаза головы смотрели на нее печально и серьезно.
– Благодарю вас… благодарю… Не думайте, что я сошел с ума… Это не порыв безумия. Увы! Я долго думал об этом, прежде чем [сдела[ть][л] ть} решиться на это.Видите ли… я ничего, ничего не могу сделать в этом мире живых людей и реальных вещей. И я хотел оставить в этом мире маленький след… след моей воли… и сделать это я мог только так, как сделал… Я буду думать, как с этим знаком вы уйдете домой, будете идти по шумным улицам, среди людей. Может быть, кто-нибудь заметит этот след в том далеком для меня мире, – след, сделанный мной… он подумает о том, что кто-то…
Голова вдруг умолкла и потом прошептала:
– Простите… Это эгоистично, но это было сильнее меня… Может быть, и в самом деле рассудок начинает изменять мне…
Пауза, тяжелая и гнетущая, как после удара в сердце, прекратившего крик жертвы. {[С р] Р асширенными глазами,}[г] Г олова смотрела немигающим [взглядом], жадным взглядом на распу[г] х шую губу.
Вся бледная, с холодны[ит] ми ( sic!)руками сидела [она] Лоран перед головой, не смея поднять глаз. Смутные, тяжелые чувства овладели ею. Возмущение, страх, жалость и отвращение [кричали] боролись во мраке помутившегося сознания. Но голос отвращения звучал громче других. И полусознательно она старалась не выдать этого чувства своим лицом. Зачем обесценивать жертву и отягчать жизнь головы расплатой раскаяния?.. [217]217
В рассказе эти два абзаца – от слова «Пауза…»до слова «раскаяния?..»– отсутствуют.
[Закрыть]По странной логике чувств, неприятное впечатление от поцелуя головы вызвало у Лоран бурю негодования против профессора Керна».
В 1937 году весь этот фрагмент – от первого до последнего слова – был из романа выброшен [218]218
Такая же операция была проделана и при первой публикации рассказа в журнале «Всемирный следопыт».
[Закрыть], и теперь глава начинается прямо со следующей фразы:
«С тех пор как Лоран узнала тайну головы, она возненавидела Керна…»
Можно ли думать, что в 1937 году Беляев уже не помышлял об эротике, тем более столь извращенной (любовь ожившего мертвеца, голова, превращенная в половой орган…)?
Нет, помышлял – удалив из романа один фрагмент, он вставил новый (в главу «Голова заговорила»):
«„Уж не влюблена ли она в Керна и, быть может, безнадежно, без ответа с его стороны?..“ – думала старушка (мать Мари Лоран. – 3. Б.-С.).Но тут же опровергала себя: ее дочь не скрыла бы от нее своего увлечения. И потом, разве Мари не хорошенькая? А Керн холостяк. И если бы только Мари любила его, то, конечно, и Керн не устоял бы. Другой такой Мари не найти во всем свете. Нет, тут что-то другое… И старушка долго не могла заснуть, ворочаясь на высоко взбитых перинах.
Не спала и Мари. Погасив свет, чтобы мать ее думала, что она уже спит. Мари сидела на кроватис широко раскрытыми глазами. Она вспоминала каждое слово головы и старалась вообразить себя на ее месте: тихонько касалась языком своих губ. неба, зубов и думала:
„Это все, что может делать голова. Можно прикусить губы, кончик языка.Можно шевелить бровями. Ворочать глазами. Закрывать, открывать их. Рот и глаза. Больше ни одного движения. Нет, еще можно немного шевелить кожею на лбу. И больше ничего…“
Мари закрывала и открывала глаза и делала гримасы. О, если бы в этот момент мать посмотрела на нее! Старушка решила бы, что ее дочь сошла с ума.
Потом вдруг Мари начала хватать свои плечи, колени, руки, гладила себя по груди, запускаю пальцы в густые волосы и шептала:
– Боже мой! Как я счастлива! Как много я имею! Какая я богатая! И я не знала, не чувствовала этого!
Усталость молодого тела брала свое. Глаза Мари невольно закрылись. И тогда она увидела голову Доуэля. Голова смотрела на нее внимательно и скорбно. Голова срывалась со своего столика и летала по воздуху. Мари бежала впереди головы. Керн, как коршун, бросался на голову. Извилистые коридоры… Тугие двери… Мари спешила открыть их, но двери не поддавались, и Керн нагонял голову, голова свистела, шипела уже возле уха… Мари чувствовала, что она задыхается. Сердце колотится в груди, его учащенные удары болезненно отзываются во всем теле. Холодная дрожь пробегает по спине… Она открывает все новые и новые двери… О, какой ужас!..
– Мари! Мари! Что с тобой? Да проснись же. Мари! Ты стонешь…
Это уже не сон. Мать стоит у изголовья и с тревогой гладит ее волосы.
– Ничего, мама. Я просто видела скверный сон.
– Ты слишком часто стала видеть скверные сны, дитя мое…
Старушка уходит вздыхая, а Мари еще несколько времени лежит с открытыми глазами и сильно бьющимся сердцем.
– Однако нервы мои становятся никуда не годными, – тихо шепчет она и на этот раз засыпает крепким сном».
Начинается с мечтаний матери о любовном увлечении дочери, а продолжается постельной сценой… Ведь поглаживания плеч, колен и груди – не просто способ убедиться в наличии собственного тела, это объятия и ласки. Мари ласкает себя как при любовном соитии. Со стоном в финале.