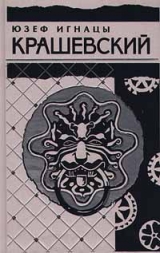
Текст книги "Комедианты"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Положение ротмистра и графини было выше всякого описания… Первый, сбитый с толку хладнокровием мужа, опять не знал, что начать; другая, лишившись чувств для вида, обдумывала, что должно ей делать. Отлично разыгрываемая комедия в продолжение целой жизни лопнула на этой мелодраматической сцене. Графиня колебалась, уехать ли ей сейчас к матери, просить ли извинения у мужа или держать себя смело и решительно и нахальными упреками отвечать на выговоры? Ротмистр в простоте сердца приводил в чувство графиню, тогда как сам нуждался в помощи, потому что был словно помешанный. Едва стала она открывать глаза, как граф, сделавший несколько шагов, воротился опять к ним.
– Любезная графиня, – сказал он, – вы слишком опытны, чтобы лишаться чувств из-за такой безделицы; главное, не следует делать из этого истории и обращать на себя внимание людей. Прошу вас идти со мной, и ты, ротмистр, пойдешь с нами.
Повала молчал, кусая усы и губы; он ждал вызова, упреков, дуэли, может быть, смерти и истории, в которых он был бы в своей тарелке; но никогда не ожидал он такого презрительного хладнокровия, такого хладнокровного равнодушия. Ни один французский роман не приходил ему на помощь в этом странном положении, потому что новых он не читал, а в старых сцены эти обыкновенно разыгрывались иначе.
– Люди видели тебя, когда ты входил, – шепнул ему граф, – ты честный человек, не делай же, прошу тебя, историй, иди с нами, а об остальном поговорим после.
Сказав это, он подал руку графине и, скорее, таща ее, чем идя с ней, направился к дому.
– Ротмистр, – говорил он, – прошу тебя на время быть веселым; вы также, сударыня, придите в себя и будьте веселы в присутствии превосходнейшего из мужей. Глаза людей! Глаза людей! Сжальтесь, друзья мои, и не делайте новой глупости, хуже первой!
Появление Цеси и Сильвана помогло больше слов графа. Словно чудом каким к графине возвратились присутствие духа, веселость и развязность, ротмистру некоторая бодрость, и граф, который не терялся ни на минуту, поздоровался с сыном.
– Мы встретились с любезным ротмистром у садовой калитки и по необыкновенному случаю и графиню нашли также неподалеку; вот вам, дорогие дети, и я… и милый гость.
Ротмистр раскланивался словно на раскаленных угольях; графиня между тем вырвалась под предлогом необходимости идти вперед распорядиться чаем и исчезла. Цеся пошла за ней, мужчины остались одни.
– Ну, уж вы, вероятно, знаете, – начал непринужденно граф, кидая взгляд на ротмистра, которому сигара Сильвана дала некоторое занятие и довольно приличный вид, – знаете о моей потере?
– Мы слышали, – процедил ротмистр сквозь зубы.
– А что ж делать! Поправлюсь на чем-нибудь другом; надул меня обманщик; но я ему отплачу! Наконец, Сломницкое поместье все по большей части в песках, земля скверная, лес вырублен, и потеря эта не так важна, как кажется. Пока еще наложится секвестр, смолу окончательно доделают, вырубят и выжмут все, что можно.
– Все-таки… – сказал ротмистр, чувствуя потребность сказать что-нибудь, – все-таки… – и остановился.
– Все-таки жаль, без сомнения; но для меня это не слишком важно. Если б захотел, я мог бы выкупить Сломники, у меня есть немного денег.
Ротмистр изумился еще более.
– Нашел бы кредит, – прибавил граф. Ротмистр вытаращил глаза.
– Ну, да это дрянь, – заключил граф, – не стоит об этом и думать.
Сильвану стало легче, когда он услышал, что отец так легко смотрит и на это поместье, и на свое несчастье; покручивая усы, он веселее пошел наверх.
Не станем описывать сцены при чае, при которой должна была присутствовать графиня, хотя, право, стоило бы ее обессмертить на вечные времена. Ротмистр, как только позволило приличие, стал сейчас собираться домой, а граф усерднейшим образом удерживал его, приглашал, прощался и наконец подсадил в нейтычанку, пожелав громко доброй ночи. Затем в ту же минуту он вошел в комнату графини.
Они были совершенно одни: она сидела молча в уголке, он ходил по комнате торжествующий, веселый и совершенно владея собой.
– Наконец, – сказал он после минуты размышления, – с лишком двадцатилетняя комедия наша кончилась…
Графиня не открыла рта, она обдумывала свое положение я хотела приготовиться к новой роли.
– Пора бы уж бросить, – заключил муж, – эти нежности; это может вредить детям и мне не приносит ничего доброго. До сих пор, должен признаться вам, сударыня, у вас был во всем большой такт; меня удивляет, что широкие плечи глупого ротмистра могли так сильно ошеломить вас, что вы оставили вашу обыкновенную рассудительность и осторожность.
– Прошу, по крайней мере, не насмехаться, граф, если ни сожаление, ни уважение…
– Сожаление и уважение! Уважаю только ваш ум, сожалею очень вас; сожалею вас давно, замечая, что ни годы, ни опытность не могут воздержать вас от ненужных развлечений. Что ж, черт возьми! Надо же припомнить себе метрику!
– Это мое первое заблуждение… если это можно назвать заблуждением…
– Первое или последнее, об этом я знаю, графиня, – сказал муж, – верно то, что это первое, по несчастью, открытое; на другие, – верьте мне, я бы мог насчитать их немало, – я смотрел сквозь пальцы…
– Смеешь ли ты сказать это?
– Так вам угодно, сударыня, чтобы я пересчитал, представил доказательства?
– О, так мучить! Это ужасно!
– Как будто вы не мучили меня хуже и ужаснее? Вы думали, что мне это легко? Но возвратимся к делу. Я думал всегда, что все это когда-нибудь да кончится; но вижу, что и ваши сорок с лишком лет не могут служить ручательством моего спокойствия.
– Чем же я виновата! Чем же я виновата! Опомнитесь! – воскликнула графиня.
– Как это, сударыня?
– Да! Скажи, в чем состоит моя вина?
– Вина? – сказал он. – Так вы еще не знаете?
– Разве я могла запретить ему любить и объясниться?
– А, правда! – заметил смеясь Дендера. – Так мне еще нужно просить извинения, а не обвинять. Вина, и нет вины, – прибавил он насмешливо, – ты ангел! Ха! Ха! – Но в ту же минуту он переменил тон. – Довольно, говорю вам, этих комедий. Я не слепой и никогда слепым не был; должен был притворяться, пока мог; но баста! Довольно! Я видел все, прощал чаще других; наконец это перешло уже границы терпения и всякой снисходительности.
– Стало быть, мы расстанемся…
– Ба! Как бы это было хорошо, если б было возможно.
– Это должно быть.
– Это невозможно. Это погубило бы и детей наших, и вас с ними. Жена моя не должна даже подвергаться пересудам, и, по крайней мере, если о ней толкуют, пусть это будут только пересуды, пусть никто не имеет права сказать: вот доказательства. Итак, не угодно ли, сударыня, выслушать меня: довольно этих проблесков молодости, романов и интриг или… или… ручаюсь вам, мы кончим очень дурно.
– Ты смеешь грозить!
– Грозить? Нет; но что я сказал, то исполню до юсы. Я бы мог простить даже виновной жене, но покорной и сознающей свою вину, потому что сознание возбуждает сострадание, дает право надеяться на исправление; но не прощу надменной и преступной. Весь разговор ваш с ротмистром я могу повторить, потому что слышал его превосходно. Полагаю, что не менее прекрасны были и по слогу, и по содержанию вечерние шептанья с паном Германом, с паном Юлианом, с паном…
Графиня почувствовала странные спазмы и без чувств упала на диван; граф брызнул ей в лицо несколько капель воды и, когда она пришла в себя, прибавил очень холодно:
– В глазах людей и для света будем, чем были: очень и очень нежными супругами, потому что свет не должен знать ни о чем. C'est de rigueur note 11Note11
Это жестоко (фр.).
[Закрыть]. Затем для себя будем с этих пор равнодушны один к другому, как посторонние, как старые знакомые, у которых нет тайн. Покойной ночи, сударыня. Если бы вы захотели уехать к себе, – прибавил он, обернувшись у двери, – можете, но не теперь; мы должны прежде поправить зло, какое может сделать нам огласка конфискации, оживить мой кредит, закрыть рты неприятелям… потом… я не говорю… Самодолы к вашим услугам.
Он поклонился и вышел.
– А ротмистру, – сказал он себе, выходя и улыбаясь, – нельзя будет теперь вспоминать о своих 30 000. Это была бы с его стороны огромная неделикатность: вот уж первый выигрыш. Право, я неблагодарный: грожу и упрекаю, когда должен бы благодарить. Это первый роман моей жены, который хотя на что-нибудь мне пригодится.
Сильвана немало заботила будущность целого семейства, и он; не мог, едва успокоенный, положиться на отца. Правда, спокойное лицо старика и его смелое противоборство ударам судьбы придала уже несколько храбрости сыну; но ему необходимо было покороче узнать намерения отца и поговорить с ним обстоятельно. Графи проводив ротмистра, после беседы с женой поспешил во флигели, где уже ждали его сын и Смолинский, страшно встревоженный неожиданно скорым возвращением графа, который помешал его приготовлениям к выезду. Сигизмунд-Август хотя и был бледен, встревожен и изнеможен, а для тех, кто знал его ближе, – Я расстроен, не выказывал с первого взгляда, что столько разных неприятностей поразили его вдруг и так чувствительно. Он сохранил все присутствие духа, всю свою гордость, постоянный свой наряд и все актерские принадлежности, с какими разыгрывал роли жизни с детства. Голову держал высоко, отдавал приказания громко, и когда люди искали на нем следов унижения, смирения, – находили только удвоенное присутствие духа, силу и живость.
Сильван с сигарой во рту, полулежа на диване, ждал отца в его комнате; он надеялся поговорить с ним искренно и быть введенным в таинство совещаний о будущности.
Вошел отец, взглянул на него и сказал только:
– Хорошо, что ты пришел, граф, поговорим с тобой; но прежде разденусь и закурю трубку.
Изумляясь хладнокровию отца, сын в молчании остался на диване. Между тем Сигизмунд-Август скидывал с себя платье и улыбался, очевидно, раздумывая о чем-то; выслав прислугу, надев шапочку и закурив трубку с великолепным чубуком, он начал так:
– Ну, пора поговорить серьезно! Ты, граф, в таких летах, что мне нет. уже надобности скрывать что-нибудь от тебя. Ты должен быть моим помощником и, как будущий глава семейства, знать все, что касается наших дел. Итак, будем откровенны.
Сильван кивнул головой.
– Потеря Сломницкого поместья, между нами сказать, удар весьма чувствительный, – проговорил граф, – хотя ни перед кем, кроме тебя, я не сознаюсь в этом. Сломники были, можно сказать, единственным и чистым основанием нашего богатства, и это мы потеряли; на Дендерове долги, которые равняются его стоимости; остальное имение обременено точно так же. Самодолы, приданое твоей матери, с банковским долгом и уплатой Черемовой стоят немного. В конце концов, можно сказать, что за всеми расчетами, соединив все крохи, у нас останется, может быть, каких-нибудь двести тысяч: это для нас все равно, что ничего.
– Без всякого сомнения, это ровно ничего! – заметил Сильван. – Что же в таком случае мы предпримем?
– Все дело в том, чтоб не терять головы, – говорил старый граф, – и не сомневаться в своих силах; по всей вероятности, кредиторы наши переполошатся в первую минуту, но между тем: qui a terme, ne doit rien note 12Note12
Кто имеет время, тот ничего не теряет (фр.).
[Закрыть]; a пока придет срок, мы должны изменить положение дел.
– Каким образом? – спросил Сильван.
Граф остановился посреди комнаты и рассмеялся с невыразимым сарказмом.
– Надо тебе знать, любезнейший граф, что люди – глупейшие создания!
Молодой граф улыбнулся только; он охотно верил отцу, исключая, как это обыкновенно делается, себя из общего правила: никто не применяет к себе общих правил.
– Все из недоверчивости переходят к неограниченному доверию, из сомнения к слепой вере, словно дети, надо только уметь руководить ими. Кредит мой в настоящую минуту поколебался; стоит мне только не робеть, стоит заплатить кому-нибудь, поторговать какую-нибудь деревеньку, – увидят, что я держусь на ногах, не прошу, не кланяюсь, не падаю, – и завтра же потекут ко мне, как вода, деньги шляхетские. Весь секрет, стало быть, – вера в свои силы до последней минуты и присутствие духа.
– Но потом?
– Потом? Манипуляция очень простая, – говорил отец, – занимаю у одного, отдаю другому: простое арифметическое действие, и так постоянно. Притворяюсь огромным спекулятором, говорю о больших делах, держусь на ногах и смеюсь над глупцами, которые мне верят.
О, зачем не можем мы описать выражения лица, фигуры и голоса, с какими произнесена была эта аксиома! Граф действительно был в эту удивительную минуту настоящим гением.
– Все это хорошо, – сказал Сильван, – но, очевидно, нам следует ограничить свои расходы, следует переменить род жизни.
– А это была бы как раз величайшая глупость! – возразил живо старый ментор. – Напротив, все напоказ, роскошь – вот лучшие средства. Если увидят меня в новом экипаже, скажут: не может быть, чтобы он разорился, посмотрите, как живет! А продай я хотя пару старых кляч, сейчас закричат, что мы обеднели. Итак, смело и вперед!
– Уважаю, граф, твое непоколебимое присутствие духа; но удастся ли так, как предполагается?
– Должно удаться!
Граф походил с минуту в размышлении.
– Главный мой кредитор, – сказал старик, – старик Курдеш, потому что ему я должен больше всех; его бы хотелось мне как-нибудь умаслить: шляхтич хотя и низко кланяется, но на четыре ноги подкован.
– Так это правда, что мы должны ему двести тысяч?
– Да!.. Надо подумать: и тут есть средство. Ты ведь был у него?
– Два раза.
– Даже два? – спросил отец.
Сильван, немного смешавшись, замолчал; отец рассмеялся.
– Кажется, тебе там девочка приглянулась! Ха! Ха! Ничего в этом нет дурного и даже, может быть, пригодится к чему-нибудь. Надо, чтобы ты опять там бывал и, пожалуй, почаще…
– Я? Но что же из этого выйдет?
– Надо надуть шляхтича надеждой на замужество дочери, если только он поддастся этой штуке; иногда и эти простые средства, именно своею грубостью, удаются отлично.
– Как это, батюшка? Я не хорошо понимаю тебя.
– Вижу, что можно говорить с тобой откровенно. Езди к Кур-дешу и волочись за его дочерью, понимаешь? Я будто бы ничего не знаю об этом. Шляхтич, обольщаемый нашим графством, не станет приставать об уплате долга; я притворюсь слепым; но если бы дошло дело до развязки, у тебя всегда есть отговорка: отец не позволяет жениться, и конец.
Сильван, как ни был испорчен, почувствовал некоторое отвращение к такому решению: он стыдился роли обманщика, какую приказывали ему разыгрывать, и молчал, искоса поглядывая на отца, который говорил все это с таким хладнокровием и бесстыдством, как будто речь шла о вещи самой естественной и благороднейшей в свете.
– Можешь себе ездить туда, – прибавил старик, – можешь иногда пожаловаться на мой аристократизм и суровость. Ротмистр будет потворствовать твоим открытым исканиям; об остальном не заботься. Нужно только выиграть время. Барышню можно будет выдать за кого-нибудь замуж, хотя бы за Вацлава; для него это была бы великолепнейшая партия!
Прекрасное это предположение так заняло графа, что он даже улыбнулся. Сильван стыдился несколько своей роли, но принял ее охотно, потому что она давала ему возможность отмстить шляхте, которая до сих пор осмеливалась сопротивляться.
После таких откровенностей не о чем было уже и говорить; оба замолчали на минуту. Граф позвонил; Сильван, принимая это за намек, хотел уйти, но отец остановил его.
– Останься, граф, – сказал он, – увидишь, как обделываются дела; тебе надо привыкать.
Сильван остался на диване, а отец, услыхав отворяющиеся двери, шаги и кряканье Смолинского, вышел в первую комнату.
Смолинский был не совсем в веселом положении, потому что возвращение графа застало его в сборах к выезду. Как из разваливающегося дома бегут все, так и Смолинский, почуяв беду, подумывал и собирался улизнуть. Граф знал уже об этом через своих шпионов. По дороге он останавливался в корчме за деревней, по обыкновению расспросил жидка-арендатора обо всем, что делалось, и притворился, однако же, что ничего не знает. Так нужно ему было на этот раз.
– Ну, что! Добрый вечер, Смола! – сказал граф. – Ты не ждал меня скоро?
Смолинский, видимо, сконфузился: он потирал бледные уши, ломал себе пальцы, моргал глазами, потоптывал ногами и, сделав наконец усилие улыбнуться, сказал:
– Что же, ясновельможный граф, хотя и не ждали мы вас, но рады. Что же привезли вы нам хорошего?
– Прежде скажи мне, спас ли ты, что можно было, из Сломницкого поместья? Конфискацию мне удалось отложить еще на три месяца.
– Спасаем, но идет плохо.
– Не понимаю, как это плохо; должно идти.
Смолинский посмотрел исподлобья. Граф стоял, словно Юпитер, надменный и гордый.
– Разве нам так нужно разговаривать? Разве вы не знаете, чем пахнет?
– А чем же пахнет?
– Да уж из этой каши не вылезем, если бы что и спасли из Сломницкого поместья.
– Из чего же не вылезем?
– Да из беды.
– Что же ты воображаешь, из-за Сломницкого поместья я пропаду?
Смолинский вытаращил глаза. Граф улыбался с такой самоуверенностью, что Смолинский, хотя и знал его давно, был обманут и встревожен этой улыбкой. Он поколебался.
– Что же вы думаете, ясновельможный граф?
– Что думаю? Спасти что можно и по-прежнему идти дальше.
– Куда? – спросил насмешливо управляющий.
– Это уже мое дело. Много ли наличных в кассе?
– За вычетом того, что следует мне…
– А, так уж ты прежде себе высчитываешь!
– Мне очень нужно…
– Об этом после… Сколько денег в кассе?
– Право, я не считал…
– Ну, так я, может быть, скажу тебе, сколько должно быть! Смолинский рассердился и пожал плечами.
– Да что, ваше сиятельство, даром воду толочь? Хотя бы и нашлось что в кассе, да что же это при настоящих обстоятельствах? Есть еще полторы тысячи рублей.
– Сколько ты взял за лес из Сломницкого поместья?
– Дали гуртом двадцать тысяч злотых.
– Прекрасно, это уже тридцать.
– Но, ясновельможный пан, мне очень нужна моя собственность.
– Надеюсь, ты тут не первый, – сказал граф с принужденною вежливостью. – Не бойся, твое не пропадет. У меня с собой еще есть 30 000, из которых истрачено очень мало, потому что в Житкове нечего было делать, и я обошелся малым; вместе составляется около 60 000. Этого на первый раз будет довольно; а что делать дальше, подумаем.
В эту самую минуту в передней поднялся шум; кто-то пробивался к графу, воюя со слугами. Двери с шумом распахнулись, и в комнату влетел Пенчковский, задыхающийся, побагровевший, обеспамятевший. Глаза его были налиты кровью; вся фигура выражала сильнейшее беспокойство и раздражение.
– Это что за история, любезнейший Пенкося! Как поживаешь! – воскликнул граф. – В такое время! Что же привело тебя?
Пенчковский холодно поклонился.
– Вы извините меня, ясновельможный граф, что так неожиданно врываюсь к вам, но, право…
– Что же случилось, любезный Пенчкося? – спросил граф предупредительно, но гордо и важно.
– Я так несчастлив, – заговорил Пенчковский в замешательстве, – что должен, хоть и не хотел бы, надоедать ясновельможному графу; но такое обстоятельство…
– В чем же дело, мой Пенчковский? – спросил медленно граф. – Что такое?
– Я в таких обстоятельствах, извините меня, ясновельможный граф, но я обременен семейством; выработав в поте лица, я не могу потерять… Мой капиталец мне нужен.
– Какой капиталец? Как же это? Неужто ты хотел бы уже взять его назад? Да ведь едва прошло несколько недель, как ты дал мне его и взял вексель?
– Я знаю, что срок еще не прошел; но при таких обстоятельствах… сжальтесь надо мною! Дети, жена без куска хлеба! Не погубите меня!
Он стал путать и бормотать невнятно, заклинать, грозить, плакать и просить.
– Что же это так загорелось? – произнес граф. – А, а! Догадываюсь, – прибавил он, хватаясь за бока от смеху, – это конфискация Сломник задала тебе такого страху! Ха! Ха!
И он вдруг перестал смеяться и гордо, с гневом обратился к задумавшемуся шляхтичу.
– Знайте, сударь, – сказал он, – что я не желаю и не прошу ни у кого денег, а если у кого возьму, делаю ему одолжение! Сколько ему следует?
Он взглянул на стоявшего у дверей Смолинского.
– Сейчас сосчитаю, – сказал тихо управляющий.
– Прошу сейчас же заплатить этому господину, – произнес Дендера гордо и повелительно. – Сейчас, не откладывая до завтра, сию же минуту! Мое почтение!
Сказав это, он отвернулся, будто обидясь, напевая и притворяясь сильно разгневанным.
Пенчковский сам не знал, что с ним делается. Смолинский не двигался с места и только моргал то на Пенчковского, то на графа, весьма недовольный предстоящей уплатой.
– Но не сердитесь, ясновельможный граф, – выговорил наконец шляхтич, – ведь это добытое в поте лица, накопленное, единственное богатство моих деток…
– Я ни во что не вхожу, – возразил граф, – вы не доверяете мне, возьмите ваши деньги и ступайте с Богом; но я с этих пор не имею к вам доверенности, и потому поместье, которое вы имеете от меня, прошу сейчас сдать и сейчас же выезжайте!
– Ясновельможный граф!
– Ни слова! Смолинский! Прошу принести сейчас сюда деньги! Вексель с вами?
– Со мной. Но, ясновельможный граф!..
– Без всякого но! Плачу и мое почтение; даю законное время на сборы и будьте здоровы!
Смолинский, как ни был недоволен, отправился за деньгами и принес их скоро, – касса была напротив. Граф отсчитал, молча отдал, взял вексель, разорвал его в мелкие куски и надменно кинул в камин.
Шляхтич так ошалел, одурел, так радовался и беспокоился вместе, что, не имея силы сосчитать деньги (у него в глазах рябило), схватил их только, сунул в карман, хотел раскланяться, но граф стоял к нему спиной, и он вышел потихоньку.
– Так делаются дела, – сказал Дендера сыну, – плачу ему несколько десятков тысяч, но завтра вдвое и трое больше этого достану, если захочу. Судьба не могла послать мне ничего лучше, как этого переполошившегося Пенчковского. Только бы узнали, что я заплатил по простому векселю, станут давать все, станут просить меня, чтобы я удержал у себя их деньги.
Он потер руки.
– Прекрасно, отлично, великолепно удалось мне с ним! Пенчковский кричал бы во все горло и других бы бунтовал; я заткнул ему рот; он должен сознаться, что я заплатил ему до срока. Увидишь, какой это произведет эффект!
Все рассчитано было у графа, увы, только на эффект! И предположения на этот раз оправдались, потому что первый же Смолинский, хоть и старая лисица, сказал самому себе:
– Э, такие люди никогда не гибнут! Они словно кошки: сбрось их с какой хочешь высоты – всегда на ноги падают; встают и летят. Должно быть, у графа есть тайные средства и надежды: иначе сбился бы с панталыку, а он держится бойко… Не время еще бежать.
Нужно было умаслить старого Курдеша, чтобы не напоминал о своих двухстах тысячах. Граф подозревал, что ротмистр-конфедерат уже не так верил ему, как прежде, потому он раздумывал, как бы прибрать его к рукам и, желая употребить в дело Сильвана, решился поговорить с ним еще откровеннее и определительнее. Его несколько беспокоило, что на первые намеки сын ничего не ответил ему, он решился узнать намерения Сильвана.
Не без колебания, однако ж, и несколько пристыженный, приступал он к возобновлению разговора, уже возбужденного однажды и кончившегося ничем; но это было необходимо.
Он остановился перед сыном, взглянул на него, как бы спрашивая, сумеет ли он исполнить поручение, и начал так:
– Многое, многое зависит от того, чтобы старый Курдеш не заикался о своих двухстах… Он может расшевелить других, становясь против меня, а двухсот тысяч из песку не совьешь.
– Тяжело пособить этому. Разве просить?
– Помилуй, кто же просит? Ты чересчур наивен; я уже говорил тебе о средстве, в котором ты можешь быть мне полезен.
Сильван молчал.
– Слушай только внимательно! Я знаю, что тебе приглянулась его дочь.
При этом замечании молодой граф смешался, полагая, что отцу уже известно его неудачное волокитство, покраснел, но, притворяясь равнодушным, ответил:
– Так себе, порядочная девочка.
– И хочется тебе немножко повертеться около нее?
– А кто ж это вам сказал? – спросил живо Сильван, все-таки в предположении, что граф знает все, хоть на самом деле старик ничего не знал; он отгадывал только; но ободренный успехом, притворился тотчас же всезнающим и подхватил:
– Кто сказал, тот сказал, а уж верно то, что она приглянулась тебе, и я очень рад этому.
Сильван пожал плечами.
– Этого-то мне именно и нужно.
– Но какое же тут отношение к делу? – спросил несколько недовольный сын. – Надеюсь, вы не намерены женить меня из-за каких-нибудь ничтожных двухсот тысяч!
– Спаси Бог, что за дикая мысль! Никогда этого не позволю! Но ведь тебе не сделает слишком большой неприятности поволочиться за ней.
– Это другое дело.
– Волочись, люби, занимайся ею, бывай у них, а я, когда ты захочешь отделаться (если это увлечет тебя), – явлюсь к тебе на помощь. Старик готов отуманиться надеждой на женитьбу: шляхта в этом отношении чрезвычайно глупа; бывали примеры; он не захочет раздражать меня процессом и будет себе тихонько сидеть со своим долгом. Высмотрев время, я явлюсь разгневанный, будто только теперь узнал обо всем и прикажу тебе прервать все сношения.
Этот новый урок обмана старик прочел с таким наглым бесстыдством, что даже у рано испорченного Сильвана кровь бросилась в лицо. Оскорбленный мыслью, что его употребляют только как орудие, он хотел сначала воспротивиться, но страсть и пустота шептали в другое ухо: согласись! Трудно было отвечать отцу на такой открытый совет подличать, и Сильван нашел нужным, хоть для виду, возразить:
– Ведь это будет с моей стороны подлость.
– Подлость! Пустое слово! Ты впадаешь в ненужный лиризм! Пойми, в чем дело: мы выигрываем время и спасаемся от гибели. Наконец, ведь я не советую тебе обманывать, это было бы подлостью, – я хочу только, чтобы ты поволочился, поселил бы в нем мысль о женитьбе, больше ничего. Можешь ездить в Вульки часто; постарайся сдружиться со стариком. Порой брось нежный взгляд на дочь – вот, о чем я тебя только и прошу. Не увлекайся слишком, испортишь дело; а, впрочем, в крайнем случае, у нас есть Вацлав на подставу.
– А если мне дверь захлопнут под иосом? – спросил Сильван, припоминая последний прием.
– Этого быть не может.
– Это могло бы быть.
– Нет, нет! Я знаю людей. У Курдеша есть претензия на родовитость, на связи; он не сочтет себя ниже нас, имея возможность дать за дочерью около трехсот тысяч приданого; он наверно думает, что мы ему ровня… А славные деньги триста тысяч!
– Надеюсь, что ты, граф, не ценишь меня так дешево.
– С твоим именем, положением, образованием и головой, любезный Сильван, – ласково ответил отец, – ты должен взять, по крайней мере, два миллиона, но это потом… Прежде чем мы приищем тебе помещицу, которая могла бы очистить Дендерово, усыпи этого цербера Курдеша.
– А, попробую, – пробормотал Сильван, опуская глаза, – но за успех не ручаюсь.
– Я тебе ручаюсь за него! – произнес весело отец. – Между тем, чтобы унять злые языки в соседстве и показать им, что я еще не гибну, как им бы хотелось, мы отпразднуем великолепнейшим образом день рождения твоей матери, который будет через неделю; приглашаю соседей и родных и даю бал, какого еще не видывали в Дендерове, освещаю сад, устраиваю фейерверк; с конфетами приедет Добжияловский. Пусть же полопаются от досады и зависти!
– Это хорошая мысль! – сказал Сильван. – Отличная!
Дендера просиял, улыбнулся и потер руки.
– Ого, – сказал он, – еще постоим за себя!
В Вульках жизнь текла спокойно: здесь день дню, час часу были родными братьями. Незначительные изменения зависели от времени года, от хозяйственных занятий, от крестного хода в праздники и от редких столкновений с внешним миром. Всякое менее обыкновенное обстоятельство делалось достопамятной эпохой; затем в известные часы приходили неизменно одни и те же занятия. Есть люди, которых подобная жизнь утомляет, делает несчастными, которым необходимы неистовства, суета и шум, с тем чтобы забыть и себя, и будущее. Совершенно другое чувство царствовало между обитателями Вулек: им внешний мир ничего не мог дать, а брал у них много. Ротмистр, чужой среди нынешних людей, получал от них более неприятностей, чем удовольствий; он невольно смеялся над новым поколением, как оно, в свою очередь, смеялось над стариком – остатком другого века, памятником иных убеждений и идей. Его идеи разбивались об их понятия и возвращались к нему в сердце израненные.
Франя так привыкла к Вулькам и спокойно текущим дням, что не слишком-то желала большего. Со времени первого посещения Сильвана она часто думала о нем, но сердце ее не билось при этом; тут было более беспокойного желания жить, чем особенного чувства. Она была рада ему, как была бы рада и всякому другому молодому человеку, который бы увеличил собой ее обыкновенный мир и развеселил его; но в думах ее он не занимал первого места, во сне не появлялся ей с мечтами. Наконец, деревня и ее тихо протекающая жизнь представляют столько прелести для посвященных в ее таинства, а душа при такой жизни так сродняется с природой, что уже не скучает о постороннем из страха потерять то, что имеет. И Франя не порывалась даже из своего счастливого уголка.
Одна Бжозовская с некоторого времени была печальнее и беспокойнее других обитателей Вулек; все действия ротмистра казались ей страшнейшею неловкостью; она вздыхала и жаловалась на него и тем сильнее, что Франя не разделяла ее дурного расположения и беспокойства. Она сердилась на ее равнодушие; граф не сходил у нее с языка: о нем она беспрестанно гадала, говорила; снилось ей даже, что он ей руку целовал из любви к Фране, а наяву она требовала, чтобы ей в утешение повторяли почаще: что суждено, того не минуешь.
Однажды после обеда Бжозовская с чулком в руках стояла на крыльце и, взглянув на дорогу из Дендерова, вдруг заметила на ней облако пыли. Сердце говорило ей, что это граф, но она боялась ошибиться, как уже не раз случалось с нею, ждала, смотрела и наконец, когда уже на повороте убедилась, что это был, действительно, не кто иной, как молодой Сильван, бурей влетела к Фране.
– А что, а что! Вот и едет! Одевайся скорее! Вы всегда смеетесь надо мной; видите теперь, что уж если я говорю, так не без основания. Ну, вставай же скорей и одевайся; едет, едет, сейчас будет на дворе!
– Кто?
– Да кому же быть! Не притворяйся, сделай милость, ты очень хорошо знаешь, кто.
– Прежде надо сказать отцу.
– Отец уехал в поле, сегодня засевки; кому же принимать, если не тебе?
– Без отца я, право, не выйду.
– Ну, вот тебе раз! Новая глупость! Чего ж ты боишься? Ведь не съест тебя! Право, этот народ подрядился отталкивать счастье, когда оно само в руки идет. О, уж теперь, Богом клянусь, больше ни о чем и знать не хочу!
– Но, дорогая моя Бжозя! Когда отец очень ясно говорил, что если приедет без него, сказать ему только, что нет отца и не выходить.








