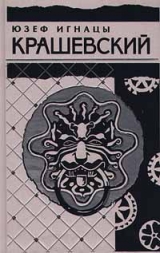
Текст книги "Комедианты"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Франя промолчала, но молчание ее было выразительнее ответа.
– О, меня не обманешь, – продолжала Бжозовская, – я вижу уж, тут что-то есть, вы любите друг друга… Но что ж тут дурного: он благородный, добрый и бедный молодой человек…
– О, это правда! Такой бедный! – наивно отозвалась Франя.
– И добрый, и красивый…
Франя замолчала и опустила глаза на работу.
– Захочет ли он меня, моя Бжозося?
При этих словах Бжозовская вскочила с кресел и подбоченилась.
– Слышала я это! – крикнула она. – Да кто ж бы осмелился отказаться от такого счастья! Чего же недостает тебе? Молодость, красота, деньги, дворянское и благородное имя…
– Но посмотри, моя Бжозося, мы другого света: он такой умный, ученый, а я…
– Да разве для женщины ты мало учена? – спросила Бжозовская. – Прошу не обижать меня, я воспитала тебя, как должно!.. Я бы посмотрела, кто бы не захотел тебя! Ба! Или я слепа и по глазам его не вижу, во что он играет! Ха, ха! И словно сам Господь Бог назначил, дали ему Пальник, тут же около Вулек, бок о бок, как одно, словно нарочно…
Когда они говорили так, а Вацлав входил в свою комнату, послышался лошадиный топот и шум подъезжающего экипажа.
Обе подбежали к окну: по лошадям, по экипажу и упряжке они узнали Сильвана и остановились как вкопанные.
– И этот тут еще! – шепнула Бжозовская, улыбаясь насмешливо. – Смотрите, пожалуйста, молодежь с ума сошла по ней… Вот это я люблю… но не про собаку колбаса, не для кота сало, – прибавила она тихонько.
Но Франя словно была противного мнения; схватила поспешно работу и убежала спрятаться в свою комнатку.
Ротмистр принял Сильвана на крыльце с обычною униженностью; поклонился ему чуть не до колен и, отворив двери, ввел графчика, с довольно кислой физиономией, в залу.
Разговор как-то не завязывался. Сильван, развалясь в креслах, бормотал о дожде и охоте, оглядывался и мешался.
– Где же панна Франциска? – спросил он, наконец.
– В своей комнатке, – сказал шляхтич. – Но извините, ясновельможный граф, – прибавил он, – если это старые планы, то я уже слышал от почтенного вашего отца, что из этого ничего не может выйти.
Сильван с заметным неудовольствием и усилием ответил старику:
– Отец, вследствие моих убеждений, согласился на все, что может составить мое счастье.
Старик задумался, потом, помолчав с минуту, спросил:
– В самом деле?
– Да, да, – сказал Сильван с живостью, – можете сами спросить его.
– В таком случае это большая честь и для меня, и для моей дочери, – кланяясь, заметил Курдеш, – и затем мне уже нечего возражать, напротив, приношу мою глубочайшую благодарность… но…
Сильван, не ожидавший никакого но, вытаращил сердито глаза на старика, а тот произнес важно:
– Но все это теперь будет зависеть от моей дочери.
Гость закусил губы, закурил сигару и переменил разговор.
Через минуту вошла Бжозовская, сильно накрахмаленная и нахохлившаяся, а за ней и Франя, которую Сильван нашел изменившеюся, равнодушнейшею, даже возгордившеюся. Они сели на диван, и Сильван сейчас обратился к ним.
Вид хорошенькой девушки, желание преодолеть испытанные уже препятствия и неприятности, вызывали его на притворную веселость. Его постоянство, как думал он, должно было обратить внимание Франи; наконец, он решительно не понимал, каким образом можно было пренебрегать им, им! Как не выбрать его из сотни!
Он начал прямо, со своей обычной самонадеянностью говорить самые нелепые любезности.
Но как дик показался он деревенской девушке после Вацлава! Ничто ей не нравилось в нем, она боялась его и скорее чувствовала к нему отвращение, чем склонность. Сильван, по его мнению, должен был унизиться, чтобы Франя поняла его, а она между тем не могла его понять; не было мысли, на которой бы они сошлись: так разделяло их огромное пространство. Вацлав был весь сердце, Сильван – голова и холод; в первом действовала сильная душа, в последнем только возбужденный рассудок. При этом в нем было что-то неестественное и насмешливое; единственным источником его разговора были ближние, и Франя слушала его со страхом и неудовольствием.
Во время этого разговора появился вдруг Вацлав, о пребывании которого Сильван не знал (что ему было за дело до двоюродного брата), и появление это удивило, смешало и сбило с толку графа. Они встретились первый раз после известного объяснения. Прошедшее и надменное поведение Сильвана с Вацлавом не могло еще быть забыто; теперь изменились их общественные отношения, чувства остались те же, но приличие заставляло казаться братьями.
Вацлав взглянул на гостя с улыбкой, Сильван ответил ему взглядом злобы; они поздоровались холодно.
– Братец ваш оказал нам честь, – отозвался ротмистр, – и согласился погостить некоторое время в нашем домишке… был нездоров.
– Был нездоров! – повторил Сильван. – Отчего же ты не приехал в Дендерово? – прибавил он через минуту.
– Благодарю; я обеспокоил бы, я знал, что граф также хворал.
– Да, но теперь ему несколько лучше.
Сильван, сконфуженный неожиданной встречей, потерял вдруг веселость; предчувствие нового унижения подняло в нем желчь; он предвидел опять отказ, будучи уверен, что Вацлав, вытерпевший так много, очернил в глазах ротмистра все Дендерово, хотя этого и не было. Сильван, судя по себе, не поверил бы и клятве. Взволнованный этими мыслями, он посмотрел на часы, сказал что-то Фране, которая в эту минуту сравнивала его с Вацлавом, посидел с минуту, видимо, обеспокоенный, и, давая себе в сотый раз клятву, что нога его не будет больше в Вульках, простился с удерживающими его хозяевами и уехал.
Трудно описать, что делалось в душе его; это было такое же неприятное чувство, как бессильный гнев, как отвергнутая подлость, как страдание падшего гордеца… Через полчаса, впрочем, он поднял нахмуренное лицо.
– Что мне! – сказал он. – Что мне? Будто мне не все равно; отец пусть сам думает о себе! Мне нетрудно сделать блестящую партию! Но кто бы мог предвидеть, что я встречу там Вацлава!
Таким образом, то досадуя, то утешая себя, Сильван, сильно взволнованный, воротился в Дендерово и прямо отправился к отцу.
Смолинский вертелся с отчетами, которые сдавал еще, и отчеты производили весьма неприятное впечатление на графа, ясно обнаруживающееся на лице подергивающимся гневом и волнением, когда Сильван вошел или скорее влетел, как буря, насупившийся, нахмуренный, огляделся и воскликнул:
– Красиво попал опять, чтоб их черти побрали!
– Что же случилось! Что же случилось? – подхватил отец в беспокойстве.
– Я встретил там Вацлава, хворающего, кажется, уже несколько недель.
Оба замолчали. Больше не надо было объяснять старому графу: он закусил губы и кинулся на диван.
– Уж если бы… – произнес он через минуту, – дело шло о выборе…
– Не здесь мое место, – возразил Сильван, – тут меня оценить не могут и не сумеют; это дикая мысль! Решение мое неизменно: ты, граф, делай себе с этим шляхтичем, что хочешь. Я уеду на воды в Литву, на Подолию, в Украину, в Варшаву, найду где-нибудь богатую наследницу и женюсь.
– Женись, женись, очень буду рад, – сказал отец, болезненно улыбаясь, – только бы удалось тебе, благословляю, но до сих пор тебе, должно сознаться, не слишком-то везло.
– Потому что не делал еще попыток в этом отношении, – возразил Сильван с кислой миной. – Завтра в дорогу.
– Так ты здесь не хочешь пробовать?
– Нет, нет, довольно этого; я чувствую отвращение к этой грязи! – воскликнул он с выразительным жестом.
Отец молчал, сидел в креслах и думал; в эту минуту вошла Цеся.
И она с некоторого времени была тревожна, задумчива и печальна; она не ожидала, что является к отцу за новою неприятностью.
– Как ты, папаша, чувствуешь себя сегодня? И ты, Сильван?
– Я, как всегда, – ответил Сильван.
– Возвращаешься от соседей?
– Не спрашивай откуда.
– Нет надобности спрашивать; был, конечно, в Вульках; весь свет говорит о твоих удивительных любовных приключениях…
– Любовных приключениях! Полно, пожалуйста! Там кое-кто, кажется, предупредил меня.
– Ха, ха! – засмеялась Цеся. – И счастливый соперник твой какой-нибудь бедный шляхтич в капоте!
– О, извините, лучше – Вацлав.
Лицо Цеси вдруг изменилось, словно кто сжал ей сердце; она побледнела, видимо, смешалась, но, сейчас же овладев собой, сказала:
– Этого должно было ожидать; эта партия так по плечу ему! И напевая, она стала ходить по комнате.
Не ускользнули ни от отца, ни от брата замешательство Цеси и ее страдания, быстро подавленные наружным равнодушием; оба, однако же, притворились, что и не догадываются ни о чем;словно молния, мелькнула в голове старого графа мысль, но ее уничтожило воспоминание, что Вацлав уже отказался от руки Цеси. Сильван, который, казалось, знал или догадывался больше отца, улыбнулся.
Вошедшая графиня прервала это довольно затруднительное для всех молчание.
Через несколько дней после описанных нами происшествий граф вышел, опираясь на палку, из своей половины в главный флигель по поводу приезда Фарурея. Кроме него было еще несколько соседей: Целенцевич со своими громкими возгласами, ротмистр Повала и некий пан Мавриций Голобок, лицо проблематическое, только что из столицы, шатающееся с некоторых пор из дома в дом.
Это был по призванию литератор, непомерно надутый своим назначением, необыкновенно уверенный в своем величии, смело решающий все, толкующий чаще всего о столице, откуда соблаговолил приехать, ежеминутно вспоминающий имена вельмож, которые выучил в литографии по визитным карточкам, оригинал замечательный, бездельник, франт, плут и глупец, каких мало.
С неподражаемой наивностью он рассказывал всем вообще, что приехал в провинцию для пробуждения в ней жизни. Средством для этого было какое-то сочинение, имеющее когда-то и где-то появиться в свет, а подписка, объявленная на это литературное произведение, принималась за проявление этой жизни.
Пан Мавриций Голобок (обладатель фамильного герба) производил себя из какого-то очень знатного рода и немало гордился своими предками, хотя папаша его был не более, как управляющий. По всей вероятности, ваш молодец немало помыкался по белому свету, прежде чем решился сделаться литератором. Попробовал хлеба не из одной печи: торговал в лавке, был гувернером, аферистом и, наконец, – потому что умел читать и писать довольно неразборчиво, – почувствовал себя способным к литературе. Нынче литератору, спрашиваю вас, что необходимо? Уметь немножко читать и кое-как царапать, затем была бы только смелость, медный лоб, было бы немного решительности задирать высоко голову, привязываться, шуметь, кричать – ничего более не потребуют. Usus te plura docebit.
Не будучи в состоянии писать, потому что ничего не мог создать, наш псевдолитератор решился переводить, красть и издавать чужое. Несколько попыток переделок без знания даже языка, неизвестно зачем напечатанных, придали ему уже такую самоуверенность, что он приказал тиснуть свой портрет, royal-folio, в положении труженика, задумавшегося над кипою книг с факсимиле и числом рождения. И потом пошел далее: стал толковать о своем литературном назначении, печатать разную дрянь, навязывать ее всем, хмурить лоб и разыгрывать роль великого человека.
Самонадеянность, доведенная до сумасбродства и решительного помешательства, составляла отличительную черту этого типа. Довольно было взглянуть на него, чтобы убедиться, как он высоко ценил себя: он был полон чувства собственного достоинства, всегда будто обременен размышлением, всегда полон удивления к чужим мыслям, которые с ловкостью фокусника усваивал и пускал за свои. Со всеми считал себя равным, целый свет Божий был, по его мнению, или равен ему, или ниже его; выше себя он никого не видел. Это всегдашнее условие непроходимой глупости. Случалось ему говорить например:
– Я и министр сидели… Или:
– Я и Гете, оба мы одинаково любим…
Он вышел из школы, ничему не научившись; лизнул потом кое-какой французовщины, затем, ничего не читая, ничего особенно не любя, кроме жизненных удобств и довольства, случайно принявшись за литературу, трудился над составлением себе ореола, надеясь при помощи его жениться выгодно и хапнуть, ни за что ни про что, имение.
Он ковал себе венец и кричал о своих сочинениях, они обусловливали его жизнь! Но, увы! все это кончилось накоплением небольших денег, истраченных на попойки; по словам же пана Мавриция, который толковал как попугай о своем литературном призвании, у него в голове блестели великолепные планы и цели.
Не зная языка, – он трудился для языка, не будучи писателем, – посвятил себя литературе; не имея гроша – был издателем; не имея дарования – занимал его у других и усваивал. Словом, это был человек великий! И как прилично нес он свое величие!
Наделав в столице долгов и выказав весьма ясно и определи-тельно, что он за гусь, он не мог уже оставаться там долее и удалился в провинцию надувать почтенных деревенских жителей, которые свято верят в слово и еще более в слово печатное. Здесь он сразу заметил, что провинции необходим, как он выражался, свой орган; он пригласил людей скромнейших, но далеко способнейших, к себе в сотрудники и обязался, лишь бы были доставляемы деньги и статьи, заниматься редакцией, то есть сочинять обертки, предисловия, книги и билеты на подписку и получать доход.
Когда ему хотелось написать что-нибудь, хоть какую-нибудь заметку или предисловие, он заимствовал где-нибудь мысль, разводил ее, подбавлял своей нахальности – и дело было готово.
Одним словом – это был литературный Дон-Кихот.
Литератор этот вошел в залу важно и бойко, выболтнул несколько французских слов, которые знал, начал смеяться и вертеться, разыгрывая роль светского человека, словно плохой актер в провинциальном театре, и тотчас же с высоты своего величия, к несказанному удивлению Целенцевича, объявил о своем высоком назначении издателя! Это, однако же, не помешало ему кидать нежные взгляды на графиню и Цесю. Но, увы! слава его была еще недостаточно блистательна, и женщины обращали более внимания на его лакированные сапоги, чем на гениальное чело.
– Я приехал поздравить, – отозвался он через минутку.
– Кого и с чем? – спросила Цеся.
– Все ваше семейство с неожиданным, громадным наследством, о котором везде толкуют и в настоящее время…
– Наследство! – подхватил лакомо граф. – Нам! Но об этом мы еще ничего не знаем!
– Как это! Неужели я первый вестник этой золотой новости?
– Но что же это? Что такое, сделайте одолжение, кто вам это сказал? Какое же это наследство? После кого? Где? – восклицали все, окружая его. – Ив зале поднялась суматоха: весть о неожиданном наследстве, о сокровищах – не шутка!
– Да ведь если граф Дендера был женат в Париже на дочери банкира Пети, вероятно, отец ваш (он обратился к старику): вам переходят в наследство после его бездетного сына несколько миллионов, все дома и…
Граф упал в кресло, Сильван закусил до крови губы, Цеся побледнела, кинув гневный взгляд на Фарурея, графиня старательно закуталась в мантилью, словно ей стало холодно.
– А, это наследство моему племяннику, – пробормотал граф, очевидно, взволнованный, но с притворным равнодушием, – не нам! – И вздохнул только.
– Племяннику! – воскликнул литератор. – Кто же это такой? Где он живет? Я не имею счастья знать его.
Но никто не спешил ответом, и наш молодой человек заметил, что он принес в дом только зависть и печаль. Особенно заметное впечатление произвело это известие на Цесю, потому что она то и дело метала огненные взгляды с укором и гневом на бледную физиономию Фарурея. Глухое, долгое молчание, словно страшная тяжесть, налегло на всех. Только Целенцевич и литератор толковали о своих мечтаниях; пан Мавриций сильно уговаривал Целенцевича накидать свои мысли на бумагу, уверяя, что сейчас же их напечатает. Целенцевич, в благодарность за эту любезность, в свою очередь, с увлечением отзывался о теориях и изящных произведениях Голобока, которые тот, выкрав из столичных газет и журналов, выдавал за свои.
Оба кадили взаимно друг другу. К несчастью, им недоставало слушателей, потому что всех занимало и давило в это время неожиданное, баснословное, американское наследство Вацлава!
– Счастливец! – повторял граф с кислой улыбкой. – Счастливец!
– О, теперь, – шепнул Сильван, – ручаюсь, что кинет и Вульки, и панну Франциску!
– Не понимаю, – прервала Цеся, – что тут особенного… Досталось ему наследство, ну, и очень хорошо; пусть наслаждается, нечего и говорить об этом.
Все общество было, однако ж, сильно поражено новостью, а Фарурей, заметив, что Цеся в каком-то спазматическом, весьма дурном расположении, намекает на парикмахера и допрашивает о знаменитом дантисте, чего до сих пор еще не позволяла себе никогда, – недовольный, раздосадованный, удалился.
Литератор между тем заботливо расспрашивал Целенцевича о Вацлаве, не сомневаясь, что человек так по-калифорнийски обогатившийся, возьмет у него, по крайней мере, билетов пятьдесят на Третьегодник и Двумесячник, захочет показаться меценатом, откроет кошелек и поможет пану Маврицию облачаться в лакированные сапоги, рейтфраки и часовые цепочки…
Мечтал он, этот двигатель литературной деятельности, что ему дадут, по крайней мере, сто тысяч на литературное дело и, получив их, рассчитывал явиться великолепно в Житкове и еще великолепнее жениться. Тут дело шло не о Третьегоднике, и не о Двумесячнике, и не о литературе, а, увы! о кармане издателя на настоящее и будущие времена.
Таким образом, обстоятельно разузнав о вкусах, характере, летах, местопребывании Вацлава и видя, что в Дендерове его принимают как-то не так, как бы хотелось ему, хоть он немало толковал о своих связях в столице со множеством князей, графов и баронов, старательно называя их по имени и по отечеству, улизнул à l'anglaise note 17Note17
По-английски (фр.).
[Закрыть], торопясь к первой минуте хорошего расположения обогатившегося молодого человека.
Но уже он не один строил планы на бедного, за минуту забытого всеми сироту: все окружающие корыстолюбиво таращили на него глаза, когда он, ослепленный, оглушенный своим счастьем и так еще не привыкший к нему, казалось, не понимал еще, какие новые силы, новую власть, значение, даже новые достоинства придавало ему богатство.
Кто же изобразит, что делалось в душе графа при виде своего падения рядом с возвышением сироты! Что делалось в душе Цеси, которая могла бы теперь с ним иметь все, что ценила, и, наказанная за свою холодность и продажность, видела ускользающее из рук ее богатство!
Сильван, для которого деньги имели непреодолимую силу магнита, начинал подумывать, как бы сблизиться с Вацлавом, не сомневаясь, что он станет ссужать его, а это было необходимо, потому что и Повала, и Фарурей уже любезно отказывали.
В Вульках только весть о наследстве произвела на всех неприятное впечатление; ее привез ксендз Варель; он нашел ротмистра подле конюшни и шепнул ему на ухо удивительную новость.
Старик побледнел, заломил руки и остановился как вкопанный, словно его поразило большое несчастье.
– Что с тобой? – спросил ксендз.
– Что? – сказал старик. – Последние, лучшие, самые дорогие надежды мои разлетелись.
– Какие надежды?
– А, любезный отче! Будто не знаешь ты, мне мечталось женить их; но воля Божия!
– Кого же это тебе хотелось женить?
– Да его на моей Фране: ведь они любили друг друга.
– Ну, так что же мешает?
– Да вот, миллионы! Он славный молодой человек, но у него закружится голова.
– А пфе! Нет, нет, ротмистр! – возразил Варель. – Много на свете зла, но добра еще больше; не должно слишком черно глядеть на человека. Погоди, ты убедишься, что это молодой человек богобоязливый, благородный…
– Вот потому-то мне и жаль, я его полюбил почти как родного сына.
– Но увидишь, ротмистр, что богатство не изменит его; я в этом уверен и даже, как и другие, имею маленький проектик на него.
– Как? И ты, отче?
– Разве я не человек и не эгоист, думаешь ты? – засмеялся весело ксендз.
– Но какой же это проект?
– Должен мне основать школу для детей и больницу для убогих, без этого не отстану; да вдобавок и церковь должен поправить.
– Согласен, согласен, согласен! – раздался вдруг за ними голос Вацлава, который пришел пешком из Пальника и явился подле них незаметно.
– А хорошо это так подслушивать?
– Извините; слышал только последние слова и соглашаюсь на все, лишь бы получил все эти обещанные золотые горы; но все-таки с условием…
– Вот как! Условия!
– А как же! Я имею на них право: я ведь буду основателем.
– Ну! Какое же?
– Поправляя церковь, строя школу, я буду иметь право и вам новый домик построить…
– Э, Бог с тобой, и без этого можно обойтись; лишнее Богу и бедным необходимо, а ксендзу был бы уголок…
Ротмистр, который боялся, не подслушали ли его, несколько сконфуженный, поздоровался с Вацлавом и взглянул ему в лицо, которое сияло тихим спокойствием. Видно было, что он пришел удвоить счастье, разделив его с приятелями, что как делится он чувствами, так готов был поделиться и самым богатством.
В то время как сцена эта разыгрывалась подле конюшни, Бжо-зовская, которой кучер Вареля рассказал все, влетела такая растрепанная, испуганная и бледная в горенку Франи, что дух у нее захватывало и язык отнялся.
Франя вскочила, испуганная, из-за пялец.
– Что такое? Что такое?
– А, а, ты не поверишь! Ей-Богу, чудеса, ужасти!
– Что ж такое, Бжозося?
– Пан Вацлав…
– Господи! Что с ним сделалось? Говори! – крикнула Франя, опрокидывая кресло и столик и подбегая к ней, бледная и испуганная. – Что случилось с ним? Ради Бога! Пойдем, поедем!
– Но дай же мне дух перевести! – Бжозовская упала на кресло.
– Ради Бога! Хоть одно слово, милая Бжозося! Он не умер, не ушибся?
– Нет! Нет… Миллионы, миллионы!
– Какие миллионы! Что с тобой?
– Достались ему за морем, не знаю где, в Америке или в Калифорнии! Страшный богач! Богаче всех, как князь, как король!.. Вообрази себе!..
Франя побледнела, потом устыдилась своего первого движения и несколько обиженная спросила:
– Ну, что же в этом ужасного? Бжозовская, боясь, не смела объясниться.
Франя, собрав потихоньку клубки, иголки и разбросанную работу, не говоря ни слова, воротилась к пяльцам, как до нее долетели голоса отца, ксендза Вареля и еще кого-то.
Она подняла головку: у окна стоял Вацлав и, как прежде, кланялся ей с улыбкой и взором, в которых не было ничего нового, ничего изменившегося.
Бжозовская при этом явлении опять крикнула, но уже с радости, торжественно и, не колеблясь, кинулась к окну.
– Правда ли это, пан Вацлав? (Как теперь его называть?..). Правда ли?.. Эти миллионы! Миллионы?!
– Что, моя дорогая панна?
– Но это наследство, богатство! Господи! Господи! Это, верно, сказка! Вы нисколько не радуетесь!
– Да с чего же бы мне особенно радоваться?
Ротмистр, который видел и слышал это, успокоился несколько, видя, как мало подействовало на Вацлава обогащение. Боялся он, однако ж, и думал еще, что деньги, как вино, охмеляют не сразу.
Между тем вечер прошел чрезвычайно приятно в обществе Вареля и Вацлава. Это было уже позднею осенью, но день выдался необыкновенно теплый, и потому столик был накрыт на крыльце, куда доносились звуки сельской жизни и то особенное осеннее благоухание, в котором слышатся и овощи, и жниво, бледная роза, увядающие листья и приятный запах позднего сена.
Фране скоро возвратилась обычная веселость, и она доверчиво глянула в будущее; даже Бжозовская прояснилась и только таращила постоянно глаза на нового богача, как бы ища в нем перемены. Ротмистр был как-то печален: он хоть и верил Вацлаву, но ему приятнее было отдать дочь свою с хорошим приданым, чем отдать ее теперь большому и богатому барину как ничтожную для него шляхтянку.
В Дендерове тотчас по отъезде гостей все разбрелись; никому в этом семействе не нужно было другого; графиня отправилась размышлять об увядающей красоте своей и еще кое о ком; Сильван о своей будущей женитьбе; графа грызла зависть; Цеся мечтала, что привлечет Вацлава силой воспоминаний и могуществом своих взглядов. Затем никто не думал поверять свои тайны другому, каждый нес свой крест один, согбенный и печальный. Не было в них сердца, не было чувства!
Страдали все, страдали! Граф упрекал себя в преступлении, как в глупости, метался, видя потерянными тысячные выгоды, которые доставила бы ему добродетель, ругался и досадовал, но поздно, поздно!
Сильван и Цеся одинаково давали себе слово сблизиться с Вацлавом, но, не обнаружив никогда ни малейшего признака чувства, выказать его вдруг, теперь было невозможно; это значило бы обнаружить расчет, показать, что не сердце действует в них. Оба были достаточно искусны и не хотели поступить так; следовало ждать, а ожидание было невыносимо!.. Фарурей с каждым днем становился Цесе противнее, она положительно хотела покончить с ним, но боялась только.
В таком положении были умы обитателей Дендерова, когда неожиданно явился туда Вацлав… Сильван и Цеся взглянули и сказали про себя:
– Сам идет в силки, тем лучше!
Вацлав счел приличным навестить дядю, тем более, что уверен был в лучшем приеме; он приехал, однако ж, по-прежнему, на тележке с бедной упряжкою, одетый по-прежнему и нисколько не изменившийся. Богатство не вскружило ему головы, потому что он выучился в школе несчастья ценить людей, ценить деньги и чувства… Он сознавал в себе теперь более силы; но сила эта, брошенная ему случайно судьбою, не придавала ему гордости: он чувствовал, что она не следствие труда, а дар случайный – выигрыш в светской лотерее, в которой редко кто выигрывает!
Сильван будто случайно вышел ему навстречу, Цеся осталась у окна, он увидел ее издалека. Граф ввел его сейчас же в залу, сохранив, однако ж, столько такта, что ни о чем его не расспрашивал. Только после получасовой совершенно посторонней болтовни стали его все поздравлять и расспрашивать. Вошла и Цеся, свежая и нарядная, кокетливо улыбаясь, с букетом резеды в руках.
Прежде чем войти в залу, она остановилась с минуту на пороге, взявшись за ручку дверей, опустив голову, и подумала, что начать, как показаться?.. Другой? Перемена была слишком заметна и быстра. Такой же, как прежде? Но привлечет ли его это? Буду и та же самая, и другая, ответила она тихо самой себе на собственный вопрос, и уж разве судьба обрекла нас всех каким-нибудь особенным неудачам, тогда только не смогу я расшевелить его… возвратить…
Вацлав был тот самый, что и вчера; ничто не обнаруживало в нем перемены положения: он осторожно, даже боязливо обходился, как и прежде, с теми, над которыми чувствовал всегда свое превосходство, а теперь и по мнению общественному стоял выше. Они же все и улыбались теперь ему приветливо, и пожимали искренно руку, говорили ему любезности, и давали ему чувствительные названия. Сердце у него сжалось при виде этой слабости, этого детства человеческого! Но, где же не так? Где разбогатевший вдруг не заметит, что деньги придали ему новую цену, новое место, высшее значение? Деньги чужие, заработанные кем-то другим, и неизвестно по какому праву вдруг доставшиеся неожиданно, незаслуженно, даром?..
Граф, словно не в чем было его упрекнуть в прошлом, старался быть приятным, очень выразительно выпрашивал прощение и забвение, покорный, тихий, улыбающийся, едва не добродушный; свою тайную мысль запрятал он в карман. Сильван переменил тон и обыкновенную манеру обхождения: он слушал, соблаговолял отвечать, даже спрашивал; графиня обмеривала вопрошающими взглядами того Вацлава, которому в продолжение многих лет, не знаю, сказала ли два слова, кроме приказаний и выговоров. Цеся была очень искусна и не обнаружила сильного желания понравиться ему; она поняла, что внезапная перемена была бы плохим расчетом, что Вацлава можно привлечь только воспоминаниями: вследствие этого она вошла смело, с насмешкой, нахально подступая к прибывшему:
– А, здравствуйте, – сказала она ему. Вацлав поклонился молча.
– Поздравляем, поздравляем! Но скажите нам: этот американский дядюшка – действительность или только соседский пуф?
– До сих пор, если пуф, по крайней мере, пуф правительственный, – ответил Вацлав с улыбкой.
– Численность этого наследства простирается действительно до миллионов?
Все радовались смелости Цеси, не смея сами расспрашивать прежде так подробно.
– Положительно не знаю, – сказал сирота, – ликвидация не окончена; знаю только, что у меня очень хорошенький отель в Париже, кое-что в банке (несколько десятков акций), кое-что в рентах пяти– и трехфранковых, которые ходят в настоящее время очень хорошо, какая-то вилла и порядочное количество акций разных компаний.
– Чудеса, чудеса! – смеясь, восклицала Цеся. – И вы принимаете это просто, холодно, как будто в этом нет ничего решительно удивительного, романического, ужасного, фантастического?..
– Я принимаю это, – подхватил Вацлав, – как вещь совершенно для меня не важную; я привык к бедности, не слишком Ценю и то, что будет теперь принадлежать мне. Буду независим, свободен, может быть, пригожусь кому на что-нибудь – и это больше всего ценю в моем наследстве. Но и без него с меня было бы довольно.
– Но ты не думаешь переехать в Париж? – спросил Сильван.
– О, нет, нет! – воскликнул Вацлав. – Я больше всего люблю здешнюю сторону и не мог бы жить без нее; Францию не терплю, хоть это родина моей матери. Останусь здесь.
Он обратился к Цесе:
– Знаете ли, – сказал он, – меня необыкновенно радует, что у меня будет фортепьяно Эрара, который получил медаль на выставке; оно в числе моего наследства; и я напишу прежде всего о высылке его. Вы понимаете счастье обладать настоящим и лучшим Эраром?!
Над этим наивным и с жаром высказавшимся детством все рассмеялись. Цеся взглянула на него с состраданием.
– О, да, да! – прибавил Вацлав. – Из целого наследства нетерпеливее всего жду моего Эрара. Должны его прислать мне сейчас же через Марсель и Одессу.
– Но где же вы его в Пальнике поставите?
– Это не важное дело! Поставлю у себя в спальне. Я не думаю хвастаться им; я люблю музыку для себя, а не для того, чтобы отличаться перед другими; я счастлив, что теперь не буду принужден играть для других. Для гостей довольно будет мерзейшего Кнамма, разбитого Безендорфера, для себя, при моем новом богатстве, поставлю Эрара…
– Счастливец, счастливец, трижды и четырежды счастливец! – бормотала Цеся, садясь подле него. – Ежеминутно слышу: счастливец… видно, вы уж так счастливы, что не надо больше ничего.
– Да могу ли же я жаловаться, глядя на то, чем был вчера? – сказал Вацлав тихо.
Цеся замолчала, но, заметив быстро удаляющегося отца и Сильвана, которые, разговаривая о чем-то тихо между собою, уходили на крыльцо, а мать, погруженную в чтение, спросила Вацлава:
– Правда ли то, что говорят: будто бы вы при миллионах нашли и подругу проживать их вместе?








