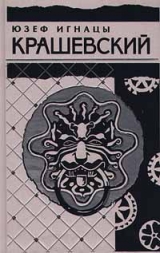
Текст книги "Комедианты"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
– Да, – холодно отвечал Сильван, – из этого что-нибудь, может быть, и выйдет; хотя для того, кто, как я, слушал Тальберга, Листа и Гензельта, три таких громадных таланта, для того в такой посредственности немного цены. Для вас, конечно, и то хорошо!
Эти слова, брошенные мимоходом, но довольно громко, убили Вацлава в мнении известного рода обезьян, которые чтят, как оракула, человека, возвратившегося из-за границы, и не смеют поставить рядом с заграничным мнением своего собственного, основанного на собственном размышлении и чувстве.
Граф между тем ходит по залам, улыбается, говорит, скучает, рассыпает вежливости. Вдруг графиня Черемова поднимается со своего места, делает выразительный знак графу и важным шагом направляется к кабинету, поглядывая свысока на толпу гостей, которые почтительно расступаются и провожают ее низкими поклонами. Хозяин последовал за нею.
Они вошли в кабинет, освещенный только одной лампой, тем более удобный для интимной беседы, что в соседней комнате, соединенной с ним единственною дверью, танцевали, и потому с этой стороны нельзя было ожидать нашествия. Несколька минут графиня важно молчала, ходя взад и вперед по комнате и понюхивая табачок; она, казалось, обдумывала предмет разговора. Наконец она слегка обратилась к графу, который от нетерпения начинал кусать губы, и медленно проговорила:
– Извините, граф, что именно сегодня я хочу начать с вами серьезный разговор; завтра мне необходимо ехать, вы, вероятно, будете заняты, а теперь мы можем поговорить; это не отнимет у вас много времени…
– К вашим услугам, графиня, – сухо отвечал граф.
– А потому мы можем, хотя мне это не весьма приятно, мы можем и должны объясниться; может быть, вам это будет неприятно…
– Что прикажете? – еще суше перебил граф, гордо выпрямляясь.
– Граф, – сказала еще медленнее Черемова, пристально глядя на своего собеседника, – всем известно, что ваши дела весьма плохи; поговорим об этом прямо, откровенно.
– Я! Мои дела плохи! – воскликнул граф с сильным неудовольствием. – Кто же об этом донес вашему сиятельству?
– Кто? Об этом говорят все, это общее мнение.
– Где?
– Везде; все об этом знают и говорят.
– Кажется, я прежде всех мог бы знать об этом, – отвечал граф тоном менее почтительным, но более насмешливым.
– Именно от вас-то я и хотела узнать истину.
– Не вижу надобности отдавать вам отчет; притом здесь не место и не время. Но позвольте мне, в свою очередь, спросить, на каком основании вы требуете от меня отчета о моем имении? О моем!.. – прибавил граф с ударением.
Голос и тон, с какими произнесены были эти слова, задели за живое старуху. Неуважение, к которому она не привыкла, глубоко оскорбило ее; она раскраснелась и, подняв голову, гордо сказала:
– Милостивый государь, это имение принадлежит столько же вам, сколько и моей дочери.
– Внукам, вы хотели сказать?
– Однако ж, Самодолы вы взяли за Евгенией.
– Так, – произнес насмешливо граф, – четыреста душ и четыреста тысяч долгу, тогда как душа там и пятидесяти червонцев не стоит!
Графиня так была раздражена, что не могла отвечать; она махнула рукой, хотела было перейти в зал, но возвратилась.
– Ложь! Ложь! – вскрикнула старуха прерывающимся голосом. – На Самодолах, предназначенных для дочери, был только банковый билет покойного мужа.
– Но мы платим вам проценты.
– Уже два года я ничего не получала.
Сигизмунд-Август замолчал.
– Заплачу, – произнес он после паузы, – но вы, надеюсь, не будете требовать от меня отчетов.
– Так вам угодно говорить с матерью вашей жены? – спросила графиня с возрастающим негодованием.
– Я говорю теперь не с матерью моей жены, но с кредитором, который требует от меня отчета, не имея на то никакого права.
– Милостивый государь!
– Так, ваше сиятельство.
– В сторону это, в сторону, – заговорила графиня дрожащим от гнева голосом, – теперь пришло время потребовать от вас другого рода отчета… Моя дочь несчастна с вами!
– Кто же об этом донес вам?
– Достаточно взглянуть, чтобы убедиться в этом!
– Я бы советовал вам спросить о том графиню и не заключать по догадкам; не мешало бы и меня спросить, счастлив ли я.
– С этим ангелом!.. – воскликнула мать и заломила руки, но спохватившись, что ее могут увидеть, начала махать платком, приняв спокойную наружность.
– Об ангеле и его крылышках, которые иногда так далеко его заносят, советую расспросить у меня, – сказал граф с насмешкой.
– Вы клеветник! Вы недостойны, чтоб вас земля носила! – вскрикнула графиня, не в состоянии будучи удерживать гнев.
– Графиня, на нас начинают смотреть, – отвечал холодно зять по-французски, – не перейти ли нам в залу.
Говоря это, он подал ей руку и с выражением полной сыновней покорности, с улыбками и комплиментами ввел ее в зал. Старуха, казалось, была совершенно довольна зятем. Через четверть часа под предлогом головной боли графиня ушла в свои покои, сопровождаемая тем же внимательным зятем. Сколько драм покрывает эта головная боль, сколько тайн и грехов! Славная болезнь, которую можно принять и снять с себя по собственному желанию.
Едва только граф возвратился в зал, лакей шепнул ему на ухо, что в задней комнате ожидает его Смолинский с весьма важным делом.
Немного добра обещают эти господа, являющиеся с бумагой в руке: редко бумага эта приносит счастье, всего чаще – горе, убытки, заботы, а иногда – неизлечимые удары. Увидев Смолинского с бумагой в руках, граф гневно сказал:
– Я полагаю, что можно было бы и завтра придти с этим делом, можно было обождать.
– Ни минуты, – отвечал Смолинский.
– Что там?
– Что ж может быть? Разумеется, несчастье.
Граф задрожал и совершенно растерялся. Еще не зная, что ждет его, он схватился за голову и упал в кресла.
– Говори же!
– Абрамсон…
– Абрамсон обанкротился, и мой залог пропал?
– Так точно.
– Не может быть!
– Форменное объявление и секвестр на Сломницкое поместье. Дендера не сказал ни слова, поглядел бессмысленно на черные
окна и опустил глаза в землю; губы сжались, лоб наморщился, граф постарел в одно мгновение.
– Что же мне делать? – спросил Смолинский.
– Что хочешь.
– Позвольте вам напомнить, хотя уж теперь и поздно, что я был всегда против этих залогов, я всегда говорил…
Граф ничего не слышал; он перебирал в голове разные отрывочные мысли.
Смолинский со свойственной ему наглостью уверял графа во лжи; Абрамсон был ему обязан, что получил залог, за который графу платил по червонцу с души, а Смолинскому по три злота. Теперь, когда Абрамсон объявлен банкротом, он боялся, чтобы граф не вспомнил, как часто он говорил в пользу еврея и залогов, и потому, предупреждая упреки, отказывался от прошлого. Триста душ пропало за шесть тысяч злотых, заплаченных графу, и тысячу, отданную комиссионеру. Еврей между тем, обокрав казну на несколько десятков тысяч, бежал в Броды.
– Что же мне делать? – повторил Смолинский, косо поглядывая на графа.
– Ступай, повесься на первой осине, – проговорил граф, мгновенно встав с места и, не сказав более ни слова, возвратился в зал уже веселый и спокойный. Если бы кто-нибудь увидел его, когда он входил в ярко освещенные покои, никто бы не подумал, что он несет с собой тайну, от которой зависит судьба целой семьи. Улыбаясь, граф остановился в двери, увидев пана Яцека Курдеша, и отвел его в сторону.
– Предстоит мне весьма выгодная спекуляция, не хочешь ли в долю со мною?
– Что же это такое, если позволите спросить?
– Отличный, прекрасный случай! Может быть, наверно! Подряд! Сто на сто! Есть у вас двадцать тысяч?
– Откуда у меня возьмется такая наличная сумма? – спокойно отвечал пан Яцек, решившийся, по-видимому, не уступать перед настоятельностью графа и начинавший уже догадываться. – Нам ли прятать такие капиталы?
– Жаль. А можно было бы копейку на копейке выиграть.
– Жаль!
– А не знаете ли кого-нибудь?
– Вам, я полагаю, нетрудно собрать такую ничтожную сумму?
– Но дело не терпит: время бежит, перебьют!
– Пан ротмистр Повала третьего дня получил от брата пятьдесят тысяч наличными…
– Так, так! Возьму у него!
Граф пошел далее. Жена его в это время танцевала с ротмистром, который был теперь в блестящем расположении духа. Ему казалось нетрудным делом победить сердце графини, и он готов был для нее закабалить отца родного, чтоб потом похвалиться перед бывшими товарищами такой прекрасной победой. В антракте между танцами граф дружески ударил его по плечу.
– Одно слово, – прибавил он в объяснение жеста.
– Что прикажете? – воскликнул ротмистр, симпатически улыбаясь.
– Рюмку старого вина.
– Не откажусь.
Взявшись под руки, они ушли. Ротмистр смеялся в душе над доверчивостью мужа, граф, в свою очередь, смеялся над ротмистром, который готов был пожертвовать всем. Войдя в комнату, где стоял длинный стол, покрытый бутылками, граф достал заплесневелую бутылку венгерского, которая уже формой доказывала свою древность.
– Вот, попробуйте-ка, – сказал он, мигнув.
– Старое токайское!..
– Восьмидесятилетнее, увидишь!
– Ваше здоровье.
– Благодарю! – отвечал граф, весело и добродушно улыбаясь. – Не все меня, однако, так поздравляют.
– Иные лучше говорят, но, вероятно, не так чистосердечно.
– Ха, ха! Бывает и то! Меня сегодня очень оригинально поздравляли.
– Что же такое, граф?
– Вообрази себе, ротмистр, неотесанного болвана, который год тому назад на коленях выпросил у меня, чтобы я взял его деньжонки на проценты, теперь выбрал день моих именин и пристал ко мне о возврате.
– Как это глупо!
– Именно! И конечно, поймал меня совершенно врасплох, неприготовленного. Я взбесился, велел сейчас же Смолинскому хотя у жида взять и сию же минуту удовлетворить этого милого гостя; так это меня взволновало.
– Какие же это деньжонки? – спросил ротмистр.
– Пустяки, 30000 дукатов.
– Если хочешь, граф, я пришлю тебе завтра.
– Да разве у тебя могут быть свободные деньги? – спросил граф с притворным удивлением и недоверчивостью.
Ротмистр улыбнулся с некоторою гордостью.
– Завтра пришлю тебе, граф.
– За твое здоровье, ротмистр. Очень благодарен тебе за одолжение… Ты избавишь меня от хлопот… Еще рюмочку…
– Не стоит и говорить об этом.
Заиграли вальс, и пан Повала, рассыпаясь, полетел к графине, а Сигизмунд-Август, следуя за ним потихоньку, бормотал про себя:
– У меня тридцать тысяч, завтра беру почтовых и еду в Житково. Отделаюсь, должен отделаться; главнейшая вещь была достать на это деньги. Бедный ротмистр! Какой молодой! И такие усы!
И он тихонько рассмеялся.
Во время отдыха от танцев завязывались разговоры, и как широка была зала, как разнообразны лица, как не схожи между собою были гости, так удивительно разнообразны были и разговоры. По счастью, они разлетались в разные стороны, не встречаясь, не сталкиваясь между собою.
В том самом кабинете, где за минуту граф и теща обменялись десятком неприятных слов, откуда вышли они такие взволнованные, сидели теперь на диване: Сильван, курящий сигару, и граф Вальский, также воспитанный за границей, богаче Сильвана, такой же спортсмен, такой же молодой, также обыноземившийся, но имеющий над ним то превосходство, что сильно испорченный, не растлел еще до сердца. В нем испорчена была только наружная оболочка от прикосновения к гнилью, в остальном сохранилась еще жизнь.
Вальский не любил Сильвана, Сильван считал необходимостью иметь приятеля напоказ. Не раз бывает нужен нам такой приятель, как украшающая безделка, чтобы похвастать им. Редко выбираем мы их для сердца, очень часто для Глаза. Нам нужен приятель богатый, с громким именем, хорошо образованный, чтобы по нему судили о нас. Вальский скучал и охотно принимал от Сильвана знаки расположения, хоть и не любил его, принимал их для препровождения времени, вследствие английского сплина. Сильван рассыпался перед ним мелким бесом, чтобы иметь право в присутствии посторонних говорить ему: «мой друг», и, взяв его под руку, шептаться и смеяться с ним.
Когда они сели в сторонку, но так, однако ж, чтобы вся молодежь могла видеть, что граф Сильван о чем-то дружески перешептывается с графом Каролем (в отворенные двери из залы все было видно в кабинете), мимо двери промелькнул старик пан Яцек Курдеш, и граф Вальский очень естественно спросил:
– Что это за подбритый старый чуб?
– А! Это великолепнейший шляхтура: именно о нем-то я и хотел поговорить с тобой.
– О нем?
– О. нем и не о нем, а так, об его дочери.
– У него есть дочь? Здесь она?
– Quelle idée! note 6Note6
Что за идея! (фр.).
[Закрыть]Это так себе, простуха-девочка, но хорошенькая, как дикая роза.
– Сравнение не ново, но цветисто, – заметил Кароль, пуская вверх струйку дыма.
– Представь себе, – добавил Сильван, – что-то такое невинное, такое простое, такое наивное, будто из романа, будто не с этого света, где двенадцатилетние девочки уже начинают интриговать. Бюст немножко сильный, но весьма красивой формы, личико красивенькое, улыбка чрезвычайно милая.
– Ого, ты начинаешь горячиться, поэтизируешь; уж не влюбился ли ты, чего доброго, в эту простую девочку?
– Помилуй! Влюбиться, это уж чересчур! Но кое о чем подумываю…
– Например?
– Хочу оставить по себе приятное воспоминание.
– Каким же это образом, граф?
– Затеять с ней поскорее роман без последствий!
– Без последствий! – Вальский рассмеялся со странным выражением какого-то грустного сострадания.
– А потом? – спросил он.
– Что же потом? Ничего.
– Не понимаю такого плана, без последствий!
– Как? Что ж удивительного? Хороша, молода, оригинальна, дика и проста; занимает меня, забавляет. Я езжу, мы счастливы и потом расстаемся.
– Как это великолепно придумано! Помни только, любезный Сильван, – прибавил наставительно Вальский, – что со старыми подбритыми чубами подобные планы кончаются или батожьем или венцом.
– Ха, ха! Он меня за колена обнимает, и сам же непременно хотел показать мне дочь.
– Дикие, как я вижу, у тебя понятия о людях.
Сильван улыбнулся с самонадеянностью молодого человека.
– Я надеюсь, – сказал Вальский, – что все сказанное тобою – шутка.
– Нет, это план решительный, серьезный, очень серьезный.
– Позволь же мне посоветовать тебе вовремя.
– Охотно, с условием – не отсоветовать.
– Скажу тебе только простую, верную, опытом добытую аксиому.
– Собственным опытом? – спросил Сильван с насмешкой.
– Покуда, может быть, только чужим; наконец, каким бы то ни было, но верно то, что опытом.
– Слушаю внимательно и покорно.
– Итак, советую тебе и прежде всего: никогда не пускаться в любовные интрижки с намерением разорвать их завтра; ты не знаешь себя, не знаешь женщин и не можешь предвидеть последствий. Всего легче начать, всего труднее покончить и разорвать…
Сильван засмеялся по-своему.
– Я немного старше тебя, – сказал Кароль, – слышал много подобных происшествий, хоть сам и не пускался на эти похождения. Мне, как ты знаешь, до сих пор нужны были атласное платье, кружево и благоухания, чтоб я мог влюбиться; идеал мой должен быть наряден, должен быть офранцужен, быть из нашего круга; я не смотрел даже на шляхтянок, потому что у них руки красные и лицо загорелое…
– Не думаешь ли ты, что моя такова! – воскликнул Сильван. – Ручка как из мрамора…
– Тем хуже! Слушай дальше. Я знаю не одну подобную историю; они всегда кончаются печально. В наших гостиных игра равная: эти барыни видят отлично и знают, с чем мы являемся к ним, они не рассчитывают на нас более, чем нужно. В ином месте, в сфере низшей, твоя любовь вызывает сейчас мечты о свадьбе и тесной связи – игра неравная; будешь соблазнителем, а роль соблазнителя незавидна. И что же за любовь, оканчивающаяся тривиально криком, шумом, неприятностями и ничего больше?
– Ты думаешь, я вижу, Кароль, что у меня нет совести. Могу ли соблазнить и бросить, без сострадания, без…
– А что ж? Ты бы женился?
– Ну, вот опять! Это другая вещь; но разве нельзя загладить и вознаградить иначе?
– Вознаградить соблазн, обман, вознаградить разбитое сердце и жизнь?
– Ты смотришь на это с трагической стороны, которой обыкновенно в подобных связях и не бывает. Мне кажется, что на эти вещи смотрят нынче иначе. Франя моя должна будет узнать с первого разу, что жениться на ней я не намерен.
– В том-то и вопрос: может быть, она думает именно другое.
– Ну, ну, довольно! Ты, я вижу, расположен к противоречию.
– Признаюсь тебе, чуб этого пана Курдеша не обещает ничего хорошего для тебя, а что он обнимает колена – это ничего не значит: разославши ковер, всыплет тебе как следует. Много у него детей? У нее есть еще сестры?
– Нет, одна одинешенька.
– Это еще хуже.
– И шляхтяночка не так-то бедна, как тебе, может быть, кажется. Смолинский говорил, что их двести тысяч у моего отца; кроме того, деревенька без долгов и кое-что еще в шкатулке.
– Тем хуже и хуже! – прибавил Кароль. – Не советую тебе пускаться; кончишь или женитьбой, или историей.
– Вот еще! Я не так глуп!
– Придется тебе остаться или глупцом, или подлецом; выбор, признаюсь тебе, не легкий.
– На какого же я моралиста попал сегодня! – заметил Сильван, немного смешавшись. – Должно быть, ты сам запутался в каких-нибудь великолепных историях, если такая суровость прошибла тебя в отношении ко мне.
Кароль только вздохнул и ничего не ответил. Зигмунд-Август, пользуясь фигурой, в которую утащили ротмистра, неотступного кавалера графини, подсел к жене.
– Ma chérie note 7Note7
Моя дорогая (фр.).
[Закрыть]! – сказал он потихоньку.
– Что прикажешь, Гуця? – спросила графиня, наклоняясь так, чтобы движение ее выказало красивую талию.
– Скажи мне, сделай милость, что с твоей матерью?
– С моей матерью?! Кажется, голова у нее болит.
– Ты ничего не знаешь! Делала мне странные вопросы, чуть не выговоры….
– Тебе? – спросила жена, с отлично разыгрываемым притворством. – Неужели?
– Мне кажется, – прибавил с достоинством Зигмунд-Август, – я не заслужил этих выговоров.
– Какого же рода они были?
– Разные, и, наконец, и за тебя.
– За меня? – спросила в полголоса Евгения, смешавшись несколько. – Не понимаю этого.
– Мне кажется, я не заслужил их.
– Разве я показала когда-нибудь малейшее неудовольствие?..
– Было, кажется, время понять меня и оценить!
– Mon cher note 8Note8
Мой дорогой (фр.).
[Закрыть], я тут ровно ни при чем… Не понимаю ничего…
Супруги обменялись нежными улыбками; в улыбке графа затаены были нетерпение и досада, в улыбке графини равнодушие, прикрытое нежностью; она смотрела уже в другую сторону.
– Скажи же твоей матери…
– Да, разумеется… не беспокойся об этом…
В это время явился ротмистр, и граф, с намерением, в ту же минуту нарочно встал, посмотрел на жену и, сказав что-то прибывшему, под предлогом какого-то важного занятия, поспешно удалился.
«Ах, как же он глуп, как глуп!» – подумал ротмистр.
Графиня с досадой заметила это поспешное удаление: оно говорило ей очень много, и еще больше высказал ей насмешливый, брошенный искоса взгляд графа. Ее поймали и презрительно бросили в руки ротмистра. Первый раз в жизни, может быть, кровь закипела в ней так, что румянец выступил на лице, и какой-то остроумный вопрос, которым разрешился ротмистр, разбился об ее ухо, не услышанный, и полетел в свет без ответа.
Цеся караулила у дверей, не Вацлава, потому что он был ей только пробой, чем-то в роде трупа, на котором училась она нужной анатомии сердца, но выхода графа Кароля Вальского, сидящего с братом ее в кабинете. Целый вечер уже стреляла она в него и, не видя никаких последствий, была нетерпелива и досадовала. Наконец вышел Кароль, холодный, рассеянный, равнодушный и, окинув взглядом залу, остановился в дверях, неподалеку от Цецилии, которая, как видите, рассчитала очень верно выгоды выбранного ею места. Сильвана, только что он появился, утащили танцевать; граф Вальский остался у порога и должен был уже из одной вежливости сказать что-нибудь Цесе. Она встретила слова его такими красноречивыми улыбкой и взглядом, что Вальский; если б не был так сильно расстроен и опечален, задрожал бы. То были улыбка и взгляд девочки, которой чрезвычайно хочется убедиться, что она вышла из детства; с ними сравниться могли бы только улыбка и взгляд старой кокетки.
– Разве можно, чтоб вы отдыхали? Разве это хорошо, что вы не танцуете?
– Я никогда или почти никогда не танцую.
– Отчего?
– Надо быть очень молодым, чтобы так весело кружиться.
– А вы страдаете старостью и байронизмом!
– Нет, – ответил Кароль, несколько удивленный ее смелостью, – у меня есть болезнь подействительнее, нет нужды сочинять.
– Что же это за болезнь? Ведь не подагра же, как у пана мундшенка?
– До сих пор нет, но хуже этого.
– Неужели лихорадка, с которой возится уже пять лет мисс Люси и не может расстаться?
– Кое-что хуже даже лихорадки.
– В самом деле хуже? Решительно не могу догадаться.
– С чем вас и поздравляю.
– А! Я не могу догадаться, а вы не хотите мне доверить!
– Право, ничего любопытного, старая история.
– Тем лучше, я так люблю старые истории.
– Моя история вовсе не любопытна: я скучаю. Цеся, ожидавшая объяснения, покраснела с досады.
– Скверная болезнь, – сказала она с принужденной улыбкой, – но вы знаете, что теперь веруют в гомеопатию, и мисс Люси постоянно толкует мне ее основания. Ей-то я и обязана тем, что знаю. Болезнь в гомеопатии лечится другою, сильнейшею болезнью.
– Понимаю: вы советуете мне поискать другой, может быть, худшей?
– Нет, по мне уж лучше остаться при первой.
Говоря это, Кароль, пораженный неожиданною живостью Це-силии, сел подле нее, посмотрел на нее внимательно, будто видел ее в первый раз, и через минуту прибавил:
– Подагру желаете вы мне или лихорадку?
– Предоставляю это вашему выбору; обе приобретаются легко: первая – рюмочкой, вторая – простудой.
– Нет, уж благодарю! Лучше останусь при скуке.
– Что касается до меня, – говорила Цеся, – не знаю ничего скучнее человека скучающего; и судя по впечатлению, которое он производит на меня, я догадываюсь, как он, оставаясь постоянно сам собою, должен надоесть себе.
– Благодарю за комплимент, – сказал, смеясь, Кароль, – и удаляюсь.
– Можете остаться. Мне редко удается видеть скучающих; для разнообразия не мешает посмотреть и на них.
Говоря это, она подала руку Каролю, так как в это время ей именно пришла очередь выбрать кавалера и танцевать. Вальский вышел на середину, но, пройдя шагом, вяло, по зале, разговаривая, очень скоро возвратился в угол к болтовне. Цеся продолжала преследовать его взглядами; он выводил ее из терпения. Очень бы ошибся тот, кто подумал бы, что Кароль нравился ей; она хотела только подразнить его и попытать на нем свои силы. Вацлав уже в продолжении нескольких часов был ее торжеством; но ведь бедняку, неизвестному мечтателю разве трудно вскружить голову брошенным свысока взглядом? Но если бы Кароль, Кароль, который объехал весь свет, столько видел, столько прожил и, вероятно, любил, если бы он занялся ею, это было бы ей очень лестно.
В то время как она кокетничала с Вальским, Вацлав, следивший за каждым ее шагом, терзался чувствами, которые известны тому только, кто любил и был терзаем бешеною ревностью.
Молнии злобы, жажда мести, бессильное отчаяние, горе и слезы терзали его поочередно; он кидался и падал обессиленный; после продолжительной этой борьбы он уже направился было к саду с желанием оторваться от убийственной картины, как вдруг на крыльцо вышла Цеся.
Она заметила Вацлава при освещении, падающем на колонну, о которую облокотился он, вышла нарочно под предлогом освежиться и остановилась против него у дверей.
– А, так вы здесь, ночью, один! Что же вы здесь делаете?
– Отдыхаю и смотрю.
– Не понимаю, как можно было устать от такой плохой игры на фортепьяно, которой я никогда не прощу вам.
– Извините меня, но я так смешался.
– Вы никогда не будете в состоянии дать концерта. От чего же было смешаться?
– Не знаю; не сумею объяснить этого.
– Я должна сделать вам еще другой выговор, важнее, – прибавила она безжалостно. – Что значило поднятие этой ветки?
– Я?.. Я?.. – Вацлав оторопел.
– Прошу вас объяснить мне этот странный поступок.
– Я думал, что вы потеряли что-нибудь другое, ценное; заметив что-то упавшее, я думал, что это был браслет или брошка. Хотел поднять и отдать вам.
– Это другое дело! – сказала Цеся и, оглядываясь то на залу, то на крыльцо, спросила:
– Вы знаете графа Вальского? Какой это милый молодой человек!
Она нарочно мучила бедняка. Вацлав ничего не отвечал; он чувствовал, что был игрушкой избалованного ребенка и любил его – страдал и молчал.
Цеся кинула ему заученный взгляд, долгий, могущественный, которым она словно петлю накинула на голову дикаря. Она хотела и этого очаровать; он нужен был ей для дальнейшего.
Глухой шелест и темнота сада составляли замечательную противоположность с громкими звуками бальной музыки.
С одной стороны был освещенный дворец, весь в огне, из него неслись свет, благоухание и шум; с другой – темный сад, пустой, таинственный, печальный, черное небо, бледный месяц и природа, эта чудная картина тысячу раз виденная, тысячу раз новая.
Вацлав почувствовал сердцем поэта эту противоположность двух миров, двух жизней и забылся, мечтая выразить музыкой эту великую, превосходнейшую противоположность.
– Что за симфония! – воскликнул он. – И посреди нее мое бедное сердце, терзаемое отчаянием и страданием: с одной стороны веселье, звуки постороннего мне света, который и не смотрит на меня, который отталкивает меня, который едва удостаивает меня состраданием; с другой – тихая природа, спокойствие, песнь соловья – любовника и отца, шум деревьев, журчанье воды, отдаленная песнь пастуха, отдаленный божественный гимн, и голоса пустыни сто раз привлекательнее шума и адского веселья. Эта тишина охватывает меня и убаюкивает. Для этого нужен Бетховен с его свежим гением симфонии пасторальной и героической, с его вечной жизнью, с его чувством возвышенным и послушным, которое лилось бы в приготовленные формы, – все полное, могучее. Вебер только, только Бетховен смогли бы это. Берлиоз создал бы гармонический хаос; я – смешное.
И он сел, задумавшись; а образ прекрасной Цеси в белом платьице, с ее дьявольскими глазами замелькал перед ним, улыбался ему и дразнил его.
Где-то вдали слышен был пастушеский рожок, наигрывающий потихоньку грустную песенку, старую, дошедшую по преданию, которая, как нынче, раздавалась по лесу и пятьсот, и тысячу лет тому назад. Песенка эта оторвала поэта от действительности и унесла его в область мечтаний…
Утром на другой день было еще много вчерашних гостей в Дендерове, но и те понемножку разъезжались; никто не угадывал горькую истину, какую принес Смолинский поздно ночью графу в именинный подарок, потому что было строго приказано сохранить тайну.
Ротмистр с военною аккуратностью прислал рано утром 30 000 злотых. Экипажи были приготовлены к дороге, и граф ждал только разъезда почетных гостей, чтобы на почтовых поспешить на выручку поместья, которому грозил секвестр note 9Note9
Секвестр – запрет на пользование имуществом.
[Закрыть]. В купчей были не соблюдены, может быть, преднамеренно, на всякий случай, некоторые формальности; теперь они-то именно и могли пригодиться на увертку от ответственности.
Чуть свет граф уже советовался один на один со Смолинским; он и не ложился спать, а как только проводил гостей по комнатам и в экипажи, поспешил заняться делом со своим управляющим и уполномоченным.
Лицо Смолинского было мрачно, и он очень часто отпускал графу колкости; не скупился зато и граф, со своей стороны, на любезности, закуски и даже грубую брань; несмотря на это, совещания шли своей дорогой по народной поговорке: «Дело делу не мешает».
Помещик и уполномоченный знали друг друга довольно, замарали вместе руки не об одно грязное дело; таким образом, установилось между ними какое-то тайное братство, которое, правда, обнаруживалось только без свидетелей, но, тем не менее, было продолжительно и имело значение.
Смолинский говорил графу горькие истины, граф без церемонии ругал Смолинского; они знали один другого и взаимно были снисходительны к своим недостаткам. Пробовали иногда одурачить один другого, но, несмотря на хитрость обоих, это удавалось им только поочередно, так равны они были по силам. Иногда Смолинский надувал графа, иногда граф поддевал своего уполномоченного, но молчание и мир! Никто не знал об этом, рука руку моет…
В присутствии посторонних Смолинский был униженнейшим слугою Дендеры и стоял смиренно у дверей.
Чуть свет в боковые двери вошел уполномоченный к графу, который сидел на диване полураздетый, надутый, задумчивый, печальный, только для виду с трубкой во рту, которой не курил.
– Ну, что? – произнес он, обращаясь к вошедшему. – Надо нам подумать о делишках.
– Всю ночь думал; да что выдумать?
– Ты, брат Смолинский, старый осел, – сказал Дендера. – Я не думал и выдумал, у меня есть средство.
– Любопытно бы узнать! – проворчал Смолинский, несколько обиженный.
– Видишь, ты на веки веков останешься болваном, хоть бы ты в делах собаку съел. Купчая незаконна.
– Как это, ясновельможный граф? – подхватил уполномоченный.
– А так, почтеннейшая Смолка (так называл его граф в минуты веселые или в сердцах), ищешь в облаках, не видишь под ногами.
– Какая же там незаконность?
– Ты знаешь, что я не был еще введен во владение и, следовательно, не мог закладывать этого имения.
Смолинский немного оторопел.
– Ну! Незаконно закладная принята.
– Что ж из этого, что ее приняли беззаконно? Пусть разделываются, зачем принимали.
– Но ведь они нам сделали одолжение.
– Пускай всякий дурак не делает одолжения беззаконно. Я еду в Житково и обделаю, что надо, мне нужны только на это деньги. Сколько у нас в кассе?
– Вчера последние пятьсот злотых отдал в счет жалованья графу Сильвану и двести графине; осталось шестьдесят шесть и двадцать грошей.
– Сиди же себе с ними, я по дороге достану.
– Но ведь тут необходимы большие деньги, потому что у нас, правда, за деньги все делается, но дело дорого стоит.
– Как ты думаешь, 30 000 довольно будет?
– Слишком.
– Ну, так мне достанет.
– Но откуда их взять?
– Спроси лучше, откуда я их взял.
– Как это? Они уже у вас?..
– У меня.
– Но откуда же, черт возьми?
Граф, несмотря на огорчение, приятно улыбался.
– Право, – сказал Смолинский, задетый за живое, – люди одарены необыкновенной легковерностью.
– Дело в том, за кем какое установилось мнение.
Смолинский пожал плечами.
– Скажите же, сделайте милость, граф, на чье имя писать заемное письмо?
– На имя ротмистра.
– Как? Курдеш дал еще?
– А, нет, не Курдеш; тому даже следует проценты сегодня же заплатить наиаккуратнейшим образом, чтобы о капитале не заикался, но у ротмистра Повалы.
– О, что же это, черт возьми, я не смекнул! – воскликнул Смолинский, смеясь. – Тут дело другое!
– Как это, дело другое, бездельник! – и граф, вспыхнув, подскочил к нему, сжимая кулаки. – Говори мне сейчас, чего ты смеешься? Что ты думаешь? Что это значит, какое другое дело?








