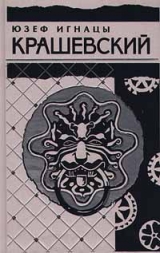
Текст книги "Комедианты"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
– Приходите, когда хотите: мы всегда будем рады! – шепнула она взволнованным голосом. – Приходите, – прибавила она настойчиво, – вы сделаете нам этим много хорошего!
Этими непонятными для Вацлава выражениями, которые, однако ж, сконфузили его так, что он не нашелся, что ответить, кончился разговор и визит. Вдова подала руку соседу, встала вдруг и, как бы отрываясь от него всею силою воли, быстро простилась и вышла.
Вся эта сцена не могла ускользнуть от внимательного ока графини и. ревнивой Цеси; а Сильван был взбешен страшно и несколько минут прохаживался, воротясь от дверей и не имея силы произнести ни слова.
– Что это такое? – отозвалась первая Цеся. – Сильван, объясни нам, сделай милость, это что-то непонятное! Что значит эта нежность твоей прекрасной незнакомки к пану Вацлаву? Ведь она, кажется, видела его только раз. Право, – прибавила она с принужденным смехом, – я могла бы сообщить кое-что Фране! Вы делаете большие успехи в Варшаве.
– Я ничего не знаю, я ничего не понимаю! – ответил он оправдываясь.
– Я знаю все и вижу, что меня начинает преследовать какое-то свирепое фамильное несчастие: дело просто слепого случая. Нужно же, чтобы Вацлав был похож как две капли воды на покойного мужа Эвелины. Это удивительно!
– Я? – воскликнул Вацлав.
– Барон говорил мне об этом, – прибавил Сильван с живостью, – и заклинал меня всем, чтобы ты не посещал их дом и не нарушал их спокойствия, раскрывая старые, уже заживающие раны.
– Барон тебе говорил это? Барон тебя об этом просил? – спросил Вацлав. – Но отчего же ты не сказал мне этого прежде? Я бы и не показался. Зачем же этот же самый барон так неотступно приглашал меня сегодня к себе?
– Разве ты не понимаешь этого? – заметил ему Сильван. – Это было при дочери! Но мне кажется, что можно положиться на твое сердце: ты не будешь так жесток, не станешь мучить бедной женщины; тебе надо уехать из Варшавы.
– Не показываться ей больше! – перебила Цеся.
– Лучше всего было бы уехать, – прибавил Сильван, – этот случай и мне страшно помешал; я был уже на прекраснейшей дороге, а теперь я надолго отодвинулся.
Он произнес эти слова с упреком, так что Вацлав, затронутый ими, обиделся и сказал:
– Я тут, по крайней мере, нисколько не виноват.
– Извини меня, – сказал Сильван, быстро подбегая к нему, – никто не виноват, кроме моей судьбы, проклятой судьбы! Тем не менее – это меня убивает.
Вацлав, не желая быть свидетелем дальнейшего развития этой неприятной сцены и принимая ее горячо, несмотря на упрашивания Цеси, взял шляпу и вышел в беспокойстве.
– Скажите же мне, графиня, как понравилась вам Эвелька! Очаровательна, не правда ли? Ангельское существо!
– Очень хорошенькая! – ответила мать, думая про себя, что сама была когда-то далеко красивее.
– Хорошенькая? – спросил Сильван.
– Даже красавица, – прибавила Цеся, – но как-то сентиментальна, плаксива.
– А отец? А тон? А образование? А образ жизни? – начал опять Сильван. – Как приятно видеть в них людей высшего круга!
– Что же тебе из всего этого, когда Вацлав попортил все твои ухаживания? – перебила мать. – О, этот Вацлав, это злой дух нашего семейства! Недаром, недаром я постоянно чувствовала к нему инстинктивное отвращение; все наши несчастья начались от него и имеют с ним какую-нибудь связь.
Цеся только вздохнула, а Сильван воскликнул:
– Я его сейчас отправлю в деревню! Пусть едет, пусть женится на своей Фране, пусть будет счастлив, но пусть же не портит мне дела.
– Успокойся, – заметила Цеся, – он там больше не будет, а выгоняя его отсюда, ты, пожалуй, обидишь его как раз в ту минуту, когда он может пригодиться нам.
Сильван замолчал, но нахмуренное чело его показывало, что он не может свыкнуться с мыслью о неудаче и решился или победить, или погибнуть.
Огорченный Вацлав воротился в свою квартиру, разрываемый чувствами, которых сам не понимал. Воспоминания о Фране, дразнящий образ Цеси, отлично притворяющейся равнодушной, грустная фигура молодой вдовы с глазами, полными слез, мешались в его воображении; Вульки, однако ж, с Франей чаще всего являлись его сердцу! Он чувствовал, что там было его невинное, спокойное, настоящее счастье. Но сердце человеческое ненасытимо, но человек так слаб! У Вацлава уже недоставало силы думать об одной невесте, и он грешил, совращаясь мысленно с дороги, по которой дал себе слово идти до конца жизни. Чувствуя это, он рад был поскорее выехать из города, где еще удерживали его неумолимые дела день за днем, не позволяя даже назначить день выезда. Между тем с каждой почтой он писал ротмистру, Фране и Бжозовской, не касаясь того, что встретило его в Варшаве, а открывая только свои чувства и тоску? Именно за таким длинным письмом, в котором не было ничего решительно, кроме сожалений и вздохов, застал его на другой день около полудня барон Гормейер. Смешавшийся Вацлав должен был принять его, не зная, чему приписать такой скорый визит; гость с улыбкой сам стал его объяснять.
– Вы простите, что я надоедаю вам, – сказал он с принужденною вежливостью, – но, как отец, я не могу равнодушно смотреть на слезы дочери, и если представляется возможность облегчить ее горе, ищу всех средств только бы сделать это.
– Брат мой, – перебил его живо Вацлав, – уже говорил мне об удивительном сходстве лиц, которое приобрело мне незаслуженный прием у вас, говорил мне также о вашем желании, чтобы я своим присутствием не терзал сердца вашей бедной дочери: будьте уверены, что я исполню это желание.
– Кто вам говорил? – спросил барон со странной улыбкой. – Граф Сильван? Вероятно, он имел на это какие-нибудь свои причины; но, ей-Богу, я хочу совершенно другого. Для нее, для бедной Эвелины – успокоительное лекарство видеть живым, по крайней мере, то, что она схоронила и оплакала; она обманывается, но утешается. Я именно хотел просить вас, чтобы вы посещали нас часто, часто, это будет ей милостыней.
– Барон, это такой странный случай, – сказал Вацлав через минуту, – что в правилах общежития нет для него ни одной готовой формы. Положение мое, в самом деле, становится чрезвычайно неприятным и, может быть, опасным; а люди…
– Люди пусть говорят, что хотят, – возразил барон, – мне от этого ни холодно, ни жарко! Эвелина точно так же, как и я, пренебрегает общественным мнением: сердце отцовское заботится хоть о минутном ее спокойствии.
– Мне кажется, – прибавил Вацлав, – что этого спокойствия надо искать другой дорогой, не возбуждая чувства, которому предназначено умереть или принять другое направление.
– Именно на вас я надеюсь, вы убедите Эвелину, – сказал барон, – вы имеете над нею страшную власть, вследствие, может быть, счастливого для нас случая: вы можете овладеть ее мыслями и чувством. Из глаз ваших и уст веет благородством и искренностью, поэтому я говорю откровенно и прошу вас горячо. Вы не можете пренебречь нашим несчастьем, когда можете помочь ему.
– Благодарю вас, барон, – сказал Вацлав, – но, кажется, я немного сделать могу вам пользы; я здесь проездом, ненадолго, обязанности призывают меня домой.
– Можно воспользоваться каждым днем, – настаивал барон, взяв за руку Вацлава, – не откажитесь, не откажитесь!
– Смешно было бы, если бы я задумался над такой ничтожной услугой; но мой брат…
– А, хорошо, что об этом зашла речь, – начал барон. – Граф Сильван, очевидно, намерен свататься за Эвелину; я должен расспросить о нем у вас. Хоть вы и брат его, но я чувствую, что скажете мне искренно, откровенно.
– Я ничего не скажу о нем, – воскликнул Вацлав с живостью, – сделайте милость и не спрашивайте меня об этом! Ни худого, ни хорошего сказать не могу, на моем языке и то и другое было бы подозрительно. Есть лица, которые объяснят вам далеко лучше меня. Увольте меня от такой неприятной обязанности.
Барон, видно, отлично понял, что Вацлаву нечего было сказать хорошего, поклонился и замолчал.
– Поедемте со мной на минуту к Эвелине, на минуту, только на минуту; она меня за этим и прислала.
Вацлав хотел отговариваться, но печальное лицо отца тронуло его; он не устоял, согласился, оделся наскоро и отправился с бароном.
На улице уже встретили они Сильвана и Цесю, возвращавшихся из магазинов; видение это едва мелькнуло перед ними, но Вацлав прочел на лице Сильвана такой гнев и удивление, что ему стало жаль его. Барон старался развеселить Вацлава, развлечь и не переставал рассказывать то, что в другую пору и при других обстоятельствах действительно могло бы занять.
В гостиной их уже ожидала быстро расхаживающая Эвелина; она приветствовала Вацлава признательным взглядом, и видно было, что она боролась с собой, чтобы не кинуться к нему, чтобы не увлечься обольстительным сходством, которое принесло ей невозвратимое прошлое. Вацлав, весь покрасневший, почувствовал необходимость стать сразу в известное положение некоторого преимущества и начал разговор благодарностью за любезность, которой ничем не заслужил и обязан только странному случаю.
Эвелина расплакалась и схватила дрожащими руками его руку.
– Ах, простите, – воскликнула она, – избалованному дитяти, сердце которого за несколько светлых дней выдержало столько ударов: простите, что я протягиваю вам руки! Я так несчастна и не могу освоиться со своим несчастьем!
– Вы позволите мне быть откровенным? – сказал Вацлав. – Зачем же искать счастья в заблуждении, обманывать себя с тем, чтобы назавтра страдать снова и сильнее?
– О, это его слова, это звук его речи, это он! – воскликнула Эвелина, закрывая глаза. – Говорите, говорите, пусть я услышу еще… так ты не умер, ты не покинул меня навсегда… Ты жив… Ты вернулся, и мы не расстанемся больше!
Вацлав молчал; положение его с каждой минутой становилось затруднительнее, сердце сжималось болезненно, он не знал, что сказать.
– Могут же быть на свете двое до того похожих людей! – говорила Эвелина. – Два родных брата! Ах, это ужасно! И это лицо, и этот человек может быть мне чужой: я с ума схожу!
Она открыла глаза, снова посмотрела на него, опустила руки и прибавила слабым голосом:
– Да! Это он.
Вацлав мучился страшно, на лице его написано было страдание. Молодая вдова опомнилась и с большим усилием переменила тон, речь и выражение глаз.
– Извините, – сказала она холоднее, – я не владею собой; страшное испытание послала мне судьба; я уже было освоилась со своим несчастьем, а теперь все ожило снова.
– Надо забыть, – произнес Вацлав, – за минуту ложного счастья вы заплатите новым страданием. Нет болезни без лекарства; время, молитва и терпение заживляют все раны: надо бороться с собой и победить себя.
– Молиться я не умею, терпения не понимаю, борьба с самою собою для меня невозможная вещь, победа убьет меня – я слабее ребенка.
– Надо молиться! – повторил Вацлав.
– Будто Бог занимается нашим дрянным светом, где властвуют только судьба и слепой случай!
Вацлав удивился, встретив в женщине такую нерелигиозность, такие ложные идеи; он хотел оспаривать и показать, как она ошибается; но Эвелина прибавила.
– Вы знаете Вену?
– Я? Я никогда не выезжал из нашей стороны.
– Ни окрестностей Вены, ни Вены, ничего не знаете! А там так прекрасно, так весело! Ах, это одно место на свете, где можно быть счастливым.
– Потому что это ваша родина; а нам так милы деревня, леса и широкие поля, что мы бы их ни на что не променяли.
Эвелина задумалась.
– Вы должны любить музыку! – воскликнула она вдруг. – Вы музыкант?
– Кто вам сказал это?
– Никто; но он любил музыку, он был артист. Ах, – продолжала она, отворяя фортепиано, – позвольте мне мечтать! Позвольте обмануться, сегодня только, один день еще… только завтра… только… сжальтесь над несчастной, не смотрите на то, что с ней делается. Ведь вы играете ноктюрны Шопена, знаете что-нибудь из Бетховена? Ведь вы не пожалеете дать мне милостыню, немного звуков, немножко счастья?..
И она взглянула на него такими умоляющими и полными слез глазами, что у самого Вацлава навернулись слезы; он подошел к фортепиано, сел и, не смотря на нее, ударил по клавишам. Эвелина отбежала немного, упала на диван, закрыла глаза и, рыдая, слушала. Барон в продолжение всей этой сцены стоял незаметно в дверях.
Положение знакомых нам из предыдущего рассказа действующих лиц нашей повести было незавидно. Сильван, которому блеснула было на минуту светлая надежда, особенно бесился, видя, как она разрушается по милости всем им ненавистного Вацлава; зато он и не скрывал своих чувств. Встретив его на улице с бароном, он сжал в злобе кулаки и воротился, не сказав ни слова Цесе, столько же озлобленной и сваливающей свое нерасположение на головную боль. Судя по себе, Сильван был уверен, что Вацлав пожертвует и Франей, и своей любовью к ней для прекрасной Эвелины и ее миллионов, не понимая даже, чтоб возможно было устоять против соблазна денег. Цеся видела в ней соперницу страшнее Франи, и кровь ударяла ей в голову при мысли, что ей не удастся отмстить Вацлаву. Она хотела видеть его у ног своих, чтобы с презрением оттолкнуть его, а тут последняя надежда ускользала из ее рук!! Графиня Евгения, принятая в столице довольно равнодушно, не имея возможности пленить кого-нибудь остатками своих прелестей и сладкими взглядами, затмеваемая дочерью в собственном доме, покинутая мужчинами и приглашаемая уже на тот несчастный диван, где старые барыни привыкли, зевая, забавляться сплетнями, рада была как можно скорее бежать в Дендерово, где хоть изредка мелькал перед ней последний из поклонников, ротмистр Повала, всегда верный, всегда нежный и добросовестно, до упаду, разыгрывающий роль любовника.
Не лучше было положение Вацлава, который, совершенно невинно, по стечению обстоятельств, словно попал в железное колесо машины, угрожавшей раздавить его без всякого сострадания. Цеся, с одной, Эвелина, с другой стороны, мучили его, одна беспрестанным напоминанием первой любви, волнующей сердце; другая своею страшною привязанностью к тени, которую он представлял. Сильван, доведенный до отчаяния, не скрывал своего гнева и открыто нападал на Вацлава, делая ему неприятные упреки. Цеся подсмеивалась над ним и над баронессой, графиня Евгения притворялась, что не видит его и знать его даже не хотела.
Воротясь от Гормейера, измученный сценой, в которой должен был принимать участие, тронутый видом печали почти помешанной вдовы, которую не мог успокоить, не уверенный в себе, дрожа за собственное сердце, Вацлав глубоко задумался, что ему делать, как выйти из этого тяжкого испытания. Одна была самая простая дорога спасения и долга: бросить все, бежать. Другой он не видал, и, предоставленный самому себе, он должен был избрать ее. Оставляя дела ходатаю и банкирам, поручив кому-то выбрать, купить и выслать все, что нужно было для дома, Вацлав приказал укладываться и, не простясь ни с кем, решил бежать в ту же ночь, письмами только объяснив причину поспешности.
Все уже было приготовлено к дороге, когда пришло, наконец, письмо из Вулек, так нетерпеливо ожидаемое, и принудило еще более поторопиться выездом, поразив его новым ударом. Письмо это заключало в себе только несколько слов, облитых слезами. Его писала Франя. Ротмистр, старик Курдеш, уже не жил. Сирота осталась одна на свете и протягивала руки к своему опекуну. Слезы хлынули из глаз Вацлава; он выбежал, как сумасшедший, приказывая привести лошадей, совершенно растерявшись и все позабыв. Не было у него времени ни слова сказать на прощанье Сильвану, ни объясниться с бароном. Занятый одною мыслью о своей страшной утрате, о положении Франи, ее страдании и сиротстве, кинулся он в экипаж и проскакал пространство, разделяющее его от Вулек, ничего не видя, не замечая времени, не понимая, что с ним делается, поглядывая только, скоро ли покажутся знакомые деревья, и он будет встречен вместо радости слезами.
Это было в начале зимы: с шумом, по обнаженной земле, вкатился экипаж на двор, и ни одна живая душа не встретила приезжего.
Влево, в отворенных окнах мелькал свет от погребальных свечей, во дворе господствовала тишина; Вацлав вошел и у порога опустился на колени. Ротмистр уже покоился в дубовом гробу, в своем кавалерийском мундире, в котором велел похоронить себя; седые усы его закрывали опустившиеся губы, а спокойное чело, окаймленное серебристыми волосами, блестело издали мраморного белизною. Выражение лица его доказывало, что он умер без мучений, что свалился, как колос дозрелый, по выражению поэта, что уснул, окончив свой жизненный путь, с надеждой на лучшую, заслуженную будущность. Руки его на груди сжимали крест, который носил он при жизни в сердце, с левого бока виднелась рукоять старой сабли, верного товарища, которую некому было оставить, никому не была она нужна; на шее висел образок Божией Матери, часть доспехов, память битв, попорченных пулями. Вацлав молился еще со слезами, когда почувствовал, что две руки облокотились на его плечо, слабый крик поразил его встревоженный слух, и ослабевшая Франя упала подле него в обморок.
Прибежала Бжозовская, красная от слез, и с ее помощью бедная сирота была отнесена в свою комнатку. Она открыла глаза, сжала руку Вацлава, хватаясь за нее, как хватается утопающий за обломок судна, и воскликнула со слезами:
– Ты мне отец, ты для меня теперь все! Ах, не оставляй меня, Вацлав! Он поручил тебе меня, сироту, сироту!
И она зарыдала.
Бжозовская стала приводить ее в чувство, утешать и сердиться. Печаль ее не была похожа на страдания дочери!
– Умер ротмистр, – воскликнула она, – и я его жалею, но ведь таков порядок вещей на свете!.. Что же? Не думала ли ты, что он станет жить века вечные? Ну, и мы умрем! Будьте же благоразумны: вы, Вацлав, вместо того чтобы успокоить ее, сами хнычете! Ну чем тут пособить: ведь уж его не воскресим!
Никто не слушал обычного ворчанья Бжозовской; молодые люди, прижавшись один к другому, в самих себе искали утешения. Старая приятельница между тем, несмотря на горе, уже приготавливала, и как можно скорее, есть и пить, плач прерывая распоряжениями, приказания мешая с жалобами.
Так прошел этот памятный, протянувшийся далеко за полночь день, потому что Бжозовская взяла попозже Вацлава к себе и стала рассказывать ему последние минуты старого конфедерата.
Ротмистр почти не хворал; до последнего дня он ходил, хозяйничал, суетился, не думал ложиться в кровать, хоть и говорил, что чувствовал как будто изнеможение, был сам не свой и ослабел. В последний вечер он пожелал раньше лечь, приказав приготовить себе ромашки, которая была его обыкновенным лекарством. Видно, у него было уже какое-то предчувствие, потому что, прощаясь с Франей, он благословил ее и мужичку, который прислуживал ему, велел лечь подле себя. В полночь он проснулся, жалуясь, что его давит что-то в груди; позвали дочь и Бжозовскую. Ротмистр поднялся и с тем ясновидением умирающего, которое в былое время так часто предупреждало смерть, совершенно весело попросил позвать священника, за которым тотчас же и послали. Напрасно старались его разубедить; он позволял говорить все, что угодно, но делал свое. Распорядился, на каких лошадях и кто поедет за викарием, какую должно взять бричку, чем покрыть ее, а сам стал молиться и делать остальные распоряжения.
Беспрестанно ему приходило на мысль что-нибудь новое, боясь, чтобы в суматохе не забыли. Как бывало в былое время почти у всех людей, полных веры, у ротмистра к торжественному дню смерти все было давно приготовлено. Сухой дубовый гроб, наполненный хмелем, стоял в кладовой на чердаке, в сундуке были отложены наряд со времен еще конфедерации, сабля, деньги на погребение и свечи на панихиду, священнику и на церковь.
– Хлопот со мной не будет, – говорил ротмистр, – потому что я не сегодня готовлюсь к этой дороге. Вот за этим ключиком найдется пять свертков денег, в сундуке есть свечи. Для процессии запрячь старых лошадей, только чтобы этот негодяй Грыцко не вздумал в дышло закладывать чалого, потому что я знаю вперед, что в воротах на кладбище он натворит хлопот, да и с норовом он, потом его и не перепряжешь.
Он толковал долго, распорядился решительно всем с удивительным присутствием духа, посреди тихой молитвы беспрестанно говорил что-нибудь.
– А панна Бжозовская, – сказал он, – вы найдете в бумагах доказательство, что я сумел оценить сердце ваше и ваше расположение к нам.
– Ах, уж наплели вы пустяков, ротмистр! Зачем призывать смерть! Оставьте это! – и, зарыдав, Бжозовская выбежала из комнаты. Старик через минуту позвал ее снова.
– Моя Бжозося! Пошлите сейчас «за Вацлавом, пусть приезжает, пусть женится, несмотря на траур, я разрешаю и приказываю. Вместе будут траур носить, если захотят, а сироте, может быть, не так тяжелы покажутся первые минуты разлуки. О судьбе Франи я спокоен, Бог милостив. А на поминках, – прибавил он, – не пожалейте дать старого меду; для важнейших гостей достаньте из погреба, на левой стороне, венгерское; только давайте его немного, умеренно, жаль его: ведь бутылка-то стоит, мало, по дукату.
Старик говорил до приезда священника, с которым толковал еще после исповеди, наконец на него напала дремота. Он лег спать, чувствуя изнеможение. Все разошлись, он заснул спокойно, но уже навеки; на другое утро нашли только холодный труп.
Печаль Франи была ужасна: в ней было что-то безотрадное, страшное, чего не могли умерить даже утешения посторонних, напоминания священника, слезы и время. Она была как путник, который вдруг остался без товарищей, один, посреди глухой пустыни. Все чувства утонули на некоторое время в этом одном страдании. Вацлав застал ее еще не спокойною, в беспамятстве и уже не мог отойти от нее ни на минуту, опасаясь за здоровье и даже за жизнь своей возлюбленной.
Когда отвезено было на Смолевское кладбище тело ротмистра, а его домик и дворик опустели, наступила опять минута, когда Фране тяжело было осваиваться с новою жизнью, а бежать было некуда. Вацлав, повинуясь воле умершего, должен был поспешить со свадьбой. Между тем ничего не было приготовлено в Пальнике, нигде не было удобного помещения, и, если б не Бжозовская, Вацлав отложил бы еще свою грустную свадьбу. Но Бжозовская, ухватясь за слова покойника, радуясь, что хоть по смерти он поддерживает ее своим завещанием, завертелась около жениха и невесты и кое-как заставила их ехать в Смолев венчаться. Никто не был приглашен, гостей не было, не было исполнено обыкновенной старой обрядности. Вацлав только признал нужным съездить накануне к дяде.
Граф знал уже обо всем, и, правду сказать, никогда смерть старого Курдеша не была бы для него так кстати, как теперь, потому что дела и долг в двести тысяч переходили теперь к Вацлаву, а с ним легче и лучше было ладить, чем со старым шляхтичем, покорным, вежливым, но твердым как кремень. Радуясь в душе, что судьба сняла с его плеч такую тяжесть, Сигизмунд-Август, однако же, при встрече с Вацлавом отер слезы на сухих глазах, вспоминая ротмистра.
– Какую же утрату мы понесли! – воскликнул он. – Родные, уезд, чуть не весь край! Это был остаток былого времени, памятник и свидетель прошлого! А какой почтенный человек! Боже мой, как жаль. И умер так внезапно! Уж, наверно, никто искреннее меня не оплакивает его.
Вацлав принял этот надгробный панегирик молчанием, а граф в ту же минуту перешел к другому предмету, стал заботливо расспрашивать его о Сильване, о его проекте, о бароне. Не многое мог рассказать ему приезжий, не желая вредить двоюродному брату, ухаживанье которого за молодой вдовой казалось ему мечтой. Немного также знал он о бароне, и только догадками о его положении мог удовлетворить любопытство графа.
– Признаюсь тебе, мой любезный Вацлав, – сказал в заключение граф, – я не очень доволен Сильваном. – Этот таинственный барон, это богатство, эта дочь, которая выдает себя вдовой, черт знает по ком… все это не нравится мне. Лучше было бы что-нибудь попроще, да свое, чтобы можно рассмотреть яснее. А Цеся, а графиня что там поделывают?
– Покупают, – сказал Вацлав.
– Были у этого барона?
– Были.
– И он у них?
– С дочерью. Сильван влюблен до безумия, а вдовушка…
– А вдовушка в него?
– До сих пор, кажется, нет; слишком свежо еще воспоминание о первом муже.
– А он положился на свое благоразумие, меня не слушает; пусть делает, что хочет, я ничего хорошего в этом не предвижу.
Через минуту граф отвернулся вдруг и, подумав несколько, сказал Вацлаву:
– Вот что значат предположения и решения человеческие. Почтенный ротмистр, незадолго перед своею последнею болезнию, сделал было со мною почти решительный уговор, только написать его мы не успели; все лопнуло.
– Уговор? Какой? – спросил Вацлав.
– Ты, вероятно, знаешь, что я должен ему небольшую сумму – двести тысяч. Насчитано это Бог знает как, я всегда был слишком снисходителен! В конце концов я должен эти двести тысяч. Покойник ротмистр непременно захотел взять у меня деревеньку… ты ее знаешь? Цемерня – между Вульками и Пальником. Не хотелось отдавать ее, потому что она нужна мне: лучшая деревенька в поместье; но для него, как стал просить меня, должен был согласиться. Теперь, слава Богу, я освобожден от уговора, разве бы…
Граф не докончил, словно уже слишком проговорился.
Вацлав понимал очень хорошо, что дело шло об уничтожении долга потерей ничего не стоящей ему деревеньки; в настоящую минуту вещь была для него решительно не занимательная, и он небрежно ответил:
– Да ведь уговора никакого не было!
– Конечно, на бумаге не было никакого, но у меня и слово свято! Это будет зависеть от тебя, Вацлав. Если ты захочешь заставить меня исполнить уговор – я готов, если уволишь – буду рад.
– Увольняю, граф, увольняю, – сказал племянник.
– По правде, – добавил Дендера, – хоть и против себя говорю, должен тебе признаться, так велит совесть, ты потеряешь много. Покойник в денежных делах был не промах! Го, го! За пояс заткнул бы любого. Он хорошо знал, что такое именьице, соединяющее твой Пальник с Вульками, было золотым яблочком. Цемерня, хоть и маленькая деревенька, но спроси, чего там недостает? Лес, луга, поля… какие поля! Вода, мельница, сто душ: но в каком положении люди! По сто дукатов за душу в таком положении не дорого.
Вацлав молчал. Мучило это графа, который воспламенялся, усиливаясь убедить Вацлава в необходимости приобрести Цемерню, стоющую едва половину того, сколько он намеревался взять за нее. Молодой человек думал о чем-то другом, оплакивая недавнюю потерю и назавтра готовясь начать новую жизнь, и не слышал половины тех прекрасных вещей, какие текли неудержимым потоком с уст графа.
– Не станем говорить об этом, – сказал наконец Вацлав, – я приехал сюда не по делам; сделаю, как будет вам удобнее, граф, будьте уверены. Сирота, я приехал за добрым словом и пожеланием главы семейства на завтрашнюю свадьбу.
– Завтра? Завтра женишься? – воскликнул граф, обнимая его. – Да благословит же тебя Бог! А меня на свадьбу не приглашаешь?..
– Я никого не приглашаю, граф, свадьба эта покрыта трауром, на свежей еще могиле. Я не хочу посторонних глаз, которые могли бы показаться моей Фране неприятным укором.
– Ну, как знаешь, как тебе лучше! Ты сделал славный выбор; счастье несомненно! Желаю тебе всякого добра, долгих лет и многочисленного потомства! – прибавил он с улыбкой. – Но прошу привезти мне жену после свадьбы.
Так кончился этот церемониальный визит, которым, не теряя времени, хотел уже воспользоваться старый проныра, стараясь навязать Вацлаву Цемерню за тяготивший его долг. Он рассчитывал, что расплатясь за двести тысяч ротмистра деревенькой, без которой поместье Дендеровское всегда могло остаться поместьем, хотя с горем пополам и увертками, мог выдержать кризис, не сбрасывая маски и по-прежнему оставаясь барином. Ротмистр Повала обещал подождать, старшие кредиторы удовольствовались бы прибавками, Фарурей не мог и пикнуть о том, что дал в долю на волов и винокурню. Сверх того, граф намеревался около двенадцатого января захворать смертельно и не раньше встать с кровати, как по миновении срока уплат, отговориться болезнью, свалить вину на поверенного и так протянуть еще на год образ жизни, к которому он привык. Рассчитывал, кроме того, на женитьбу Сильвана и капиталы невестки; на Цесю и ее мужа, на Вацлава, на все, к чему только можно было прицепиться, и решил прежним порядком держать себя большим барином.
Он распускал уже вести, поверяя каждому под страшнейшим секретом, что Цеся выходит за Фарурея, который будто бы поручает ему управление всеми имениями и делами, не чувствуя себя способным к этому; что Сильван женится на кузине Шварценбергов, за которой берет миллион рейнских в одних драгоценностях, не считая поместий, и т. д. Люди всегда легковерны и, сказав себе, что в каждой лжи есть хоть немного правды, начинали опять ждать терпеливее, рассчитывая на блистательные надежды графа.
Ранним зимним утром, прекрасным и светлым, экипаж Вацлава остановился перед домиком в Вульках: он должен был отвезти молодую чету в церковь в Смол ев, где ее уже ожидал викарий. Это было в будни. Никого нельзя было ожидать в городок, кроме нескольких любопытных да стариков, сидящих у дверей, а молодых провожала одна Бжозося.
Для нее это было истинным торжеством: она суетилась целую ночь, бранилась утро, не дала людям глаз зажмурить, жаловалась, смеялась, плакала, хлопала в ладоши и от времени до времени вздыхала о душе ротмистра; но, похоронив уже его однажды и осушив искренние слезы печали, теперь вся она занялась счастьем и больше всего кухней молодых.
Разрядившись необычайно, она вышла вместе с ними на крыльцо, а когда оба они упали к ее ногам, прося благословения, расплакалась еще раз, расцеловала их и торопила сесть в экипаж. Она, может быть, боялась еще, чтобы этой, так желанной свадьбе что-нибудь не помешало; а мысленно опережая и свадьбу, и несколько лет после свадьбы, была уже занята воспитанием деток, которых ожидала с нетерпением.
Дорога в Смолев прошла в молчании, так хорошо была она им знакома и так печальна теперь, и так свежа еще печальным воспоминанием; одна только Бжозовская, отгоняя печальные мысли, смеялась и наслаждалась чистою радостью благородного сердца, умеющего покориться воле Божией и философски принимающего все, чем земля кормит своих детей.
Как скоро Франя омрачалась воспоминанием об отце, Бжозовская громила ее без церемонии:
– Да перестань же плакать! Когда же это кончится? Помолиться хорошенько – прекрасно, поплакать, отереть слезы и дальше в путь. Господь Бог сотворил нас для труда, а не для хныканья! Вот есть, слава Богу, чем тешиться, чем наслаждаться, за что благодарить Бога; лучше об этом думать, чем портить свое здоровье и выплакивать глаза.
Если она не утешала этими простыми выражениями Франю, по крайней мере, облегчала ее страдания примером своей покорности судьбе.








