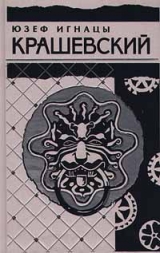
Текст книги "Комедианты"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Эдуарду К…, причисляющемуся еще к молодежи, хотя он был уже совершенно лысый и сохранил только половину зубов, было лет за сорок. Это был оригинал своего рода; издали он казался сорванцом, гулякой, бездельником и мотыгой; но в сущности носил только на себе современное платье. У него недоставало сил быть самим собой перед светом; но свет еще не испортил его окончательно; он не был дурен, был только слабодушен. Он любил труд и ничего не делал, потому что над трудом смеялись его окружающие, трудился он иногда украдкой, потихоньку; он любил уединение и позволял втягивать себя беспрестанно в кутеж, насмехался, хотя не имел никаких способностей насмехаться, притворялся, что сорит деньгами, когда гораздо охотнее готов был бы поделиться с бедняком; словом, разыгрывал роль испорченного и пустого человека, не будучи вовсе таким. Лень, слабодушие и трусливость одели его в это неудобное для него платье. Его считали даже одним из самых испорченных людей в отношении к женщинам, хотя, на самом-то деле, Эдуард только раз в жизни был влюблен. Эдуарду К… приписывали тысячу любовных интрижек, о которых ему и не снилось. Таким образом прошла молодость Эдуарда К… Он оплешивел, состарился и, не собрав сил быть самим собой, влачил, бедняк, свои дни до конца… Между тем свет считал его одним из счастливых кутил, жизнь которых плывет золотистой струей наслаждений, и указывал на него как на героя гостиных, как на любовника прекраснейших женщин, как на человека разочарованного, холодного, испытанного, разбитого всевозможными наслаждениями. О, ошибочность человеческих мнений! Этот герой, этот соблазнитель и лев столицы, плакал ямолился на коленях у капуцинов, а если его видели выходящим из церкви, он с улыбкой говорил, что искал там какую-нибудь М…, или 3…, или, наконец, какую-нибудь гризетку. Роль, какую он раз навсегда принял на себя, и ложная гордость не позволяли ему сознаться в правде. Так было во всем: если он шел отыскивать бедняка, которому помогал, деля с ним последнюю копейку, думали, что он отыскал на чердаке черные глазки девчонки, пленившей его молодостью и красотой свежести; если он вступался за приятеля или защищал женщину, рассказывали, что он дрался за карты, за актрису и т. п. Не многие знали Эдуарда таким, каким он был в самом деле. Как всякая борьба в жизни, хоть и бессильная, участь Эдуарда была печальна: каждый день был запечатлен в его памяти страданием, но, по обязанности своей роли, он притворялся веселым и всем улыбался.
К этому-то бедняку, мнимому счастью которого завидовали столько людей, побежал на другой день Сильван с расспросами о бароне. Эдуард был знаком ему довольно близко: они обедали не раз вместе, выкурили вместе десяток сигар и с последнего завтрака у Флато, на котором было раскупорено несколько бутылок шампанского, называли друг друга по имени. Эдуард, хоть и имел достаточные средства, жил скромно и столько еще имел сил, что принимал гостей редко, любя уединение: раз только в неделю принимал знакомых на чай.
Сильван, которому хотелось непременно видеть Эдуарда, выбрал очень раннюю пору и приступом прошел в комнаты. Эдуард в замешательстве быстро спрятал под подушку кресла книгу, которую читал, взял в руки роман, приготовленный заранее на подобные случаи и ни разу не перелистанный, и таким образом встретил Сильвана.
– Я немножко нездоров, – сказал он, – от нечего делать взял какую-то книгу-
– Извини, что нарушаю твое спокойствие, – воскликнул смело граф, – деревенскому жителю можно кое-что простить. Мне хотелось застать тебя непременно.
– Садись, сделай одолжение; не хочешь ли сигару?
– Благодарю, я ненадолго.
– Чем же могу тебе служить?
– Буду откровенен, – сказал Сильван, – на дороге в Варшаву я встретился с каким-то бароном из Галиции и его хорошенькой дочерью. Признаюсь тебе, что барон, барон как барон, но чудная Эвелина заняла меня чрезвычайно. Вчера я видел тебя с ним в карете: ты знаешь, стало быть, где он живет? Знаком с ними? Можешь мне сказать о них что-нибудь?
Эдуард посмотрел с улыбкой на графа и пожал плечами.
– И знаю, и не знаю их, – ответил он, – живут на Медовой улице, около дворца Паца. Барон привез мне письмо от графа 3. из Львова; вот все, что я о нем знаю. Приятель мой рекомендует его как очень порядочного человека, занимающего очень хорошее место при австрийском дворе, богатого и имеющего дела в Варшаве. Через письмо я и познакомился с бароном.
– Но кто же он такой? – спросил Сильван. – Помещик из Галиции? Сановник? Какие у него связи?
– Все это тайна, – сказал Эдуард, – вчера М. говорил мне, что ему кажется, будто он видел этого барона в Вене, но не припомнит, в какой роли и где.
– Барон же должен был сколько-нибудь высказаться?
– Ровно столько же, сколько сказано было в письме, – ответил Эдуард, – да, признаюсь, я и не любопытствовал – не расспрашивал его.
– Видел ты баронессу?
– Видел.
– Очень хороша! Прекрасна! Не правда ли?
– Хороша; но мне она не очень понравилась: она слишком горда, равнодушна и холодна для своих лет.
– Они станут здесь выезжать? Принимать? Заведут какое-нибудь знакомство?
– Я замечаю, что барону хочется этого; я представлял его везде; он нанял большой дом и устраивает его на барскую ногу. Мне кажется даже, что он совсем поселится в Варшаве.
– Я бы попросил тебя когда-нибудь вместе со мной поехать к ним, – прибавил Сильван.
– С удовольствием! – поспешил ответить Эдуард.
На этом и кончился разговор, из которого Сильван не много, собственно, узнал нового, но утешал себя мыслью, что по нитке скорей доберется до клубка.
В Дендерове, по отъезде Сильвана, ничто не изменилось: отсутствие его не было даже заметно. Граф, сам отправивший сына на эту охоту за женой, засыпал тоЛько спокойнее, рассчитывая, что сын воротится с приданым, что невестка может своими деньгами поправить его дела; он стал бодрее, нетерпеливо ожидая известий. Точно так же, с другой стороны, замужество дочери с Фаруреем принял он за спекулятивное средство, из которого должно что-нибудь извлечь; понемножку он стал намекать будущему зятю, что его имения мало приносят ему доходов, что они в руках дельного человека могли бы дать вдвое больше, и указывал для сравнения на свои поместья. Старый юноша улыбался, но, казалось, не понимал, к чему это клонилось, весь занятый боготворе-нием Цеси. А Цеся, которая дала себе слово, что она покорит Вацлава и приведет его к своим ногам, трудилась потихоньку над планом; но до сих пор, впрочем, ей еще ничего не удавалось.
Она очень обрадовалась, когда в один вечер граф за чаем объявил жене и дочери, что он желает собраться с визитом в Вульки, к Курдешу. Поводом к этому он выставлял, что Франя скоро выйдет за Вацлава и станет, следовательно, их родственницей, что эту любезность необходимо сделать для Вацлава; на самом же деле он думал только, как бы поддеть старого шляхтича, не зная, чем заплатить ему его двести тысяч. Графиня сильно поморщилась на распоряжение мужа, не скрывая своего нерасположения к Вацлаву и полного равнодушия к семейству шляхтича; но Цеся живо ухватилась за эту мысль.
– О, едем, едем! – воскликнула она. – Я уже так давно сгораю любопытством… увидеть эту красавицу Франю, в которую и Сильван был влюблен, от которой и Вацлав с ума сходит… Простая девушка… это должно быть что-нибудь особенное, или красотою, или умом…
Граф рассмеялся.
– Сильван не был в нее влюблен, но хотел за ней поволочиться, – сказал старик, заботясь о чести своей фамилии, – что же касается до Вацлава, тот просто-напросто влюбился в первую встречную… Меня удивляет, что он не женится на твоей горничной…
Цеся молча покачала головой; графиня не противоречила, не сопротивлялась; она смотрела равнодушно на визит: его хотел граф, его хотела дочь, стало быть, так и следовало. Решаясь оказать такую честь домику шляхтича, Дендера не мог даже не подумать, как бы немножко кольнуть его и дать ему почувствовать, какая пропасть разделяет их. Приказано было вследствие этого вытащить карету, шоры, парадные ливреи, а графиня и Цеся не пожалели на свой наряд бриллиантов и украшений.
– А, – думала Цеся, – наконец я узнаю ее, этого опасного врага, эту сельскую красоту, из-за которой эти господа теряют голову. Любопытно, любопытно! Хотела бы я застать там Вацлава, чтобы он мог сравнить нас обеих и чтобы сердце его сжалось такою же болью, какую испытала я по его милости!
Обедали в этот день раньше обыкновенного; граф сам осмотрел экипаж и наряд жены и дочери, и когда поехали, пустил клуб дыму из трубки, которую курил в ознаменование радости, что выдумал такое великолепное средство поддеть Курдеша. Омрачалось только его чело при мысли, что графиня обойдется там, пожалуй, не слишком любезно и оскорбит; но его успокаивало несколько то, что он дал особенную инструкцию Цесе, которая, казалось, поняла его.
Наконец семейство графа, ехавшее в глубоком молчании, увидело Вульки и маленький домик, кажущийся таким плохим после дендеровского дворца, и в ту же минуту стоящая посреди кур и цыплят Бжозовская заметила экипаж; сначала она не поверила своим глазам; когда же убедилась, что экипаж едет прямо на двор, она чуть не умерла от суеты и испуга. Никогда еще такие нарядные гости не навещали пана Курдеша! Карета, шесть лошадей! Лакеи в галунах: где все это поместить, принять, посадить! Прибавим для лучшего пояснения испуга панны Бжозовской, что в первой, параднейшей приемной комнате, как в самой сухой и теплейшей, сушилась только что привезенная пшенная мука, рассыпанная на скатертях на столе, на полу и даже на диване, и что в сенях свалено было множество полученных от кожевенника ремней, что перед крыльцом шумела разная домашняя птица, а посреди двора, на веревках, сушилось, разноцветными группами, выстиранное белье. Бедная Бжозовская не имела смелости по-шляхетски, с известною гордостью, принять гостей посреди этих знаков труда, хозяйства и экономии; она крикнула: «Езус, Мария, Юзеф!» и вбежала к Фране, не будучи в силах сказать об угрожающей опасности и только рукой указывая в ужасе на дорогу. Франя подумала, что случилось какое-нибудь большое несчастье, вскочила с места и просто не знала, что делать.
– Спасите, кто в Бога верует! – воскликнула, наконец, Бжозовская. – Несчастье!
– Какое несчастье? – спросили Вацлав и Курдеш, случайно сидевшие в комнатке Франи, вскакивая один с сундука, другой со скамьи.
– Ужасы! Ландара note 24Note24
Ландара – дорожная карета.
[Закрыть], шесть лошадей, галуны, карета, какое-то графство, прямо, прямо! А тут гуси, мука, ремни, белье и Франя в ситцевом платье!
Мужчины кинулись к окнам, догадываясь, в чем дело; Вацлав узнал дендеровскую карету, лошадей и прислугу. Ротмистр вспомнил о муке в приемной комнате и кинулся с Бжозовской убирать ее, призывая на помощь всех, кто жил в доме. Но, несмотря на все усилия челяди, графиня въехала как раз на самую страшную неурядицу, которая была сто раз смешнее первого хозяйственного беспорядка: на разгон домашней птицы, срывание белья и рассыпание муки в сенях. Эта несчастная мука, причина слез Бжозовской, просыпалась в то время, как Алек и Магда выносили ее, и как раз при входе графини поднялась в тесных сенях огромным облаком пыли.
Некогда было уже вытирать, и xoih запасы для Святой недели сушились очень осторожно, везде были подложены скатерти, но мука все-таки оставила по себе следы. Большой стол был весь в белых полосах, на диване мука лежала несколькими кучками, а пол обнаруживал род белья, какое было тут разостлано. Бжозовская кинулась со всех ног бежать; несчастье это так ее поразило, что она, схватив под мышку ремни, полетела с ними не в людскую, а через крыльцо и, встретясь с Цесей, всю свою ношу грохнула к ее ногам. Только Курдеш не потерялся: он надел поспешно кунтуш и легкий пояс, выбежал быстро к экипажу и, не обращая внимания ни на что, ввел графиню в свой домишко, с тысячью низких поклонов и утонченных благодарностей. Фране посоветовал не переодеваться, Вацлаву моргнул, чтобы он шел к нему на помощь, и, притворяясь, что не видит улыбок графини и язвительных гримас Цеси, начал откровеннейшее объяснение.
– Извините, ясновельможная графиня, что застаете в таком беспорядке наш домишко, не привыкший к таким достойным гостям. У бедного шляхтича обыкновенно: теснота и недостатки. Видите… мы сушили муку.
«Это весьма заметно!» – подумала графиня и стала сквозь зубы хвалить деревенскую жизнь. Цеся оглядывала любопытным взором все, схватывала малейшую особенность, язвительно поглядывала на краснеющего Вацлава и ждала появления Франи.
Франя, перекрестившись, в смертельном страхе и, по совету отца, не переменив наряда, который был скромен, но приличен, напутствуемая киванием головы Бжозовской, вошла в комнату. Глаза обеих барынь уставились на нее вопросительно, с любопытством и безжалостно-насмешливо; а через минуту Цеся, вероятно, не без задней мысли подошла к Фране с необыкновенною любезностью.
Вацлав в замешательстве поглядывал на свою возлюбленную, как бы готовясь явиться к ней на помощь; он боялся Цеси, дрожал за Франю, беспокоился о своем и ее положении. Невольно, однако же, ему пришлось сравнить эти два существа, сблизившиеся случайно, из которых одно так странно мучило его, другое так нежно любило. Может быть, на это сравнение Цеся рассчитывала и нарочно вызвала его; она была одета с рассчитанным эффектом, с кокетством, с неподражаемым искусством: сердце и самолюбие одевали ее для этого посещения. На ней было белое платье с розовыми лентами; на шее жемчуг, в волосах розы и на красивой маленькой, открытой до локтя ручке, два браслета. На лице ее выражались печаль и задумчивость, а вся ее фигура была так полна аристократической прелести, что подле нее бедная, румяная, свежая, несколько сконфуженная и не так тщательно одетая Франя должна была показаться простой, деревенской девочкой… и только. Лицо и черты Курдешанки были гораздо правильнее личика графини, но простота дошла уже до чего-то слишком обыкновенного. Цеся была смела, самоуверенна, не конфузилась; Франя упала под бременем непривычного положения. У первой слова лились потоком; у второй мысль блуждала долго, пока наконец вырывалось какое-нибудь обыкновенное словечко. Вацлав посмотрел и вздохнул, сознавая превосходство той, у которой не было сердца, над бедным ребенком, полным чувства, по потерявшимся от страха.
Уверенная в победе, Цеся не пускала уже от себя Франю, и когда Курдеш занимал графиню рассказами об умолоте пшеницы и урожае конопли, она старалась ободрить Франю, привлечь ее к себе и расположить к откровенности. Дочь ротмистра мало-помалу приходила в себя, но осталась простым дитятею деревни, наивным, не умея сойтись с Цесей ни на одной общей мысли, не умея ни примениться, ни сблизиться с ней, как сближаются иногда самые противоположные идеи и понятия.
А являемся мы все из одной колыбельки; но как изменяют нас люди, свет, первые наставления, первые чувства, затрагивающие наше сердце! Как два луча из одного огня, вылетаем мы в пространство, в котором чем далее гонит нас предназначение, тем дальше расходимся мы, не будучи в состоянии уже никогда соединиться. Франя не понимала Цеси, более развитой, глядящей на свет с насмешливой и язвительной улыбкой. Цеся чувствовала сострадание к Фране, беззащитной, пугливой, слабой, несмелой, которая казалась ей ребенком.
В первой на пепелище погасшего чувства светился холодный рассудок и опытность мысли: она прошла уже все, искупалась во всех лужах; в другой кипело чувство, стыдливое и скромное, не умеющее высказаться. Цеся была вся искусственная, Франя была только собою; первая знала лучше свет и человека; вторая – природу и Бога.
Почти каждое слово Франи было смешно для воспитанницы дворца; каждое выражение Цеси – непонятно дочери ротмистра. Вацлав со страхом глядел издали на завязывающийся между ними разговор, рассеянно помогая Курдешу занимать графиню. Цеся между тем пользовалась временем; она стала сладенькой, ласковой и, искуснее Франи настроившись на деревенский лад, понемногу стала расспрашивать деревенскую девушку. Ничто не ускользнуло от ее внимания, во всех отношениях она сумела затронуть чувствительнейшие струнки сердца, самые дорогие убеждения, скрытнейшие надежды; и по-женски также оглядела ее, от красных ручек до роскошной черной косы. Она осознала себя по уму во сто крат выше той, которая отняла у нее Вацлава, да и по наружности также не чувствовала себя побежденной.
– Она немного свежее меня, – сказала она самой себе, – но какая неловкая фигура, какая походка, как она не умеет пользоваться тем, чем наделила ее судьба! Ни ума, ни кокетства; разве только молодость, разве только деревенское здоровье делают ее такою привлекательною, – не понимаю! Не понимаю!
Цеся, осмотрев так свою соперницу, утешилась мыслью, что легко будет отнять у нее Вацлава; несколько раз среди разговора она изменнически поглядывала на негj, когда Франя отвечала несмело или не совсем удачно; видела, как лицо его покрывалось румянцем, и упивалась этой каплей мщения.
Вацлав вовсе не был рад неожиданному посещению графини; он предвидел его последствия, догадывался о поводе и удивлялся хладнокровию Курдеша, с каким тот рассыпался перед графиней, уверяя ее, что величайшим счастьем его домишку есть посещение таких достойных особ.
Не ладилось сильно в гостиной, и Бог один только знает, что делалось с Бжозовской посреди приготовлений к чаю. Никакая человеческая сила не убедила бы ее отказаться от желания показать все серебро, фарфор и издавна стоявшие в пыли драгоценные принадлежности, которыми она хотела непременно похвастать. Она вытащила все, что только было в доме; к чаю прислала и жаркое, и картофель, и фрукты, и масло, и фиги, и изюм, и варенье, и арак, и наливки, и все, что только нашла. Не было стола, на котором бы поместилось все это, но над этим не остановилась Бжозовская. Франя и Вацлав как-то осторожно и незаметно спрятали часть этих ненужных яств, которыми можно бы было насытить десятерых проголодавшихся солдат, и во всем этом, по крайней мере, не было ничего слишком неприличного. Наконец Курдеш, отлично умея держать себя в своем положении, откровенным сознанием в неведении света и его обычаев поправил, что могло показаться глазам и желудкам графским невкусным.
Цеся в продолжение всего посещения была с излишком предупредительна и любезна к Фране; и так как ее легко было увлечь, вытянула из нее все, что хотела: узнала ее, разгадала, поняла и поглядывала торжественно на Вацлава, как бы говоря:
– Теперь ты мой; не увернешься от меня!
Посещение протянулось довольно долго, и уже темнело, когда наконец после чаю графиня встала, чтобы проститься с хозяином. Согласившись посетить Вульки, которые не представляли для нее ни малейшей занимательности, удовлетворив сразу свое любопытство, графиня просидела этот вечер, слушая с примерным терпением Курдеша, который, сидя с приличным уважением на кончике стула, занимал ее разговором, каким умел: патриархальным, пасторальным, хозяйственным, об овощах, рогатом скоте и т. п., думая, что это займет кокетку, которой надоел и свет, и сама она, и приближающаяся старость. Графиня отвечала ему полусловами, головой, рукой, не принуждая себя слишком, но соблюдая вежливость. Неразговорчивость свою она сейчас же сложила на головную боль: ее обставили водами, водками, лекарствами, ухаживали за ней, бегали. Ничто, очевидно, не помогло; но неразговорчивость была оправдана.
Цеся, напротив, была оживлена, разговорчива, увлекательна, любезна с Франей и пленила ее этой комедией, которой ребенок и не подозревал. Вацлав, как на горячих угольях, не имел времени предостеречь Франю и видел между тем, что она слишком откровенна, а по улыбке графини, мелькавшей на ее губах, словно вечерний ветерок, догадывался, сколько наивных признаний сделала Франя. Курдеш потел, отирал каждую минуту лицо, мучился, но до упаду занимал графиню, а неподражаемая Бжозовская, не показываясь и оставаясь за кулисами, суетилась, как ошпаренная, кормила всех, поила и ставила вверх ногами весь дом, чтобы поддержать честь ротмистра.
Она дала кучерам и лакеям целую бутыль водки, кушанья двойную порцию и, отирая фартуком раскрасневшиеся щеки, повторяла:
– Пусть знают! Это баре, но уж верно у них так не примут! Пусть знают! Вот как!
Наконец посещение это, как все на свете, кончилось; задвигались кресла, хозяева засуетились, принесены салопы и платки. Курдеш торжественно под руку вывел графиню, Цеся расцеловала Франю, приглашая ее в Дендерово… и обитатели Вулек вздохнули свободно, когда увидели карету за воротами. Курдеш, с пересохшим горлом, опустился на лавку на крыльце. Вацлав оперся о притолоку и задумался; Бжозовская прибежала, торжествуя.
– А что? Худо было? – воскликнула она. – Не хвастаясь, ей Богу, ротмистр, если б не я, вы бы никогда не сладили. Уж, надеюсь, мы не поскупились: кушанья множество, во всем избыток; пусть знают! А прислугу их напоили так, что все танцевали на дворе; а один, должно быть, хорошо напился, когда, невежа, старую Магду так расцеловал, что она до сих пор не может прийти в себя…
– Спасибо, Бжозося, – сказал медленно Курдеш. – Все было прекрасно; но если бы пришлось так еще раз, не отдохнувши, например, завтра, принимать опять бар…
– Так что же? Разве у нас недостало бы чего-нибудь? – прервала его Бжозовская.
Ротмистр только вздохнул. Франя подошла к Вацлаву:
– Как она мила! – произнесла она. – Какая предупредительная, очаровательная, а ты мне ничего не говорил о ней.
У Вацлава лицо запылало огнем; он не знал, что ответить.
– У нее, должно быть, прекрасное сердце, – прибавила Франя. – Как она приглашала меня к себе, сколько мне обещала вещей, как ее занимала малейшая безделка, как она слушала, что я рассказывала ей о себе! Право, я не могу приписать этого ничему иному, как ее родственному расположению к тебе.
– А я так боялся, – сказал Вацлав потихоньку.
– Чего?
– Она немножко насмешница; ты так доверчива, у тебя такое ангельское сердце…
– Да над чем же бы ей насмехаться? – спросила Франя. – Фи! Вацлав, не хорошо так черно глядеть на людей, осуждать и не верить! А я ее полюбила… И если б папаша позволил, охотно поехала бы к ним в Дендерово.
– Пойдем, дитя мое, – сказал старик. – Надо отдохнуть немного…
Он отер пот с лица. Бжозовская поглядела на него чуть не с состраданьем, пожала плечами, недовольная, может быть, что ее труд не оценен достаточно, и, бормоча что-то невнятно, ушла.
Спустя несколько дней Вацлав сидел с Франей на крылечке в Вульках и потихоньку, опять спокойно, говорил с ней о будущем, о котором мечтали они оба, которое оба усиливались отгадать. Как будто можно когда-нибудь отгадать будущее! Нет, судьба смеется над нашими неудачными расчетами; пусть они будут даже так многочисленны, так разнообразны, как превратности судьбы, и тут найдет она дорожку, которая проскользнет между нами. И, однако же, кто не сочиняет будущности? Это развлечение, как и другие; мы проигрываем в эту игру сто раз и сто первый опять ставим нашу ставку. Приятно мечтать, хотя бы только на мечтании пришлось и остановиться!
В картину этой светлой будущности входили и Вульки, и Пальник, и старый ротмистр, и почтенная Бжозося, и книги, и музыка, и помощь бедным, и исполнение последней воли Вареля. Франя, хоть и притворялась довольно хладнокровной, терзалась, однако ж, что Вацлав по воле отца и по делам должен был скоро уехать в Варшаву; но она молчала. Вацлав, послушный желанию ротмистра, хоть и отгадывал мысли Франи, хоть готов был бы для ее спокойствия принести величайшую жертву, должен был исполнить приказание Курдеша: собирался исподволь.
Франя, хоть избалованная, хоть часто своевольная, умела покориться непреклонной воле отца; удивленная холодностью и недоверием его, которые принуждали Вацлава к испытанию, она все-таки чувствовала в них боязнь родительского сердца и слишком сердиться на них не могла. Отец на неоднократные ее попытки объяснений отвечал нежностями и шуточками; она видела часто, как слезы катились из глаз старика, и живее билось его сердце, она чувствовала, что и сам он боится этих откладываний, потому что седые волосы шептали ему о смерти. Но что уже постановил он раз, обдумал, признал нужным и дающим ручательство за будущее, того держался твердо. Не было уже попыток переменить его решение.
– Ты воротишься скоро? Скоро? – спрашивала Франя с очаровательной улыбкой.
– Когда мне велят, – говорил Вацлав, – ты знаешь, я еду поневоле.
– Скоро, скоро, скорей даже, чем мы уговоримся, нужно будет вам воротиться, – говорила Франя. – Я знаю, что добрый отец простит эту поспешность.
– Ах! Если б он освободил меня от этого испытания! – сказал Вацлав со вздохом.
– Нет, об этом нельзя и говорить ему, – шепнула Франя, – поезжай! Я в это время стану читать, стану учиться: ты мне оставишь много, много книжек, назначишь мне порядок; я буду жить ими, через них загляну в незнакомый мне свет, возвышусь, чтобы понять и оценить тебя.
– О, дорогая Франя! Немногому научат тебя эти книги; загляни в свое сердце, там у тебя лучшее сокровище. А если ты жаждешь душевной пищи, жаждешь книг и науки, то это дастся тебе легко; ты половину отгадаешь. Сама, наконец, книга не столько нас учит, сколько помогает нашему развитию, пробуждая то, что в нас спит. Наука всякий день изменяется, возвышается, падает, кружится и возвращается на дорогу, которую прошла; она не есть непременная цель, она только средство развить наши силы.
– Понимаю тебя, Вацлав: буду читать и думать, не продамся в неволю ни одной книжке, останусь собой! Но без тебя сколько встретится трудностей, над которыми буду бесполезно ломать голову! Я стану встречать их на каждом шагу: кто уяснит мне их, кто укажет мне дорогу, кто, как ты, одним словом сломит затворы?
– Дорогая Франя! Будь уверена, что сердце под руку с рассудком проникнут всюду, сломят и преодолеют страшнейшие затворы; но надо слушаться обоих.
– Кто же скажет мне, что я не ошибаюсь, что я не заблуждаюсь?
– Да разве ты можешь ошибиться?! – воскликнул Вацлав с увлечением. – Часто твой ум, такой молодой, свежий и роскошный, ничем не испорченный, ставит меня в тупик, заставляет меня задуматься.
Франя опустила голову.
– Это лесть! – произнесла она тихо.
– Нет, я говорю, что думаю, милая Франя.
– Довольно этого! Ты едешь… вы поедете! – поправилась она; в их разговоре не было еще принято постоянной формы; то они говорили друг другу ты, то вы. – Вы поедете, – говорила Франя, – но, по крайней мере, пишите часто, часто отцу, Бжозовской… т. е. мне.
– Как и кому только велишь, – сказал Вацлав, – верно то, что каждое мое письмо будет тебе и для тебя.
– И день за днем, час за часом, нужно будет отдавать мне отчет в каждом движении, в каждой мысли….
– Во всем! У меня нет тайн.
Франя вздохнула.
– Видела сегодня доказательство этому, когда ты, говоря об этой Цесе, которую теперь так боюсь, признался, что любил ее немножко. Но немножко ли только?
– Немножко, и то уже прошло.
– Прошло? И не воротится?..
– Такие чувства не возвращаются.
– Не знаю; я думаю, что они всегда, навеки, должны оставаться на дне сердца.
– Но ведь это никогда не было чувством сильным; я задавал самому себе вопрос, и уверен, что она может быть мне только сестрой. Я холоден к ней, равнодушен, и сострадание заняло место чувства, порожденного сиротством, одиночеством, детским желанием сочувствия.
– Сострадание? – спросила Франя. – А чему же ты сострадаешь в ней?
– Цеся выходит за старика, к которому не расположена: будущность ее страшна и темна.
– Да ведь она сама же его выбрала?
– Да, желание богатства, довольства, блестящего положения в свете увлекли ее. Раскаяние придет поздно…
– А! Прошу, не жалейте о ней так сильно.
Вацлав рассмеялся.
– Не будь ревнива! – сказал он тихо, целуя ее руку. – Разве ты можешь кого-нибудь бояться?
– Ах, всех! – произнесла Франя печально. – Разве я не знаю себя? Не думаешь ли ты, что я не знаю, как многого недостает мне? Как в вашем присутствии я проста, дика, неразвита?
– Это-то именно и придает тебе неописанную прелесть; не теряй ее ради Бога, не старайся быть иною! Будь уверена, что подле тебя исчезнет для меня целый свет.
– Я должна остаться, какою была, – ответила Франя, – знаю очень хорошо, что поздно было бы желать изменить себя; могла бы перестать быть собой и никогда не приобресть того, чего недостает мне!
Говоря это, она улыбнулась; оба они увидели подошедшую тихонько Бжозовскую с ключиками, улыбающуюся, блистающую выражением радости. Как скоро она видела их вместе, почтенное сердце ее радовалось и вырастало; ей приятно было хоть взглянуть на счастье, которого она сама не изведала.
– Что вы там злоумышляете потихоньку? Ей-Богу, скажу ротмистру! – воскликнула она, ласкаясь к ним.
– Откладываем свадьбу на три года от Рождества Господня, потому что нечего торопиться, – ответила Франя, улыбаясь.
– Конечно! Конечно! Отложите еще себе на пять! – ответила бойко Бжозовская. – Это самое лучшее, а ротмистр похвалит и поблагодарит! Уж скажу вам, я решительно не понимаю нынешних молодых людей! Прежде, бывало, коли понравились друг другу, а родители согласны, не откладывали так, год от году: шли себе под венец и конец! Теперь же у нас все иначе: все по-барски, по-французски! Черт знает, по-каковски! Вот и ротмистр, как начал откладывать… Только сыр откладываемый хорош… Господи, помилуй нас!
– Так вы бы нас хоть завтра обвенчали? – спросил Вацлав.
– Да уж конечно, хоть бы завтра! Что же? Нечто у человека так много лишней жизни, что можно пренебрегать летами молодости, как плевелами?
– Бжозося, уж я вижу, ворчит по своему обыкновению, – прервал ее Курдеш, являясь с палкой и шапкой в руках, – всегда недовольная чем-нибудь!
– Да ведь у меня что на уме, то и на языке, вот как! – воскликнула Бжозовская. – Я ничего не скрываю.
– Мне там, должно быть, особенно достается, – прибавил старик с улыбкою, догадываясь, в чем дело.
– И от этого не отопрусь, потому что я вас не понимаю: мучить так двух бедных детей!
Старик взглянул на Франю и Вацлава и шепнул Бжозовской:
– Разве им так худо? Это их розовый годок; а потом! А потом!.. Явятся хозяйство, хлопоты, обыденная жизнь, холод, осень и зима. Пусть себе натешатся, это все, что есть теперь!
Бжозовская, уже не желая или не умея ответить, потому что понимала жизнь совершенно иначе, пожала только плечами с неудовольствием; Франя вскочила, будто побежала искать чего-то, и Вацлав остался один с ротмистром.
Возвратимся еще на минуту в Дендерово, куда на другой день Вацлав принужден был поневоле поспешить на прощанье перед дорогой; он страшился теперь встречи с Цесей более, чем когда-либо. Дендера сидел, как прежде, за своим столом и за бумагами, строил планы и мечтал о средствах поддержать падающее богатство, о средствах поправить его, которые с каждым днем обдумывал искуснее, но менее практично. Как обыкновенно в отчаянных случаях, чем затруднительнее становилось положение, тем необыкновеннее приискивались лекарства, при помощи судьбы, и Бога, и людей, и обманчивого рассудка. Не было уже возможности продолжать жить таким образом, как он привык; с каждым днем неотступнее беспокоили его кредиторы, потому что у него не хватало уже возможности увертываться. Стесненный узами своих долгов, он мучился как Лаокоон, предвидя такую же мучительную будущность и для своих детей.








