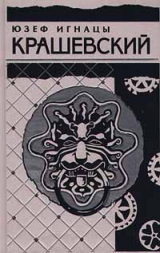
Текст книги "Дети века"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
– Вы напрасно ропщете на это проявление духа, – медленно проговорил Вальтер. – А я вам доложу, что это безумие плод нашей слабости. Кто его воспитывал? Вы. Бессилие старших и их одеревенелость производят эти разрушительные инстинкты в новом поколении.
– Может быть, – отвечал со вздохом Милиус. – Но ведь вы в других лишь выражениях высказываете то самое, в чем этот молокосос упрекал меня.
– Не огорчайтесь, однако ж, всем этим, – заметил гость, – да и нечего говорить, ибо вы только будете раздражаться. Конечно, воспитанник ваш не уедет из города, – прибавил Вальтер.
– Не знаю, что он с собою сделает, но я уверен, что он не способен к более смелым предприятиям и нелегко ему будет собраться на какой-нибудь решительный шаг. Полагаю, что он будет все собираться и не уедет, наделает тысячу проектов и ни одного не исполнит. Впрочем, он совершенно свободен.
Милиус вздохнул.
– Ему открыт свет, – продолжал он, – молодой человек скоро позабудет старика… но я ведь останусь один.
– Я тоже один, – прервал Вальтер, подавая руку, – и предлагаю вам свою дружбу.
– И я принимаю ее с суеверной благодарностью, потому что она падает ко мне точно с неба, в минуту, когда я потерял своего воспитанника.
– А я вот на первых же порах имею к вам просьбу, – сказал Вальтер после некоторого молчания. – В городе говорят, что здешний аптекарь намеревается продать свою аптеку.
– Знаю; дети водят его за нос: им захотелось переехать в деревню.
– Я покупщик, – сказал Вальтер. – Вы правы, сказав, что надобно чем-нибудь заняться: у меня есть диплом фармацевта, и я сделаюсь аптекарем.
– Вы? – с удивлением спросил Милиус. – И вы купили бы аптеку?
– Почему же нет. Даю вам полномочие условиться с паном Скальским.
Милиус задумался.
– Хорошо, – отвечал он, – но все это сделалось так быстро, что я не могу опомниться. Что же будет с Валеком?
– А мы не станем спускать его с глаз, – молвил Вальтер. – Перестаньте пока думать об этом, а уладьте мое дело с аптекарем, – это вас рассеет. Надевайте шапку и идите в аптеку. Это будет вам полезно, а дома сидеть вам не приходится. Вечером ожидаю вас у себя.
Несмотря на видимое равнодушие, Вальтер говорил с таким искренним чувством, в словах его было нечто столь повелительное, что Милиус послушался, сознавая себя побежденным, надел шапку, и оба собеседника молча вышли на улицу.
VII
Праздная толпа небольшого городка отличается в особенности сочинением огромных сплетен из ничего. Если б кто-нибудь задал себе труд проследить с утра ход и развитие какого-нибудь ничтожного известия, тот удивился бы – какие громадные размеры приняло оно при заходе солнца.
На порогах стоят не имеющие занятий домовладельцы, в рынке встречаются зевающие кумушки.
– Ну, что слышно? – начинается обыкновенно разговор.
– А что слышно? – Ничего, все по-старому; пономарь только рассказывал, что видел, как из дома доктора выходил воспитанник с узелками, должно быть, выезжает…
– Конечно, выезжает, – вмешивается третий голос, – он должен выехать, потому что благодетель прогнал его с глаз долой…
– Слышали? – повторяют дальше. – Доктор Милиус выгоняет из дома бедного сироту Валека Лузинского.
– Может ли это быть? Он воспитал его с детства, так любил и лелеял.
– Должно быть, провинился, и старик выгнал его почти в одной рубашке.
– Не верится.
– Пономарь встретил его с узлами, и бедняк даже, кажется, жаловался ему, что не знает куда деваться.
– Ах, Боже мой! Конечно, должна быть причина.
– Конечно, должна… Однако и разно рассказывают. Одни говорят, что старику на старости захотелось жениться. Валек не советовал, и невеста начала домогаться, чтоб старик удалил его.
– Какая невеста?
– Неизвестно, ибо это тайна; но что женится – нет ни малейшего сомнения.
– Вот как расходился старичина!
Известное дело – седина в бороду, бес в ребро.
– А малый казался таким смирным.
Далее сплетня украшалась уже комментариями.
– Говорят, – шептал пан Павел пану Антону, – что молокосос поднял руку на своего благодетеля и чуть ли не из-за бабы… Ох, уж эти бабы!..
– Я слышал, что он добрался до шкатулки.
– Доктор, который никогда не сердится, пришел, как мне говорили, в такую ярость, что голос его был слышен сажен за пятьдесят у булочника; потом он приказал отсчитать воспитаннику двадцать пять лозанов и вытурить вон.
– Вот штука! Что же теперь будет с бедняжкой?
– Но я на стороне доктора: уж если он рассердился до такой степени, то не без причины.
– Но ведь жаль молодого человека – пропадет.
– Говорят, поступает в военную службу.
– А мне говорили, что его приглашают бернардинцы, но ему не по вкусу монашеская ряса.
На другой день молва разрослась и приняла такие чудовищные размеры, что самый опытный наблюдатель не мог доискаться ее источника. Но факт все-таки был налицо: что Милиус, по прошествии двадцати лет, разошелся с воспитанником.
Лузинский, никогда не ожидавший, чтоб снисходительный благодетель дошел с ним до такой крайности, выбрался из дома, который привык считать собственным, не зная, что делать с собою. До последней минуты он ожидал, что старик кликнет его, помирится и велит остаться. Но когда не сбылась эта надежда, он принужден был собрать свои вещи, вручить их носильщику, и как не привык думать о себе, то и вышел совершенно без цели. Теперь надобно было позаботиться о приискании приюта, чтоб не слишком обратить на себя внимание. Ему пришло на мысль отправиться в гостиницу при почтовой станции, в которой иногда ночевали запоздавшие проезжие.
Но и здесь человеку, известному в городе, необходимо было объяснить и причину прихода, и причину пребывания, что необходимо повело бы к разным догадкам, сплетням и расспросам.
А этого-то именно и хотел избежать Валек. Он не чувствовал* себя виноватым, но и не хотел, сваливая вину на доктора, еще больше раздражать последнего. v
Почти уже на полдороге к гостинице Валек раздумал и решил отправиться к своему приятелю архитектору Шурме, у которого, как ему казалось, мог пробыть дня два, пока придумает что-нибудь решительное. Он в то время еще положительно не знал, что предпринять с собою. Во всяком случае он полагал, что свет с распростертыми объятиями должен был принять такого, как он, гения, где бы Валек ни показался.
"Я не могу погибнуть, – думал он, – и обойдусь без старого брюзги. Увидим, кто более пожалеет: он ли о том, что потерял меня, я ли о том, что от него избавился?"
Дело было под вечер; он надеялся застать приятеля дома и поспешил к домику, половину которого занимал архитектор.
Именно в то самое время Шурма отдыхал после трудов; он, раздевшись, курил сигару в своей холостой, но весьма чисто и удобно убранной квартире.
Когда на пороге показался пасмурный, но гордый и с узелками Валек, Шурма почти остолбенел: он был не в состоянии понять, что могло заставить Лузинского решиться на путешествие.
– Что это значит? – сказал он. – Ты собираешься в дорогу и так неожиданно? Куда?
– Подожди, сейчас расскажу все, – отвечал Лузинский, – только отпущу мальчика.
И уложив свои узлы у двери, расплатился с носильщиком и бросился со вздохом на диван.
– Ну, говори же, что случилось? – спросил Шурма с любопытством.
– Ты спрашиваешь о том, чего я сам хорошенько не понимаю, – отвечал Лузинский. – В двух словах я дам тебе временный отчет: я поссорился крепко со своим стариком и он выгнал меня из дому.
– Доктор Милиус выгнал тебя? – спросил удивленный Шурма. – Быть не может!
– А между тем случилось.
– Значит, ты уж чересчур задел его за живое.
– Высказал только ему правду, а люди не любят правду.
– Ты высказал ему правду? – молвил, рассмеявшись, архитектор. – Ты? Значит, близко светопреставление. Расскажи мне, если можешь, толком, как это у вас дело дошло до этого.
– Развязка очень простая, которой я рано или поздно мог ожидать от этого холодного, бездушного человека, – отвечал Лузинский. – Старик воспитывал меня для развлечения, дал образование, но не устроил никакого приличного положения в свете. Страдая от этого, я начал его резко упрекать, а он отвечал насмешкой. Я принужден был наконец ему высказать, что живу у него не из милости, а имею известные права, что тот, кто воспитал меня, принял на себя и мою будущность, и мое счастье. Может быть, – прибавил Валек, – я выразился уж слишком резко; доктор принял это близко к сердцу, вскочил, бросил мне пачку денег и велел удалиться из дому. Вот и вся история.
– Нет, не вся, – отвечал Шурма, – но об остальном я догадываюсь. Если такого человека, как Милиус, которому ты обязан всем от колыбели, который любит тебя, как родного сына, ты сумел довести до подобного шага, то верь мне, Лузинский, что ты не уживешься ни с кем в мире.
– Буду жить и один, не велика беда! – воскликнул герой. – А на людей не обращаю внимания.
Архитектор посмотрел на него с сожалением.
– Что же ты намерен теперь делать? – спросил он серьезно.
– Еще не знаю, – отвечал поэт, улыбаясь, – может быть, отправлюсь в Америку, может быть, пущу себе пулю в лоб, в чем сомневаюсь.
– И я также, – прошептал Шурма.
– Может быть, запрусь и напишу что-нибудь гениальное. Архитектор пожал плечами.
– Может быть, влюблюсь и женюсь.
– Женюсь, но не влюблюсь, – перебил хозяин, – сердце, которое не умело любить достойного благодетеля, никого полюбить не в состоянии.
– Ты полагаешь? – спросил Валек насмешливо.
– Полагаю, что тебя ожидает самый печальный конец, – прибавил Шурма, – и не могу упрекать себя, что не предостерегал тебя заранее.
– Не тревожься, пожалуйста, обо мне, – отвечал, зевая, молодой человек. – А между тем я пришел к тебе за временным приютом, потому что не знаю еще куда деваться.
Шурма поморщился.
– Эх, – отвечал он, – у меня решительно нет места для таких, как ты, фантастических гостей. Здесь живут – тяжелый труд, строгая расчетливость, столы завалены работой, пища здесь скудная и на болтовню, право, нет времени. Наконец, признаюсь откровенно, что я даже боюсь тебя с тех пор, как ты с доктором Милиусом или скорее он с тобою принужден был прервать отношения.
– Но ты должен бы сжалиться надо мною!
– Сжалиться! Над лучезарным гением, который полагает, что может все топтать ногами! – вскричал Шурма. – Что ты толкуешь? Гений не нуждается ни в сожалении, ни в приязни, не обязан благодарностью, не уважает обыкновенных правил жизни; а так как я, в качестве простого смертного, могу только ими руководиться, то зачем же мне лезть в эту аристократию духа!
И он пожал плечами.
– Значит, ты выгоняешь меня? – спросил Лузинский, стараясь обратить все в шутку.
– Нет надобности прибегать к подобным суровым мерам, а ты сам рассудишь, что для тебя не место в моей убогой хижине;
– Так, – сказал, вставая, Валек, на лице которого отражало! сдерживаемый гнев. – В таком случае посоветуй мне, что делать?
– Гений просит совета! – засмеялся Шурма. – Я не настолько заносчив, чтобы указывать ему дорогу.
– Ты, однако ж, всегда оказывал мне приязнь.
– Правда, – отвечал Шурма, – я полагал, что несмотря на свои странности ты не способен перейти известной границы приличия, а теперь я тебя боюсь. Кто же порукой, что через неделю ты не объявишь на меня такие же претензии, как на доктора!
– Значит, я, по-твоему, поступил дурно?
– Кто же скажет иначе? – воскликнул архитектор. – Если я и могу тебе дать совет, то совет единственный: или пойди попроси у доктора прощения и займись чем-нибудь, или ступай себе, куда хочешь.
Лузинский встал медленно с дивана, надел шапку и молча направился к дверям.
– Я буду вас просить только, – молвил он, оборачиваясь, – позволить побыть здесь моим вещам, которых не могу захватить, пока я пришлю за ними. Прощайте.
Шурма кивнул головой, дверь затворилась, Валек вышел на улицу и медленным шагом направился к гостинице "Розы".
Благодетельное учреждение "Розы" много лет уже находилось в самом центре города, возле кондитерской Батиста Горцони и почты. Иногда в него заходил голодный проезжий, но главное, оно имело в виду многочисленных местных чиновников, ведущих холостую жизнь, домовладельцев, не имеющих постоянных занятий, которые с удовольствием приходили сюда почитать газету, выпить кружку пива, поиграть на бильярде, иной раз полакомиться чашкой кофе, а при важных случаях поставить и бутылку кислого вина приятелям.
Гостиницу "Розы" содержала вдова пани Поз, неизвестно какого происхождения. Никто не мог с точностью определить, когда она вышла замуж и когда потеряла супруга. Это была женщина слабого здоровья, с весьма расстроенными нервами, не слишком занимавшаяся своим заведением, которым заведовал приказчик пан Игнатий, красивый мужчина, завитой, носивший различные брелоки у часов и коралловые запонки на рубашке. Две миловидные девушки – Ганка и Юзька – прислуживали гостям, к величайшему удовольствию последних.
Гостиница состояла из большой, низкой и темной бильярдной залы, в которую спускались по трем ступеням, украшенной стеклянным шкафом, полным сигар, печений и других дорогих лакомств, столовой, увешенной несколькими портретами, и двух меньших комнат.
Пани Поз занимала отдельное помещение с белыми занавесками, фортепьяно, клеткой канареек и с кроватью под огромными занавесами. Здесь принимались только самые близкие знакомые, не в качестве посетителей, а гостей, пользовавшихся особенным расположением хозяйки.
Гостиница отпускала прескверные абонементные обеды, с которыми, однако ж, освоились желудки потребителей, кормила экстренными блюдами случайных гостей, имела большие запасы пива, вина, пуншу, кофе, а пан Игнатий порою утверждал, что подобное заведение трудно найти и в Варшаве.
В гостинице "Розы", в особенности вечерком, собирались любители бильярдной игры, к числу которых в близком кругу принадлежал и пан Игнатий, известный своими клопштосами. В бильярдной зале собиралось избранное городское общество: почтмейстер, секретарь суда и другие уездные чиновники.
Все постоянные посетители были здесь, как дома, предавались дружеской беседе, и каждый, выходя из гостиницы, чувствовал в душе признательность к пани Поз за самопожертвование, с каким она содержала это место невинных развлечений. Конечно те, кого обыкновенно называли городскими аристократами: доктор Милиус, аптекарь Скальский, купец Зибен-Эйхер, даже архитектор Шурма и другие чубатые (так их в шутку называл почтмейстер) появлялись здесь нечасто и бывали самое короткое время, но зато и не пользовались прелестями занимательной беседы, услаждавшей постоянных посетителей. О них не раз шли здесь любопытные разговоры, и не было пощады желтобрюхим. Этим прозвищем наградил их несколько злобный секретарь суда, который считался человеком с необыкновенными талантами, осужденным по какому-то случаю прозябать в уезде. Действительно, он обладал одним неоспоримым талантом: напивался так, как никто никогда не бывал пьян, и не отказывался от рюмки, хотя бы она была наполнена купоросным маслом.
Бильярд пани Поз не отличался молодостью: сукно испытало различные превратности судьбы, ножки не совсем плотно приходились к полу, но постоянные игроки знали, с кем имели дело, и предпочитали новому изделию строгой работы старика, по сукну которого катались шары чаще вопреки самому верному расчету.
Хотя общество, собиравшиеся в гостинице, состояло не из гениальных людей и не занималось вопросами литературы, искусства, политической экономии, однако, Валек Лузинский часто посещал его. Тайна, привлекавшая его сюда, заключалась в уважении, которое оказывали ему все постоянные посетители, не исключая талантливого секретаря, и приязнь хозяйки, которая, несмотря на слабое развитие своего поэтического настроения, инстинктивно симпатизировала гению, окутанному еще утренней мглой.
Валек Лузинский не только пользовался кредитом в гостинце, не только проводил в ней целые дни, полулежа на диване, но нередко бывал гостем у радушной вдовы, которая беседу с ним предпочитала разговорам с другими. Хотя он порою и молчал по Целым часам, а потом болтал разные гениальные вздоры, однако, никогда не повреждал своей репутации будущего гения. Поэтому, испытав более нежели холодный прием Шурмы, он немедленно подумал о временном приюте под "Розой". На пути к этому убежищу он даже решился исполнить благое намерение – обратиться к симпатичному сердцу пани Поз и попросить у нее дружеского совета.
Несмотря, однако ж, на то, что Валек у Шурмы пробыл очень недолго, но прежде чем он дошел до гостиницы, весть о его ссоре с доктором достигла уже туда различными путями. Мнения об этом событии разделялись, рассказы разнились значительно, причина, приводились слишком смелые, но вследствие всеобщего расположен ния к Валеку и нелюбви к доктору, на которого сердились за ТО, что нечасто удостаивал гостиницу своими посещениями, – вину приписывали скорее Милиусу, а участие досталось на долю несчастного сироты.
Известие это до такой степени наэлектризовывало всех обитателей гостиницы и ее посетителей, что в бильярдной зале собрались; и хозяйка, и прислужницы, и мальчик Матьяшек, и даже дворник в фартуке, с метлою, что в таком исключительном случае не поразило ни секретаря, ни почтмейстера. Любопытство, как и другие страсти, равняет людей, а потому все собрались послушать рассказ о необыкновенном происшествии, а пани Поз молча ломала руки.
– Несчастный молодой человек! – воскликнула она наконец.
– Я всегда говорил, что этот Милиус дерзкий грубиян, – отозвался секретарь. – Он мучил, томил бедного юношу до такой степени, что и святой вышел бы из терпения.
– Но что же будет делать бедняжка?
В эту минуту растворилась дверь, Ганка и Юзя расступились в испуге, словно увидели привидение, и на верхней ступеньке представилось взорам изумленных зрителей бледное лицо нашего героя.
Все замолчали, толкая друг друга локтями, все ощутили чувство признательности к Валеку за то, что пришел излить свое горе среди приятелей и принес им первым верные известия о таком чрезвычайном приключении. Но никто не смел спросить о нем у огорченного молодого человека, который, подойдя прямо к бильярду" поклонился хозяйке и, шепнув ей несколько слов, вышел с нею в ее комнаты.
Мы уже говорили, что у этой милой вдовы с чувствительным сердцем было поэтическое настроение; она часто страдала зубами, что приписывали также расстройству сердца, действующему на весь организм, и повязывала постоянно правую щеку белым платком, что делало ее еще интереснее.
Взволнованная и раскрасневшаяся взошла хозяйка наверх и, садясь в кресло, указала Вальку место напротив. Лузинский держал в руках соломенную шляпу.
– Милейшая моя пани Поз, – сказал он, – со мною случилось приключение.
– Слышали, слышали! Но как же это произошло? – спросило чувствительное создание.
– Как, вы уже знаете? – спросил удивленный Лузинский.
– Слышали, что-то уже рассказывают по городу. О этот негодный доктор! Не правда ли, что он осмелился броситься на вас?..
– Броситься на меня? – воскликнул сердито Валек. – Это глупая сплетня, которая меня оскорбляет. Я никому не позволил бы этого, и дерзновенный поплатился бы жизнью. Дело было совершенно иначе, – продолжал он. – Я высказал ему горькую правду относительно его обращения со мною, вытребовал капитал, вверенный ему покойной моей матерью, и выехал навсегда из его дома.
Вдова слушала с жадностью, можно сказать, пожирая слова, как вдруг слуха ее коснулось выражение "капитал", и надо сказать правду, что приязнь ее к гениальному молодому человеку значительно усилилась, неизвестно по поводу ли его невзгоды или капитала. Известно только, что когда он начал описывать ей свое печальное положение, она вскочила с кресла и сказала, что уступает ему на сколько угодно времени комнату наверху, которая отдавалась только во время большого съезда.
Для оценки этой жертвы надобно знать, что комната выходила на улицу, была в два окна, с занавесками, и уставлена довольно приличной мебелью, хотя последняя и куплена была на аукционе, по случаю банкротства одного купца-еврея.
Валек не мог иначе выразить всей своей признательности вдове, как прижав ее прелестные руки к своей пламенной груди, что вызвало яркий румянец на лице, повязанном белым платочком.
– Верьте, – сказал он, – что благородность к вам сохранится в этом сердце до гроба.
– Посылайте сию минуту за своими вещами! – воскликнула вдова. – Переезжайте ко мне, и пусть, что хотят, говорят люди, я смеюсь над их клеветою!
– А я их презираю, – прибавил Валек.
Не теряя ни минуты, хозяйка спустилась отдать приказание Дворнику, чтобы сходил к Шурме за вещами. Геройское это решение пришлось весьма не по вкусу приказчику, пану Игнатию, который отчаянно махал головой и хотел даже сделать какое-то замечание, но вдова и не думала его слушать.
После такого отважного поступка, пани Поз заперлась у себя наверху, а Лузинский спустился вниз почти с торжествующим видом, и тут все окружили его. Общество еще прибавилось, все сгорали от любопытства, герой был уже в руках, но… приличие не позволяло приступить прямо к расспросам. Валеку предоставили занять обычное его место на диване и отдохнуть после таинственного приключения.
Сперва, из уважения к нему, не хотели даже играть на бильярде, однако, после решили, что стук шаров чрезвычайно полезен Для рассеяния печальных мыслей. Секретарь первый взялся за кий. Валек в это время задумался, и общество возвратилось к обычной свободе движений.
Но дню этому не суждено было, как обыкновенным дням, без! возвратно исчезнуть из памяти. Едва игроки заняли позицию, как дверь отворилась и молодой человек показался на пороге; но тар как он не был знаком с местностью и никто его не предупредил: о трех ступеньках, то он оступился и, может быть, упал бы, еслв бы ловко не удержался за плечи секретаря, у которого очень веж-: ливо начал просить извинения.
Секретарь рассмеялся, и завязалась беседа.
– Видно, что вы у нас гость первый раз, – сказал он весело, – ибо подобные господа все почти приплачивают за знакомство со ступеньками шишкой на лбу или по крайней мере испугом. Нас уже это не удивляет.
Незнакомец, ввалившийся с таким шумом, был действительно приезжий, а именно барон Гельмгольд Каптур, возвращавшийся на Турова, и которому необходимость указывала остановиться дня на два в городе по важному личному делу.
Привыкнув жить в столицах, барон полагал, что и здесь найдет хоть миниатюрное подражание столичному: небольшой отель и табльдот – места, в которых мог бы услыхать кое-что и добыть необходимые сведения. С удивлением, однако ж, он убедился, что в так называемом отеле трудно было найти и одну комнату, ибо порожнюю, обыкновенно, превращали во временную кладовую, а ресторация, очевидно, предназначалась для местных посетителей. На него смотрели с таким изумлением, что дальнейшее пребывание казалось неловким, а знакомство и беседа почти невозможными. Конечно, оставалась еще аптека, но он вторичным посещением не желал возбудить надежд в хорошенькой панне Идалии, встретиться с несносным паном Рожером. Наконец, визит к Скальским он допускал только как грустную необходимость, избегнуть которой было бы невозможно.
Между тем, очутясь в ресторации, он решился уже здесь поужинать и воспользоваться случаем добыть какие-нибудь сведения. Если требовала необходимость, он умел быть хорошим товарищем, хотя одежда, приемы, – все обличало в нем человека из другого общества.
Секретарь продолжал еще смеяться, а барон вторил ему, внимательно осматривая посетителей. Его поразило печальное, нахмуренное и выразительное лицо Валека Лузинского, инстинктивно угадывал он в нем человека недовольного, неприязненного обществу, и, следовательно, от которого легко было узнать темные стороны местных дел и обывателей. Вопрос заключался лишь в том, как сблизиться с этим несколько диким индивидуумом, который должен был ненавидеть щеголей, подобных Гельмгольду.
Барон был, однако ж, весьма практичный человек: заказал себе сперва ужин, а потом, прикинувшись любителем бильярдной игры, в которой действительно был мастером, уселся возле Лузинского, следя за партией, которую играли секретарь с почтмейстером.
Последний немедленно узнал его, ибо давал ему лошадей до Турова и шепнул на ухо секретарю:
– Это барон из Галиции.
Секретарь, которому оказалось необходимым подмелить кий, стал таким образом, что мог сказать на ухо Лузинскому:
– Это австрийский барон.
Валек с любопытством посмотрел на барона.
– Вы не играете? – смело спросил его приезжий.
– Напротив, охотно играю, потому что это приятное развлечение после занятий. Голова отдыхает и руки заняты.
– Да, разумеется, каждый, кому приходится вести сидячую жизнь должен развеяться.
– Мне не приходится, – отвечал на это довольно холодно Валек.
– А! – сказал барон, всматриваясь в собеседника. – Мне тоже. Значит, мы в одинаковом положении. Бильярд развлекает меня.
– Иногда и меня, только я не могу играть долго.
– И не стоит. Вы здешний житель?
– Временно, – отвечал Валек, – были у меня здесь дела, но я скоро выеду.
– Конечно, в Варшаву?
– Сам еще не знаю.
– Окрестность тут довольно пустынная.
– Как и везде у нас.
Разговор шел туго. Лузинский был в тот день не расположен. Барон рассчитывал на бутылку шампанского, но так как он велел подать себе ужин в другую комнату, то и не знал, как пригласить Лузинского.
Отрывистые фразы не вязались, а в это время сам приказчик появился с цыпленком таких размеров, – который с успехом мог заменить курицу.
– Хотя мы и не знакомы, – обратился барон к Лузинскому, – но я надеюсь, что вы не откажетесь выпить со мною бокал шампанского.
Валек очень любил шампанское, – это была одна из его многозначительных слабостей, хотя и венгерское смягчало его, и он обнаружил нерешительность, а барон тотчас воспользовался случаем.
– Пойдемте же, – сказал он, – мы оба молоды, и хоть не знакомы, отчего же нам и не побеседовать.
И они вышли в другую комнату. Шампанское было заказано и одно уже ожидание его оживило беседу.
– Места здешние очень мне нравятся, – молвил барон, – но люди гораздо менее пришлись по сердцу, – может быть, оттого, что я мало знаю их.
– Не выиграют они, если и больше узнаете; люди, как вообще люди, – заметил Лузинский. – С кем же вы здесь познакомились?
– Давно еще, в Варшаве, я встречался с паном Рожером.
Лузинский сделал гримасу и замолчал.
– Вы знаете Скальских? – спросил барон.
– Разве вас интересует это семейство?
– О, нисколько! – отвечал барон, рассмеявшись. – Мне хотелось только узнать – помещики ли они, живущие здесь временно, или…
– Это владельцы аптеки. Пан Скальский был, есть, но уже более не хочет быть аптекарем; он, может быть, и примирился бы с аптекой, но дочь и сын не хотят и слышать об этом – скорее смерть, нежели аптека. Скальские употребляют герб на печати, но герб и ревень как-то несовместны.
– Отлично! – проговорил Гельмгольд, смеясь и наливая собеседнику шампанского. – Они и мне показались такими, когда пан Рожер пригласил меня к себе.
– Панна Идалия очень хороша собою, – прибавил Лузинский, – но…
– Так, значит, у этой красоты есть свои но? – спросил барон.
– Не в красоте, а разве в сердце, – подхватил Валек, – она родилась без него.
– Что касается сердца, в этом трудно удостовериться, – сказал барон, – но человек, у которого нет его, бывает иногда его жертвой, когда очнется поздно.
– Относительно панны Идалии сомневаюсь… Она образована, мила, остроумна, восхитительна, но…
– Недостаток сердца – величайшее счастье для женщины.
– И страшное бедствие для мужчины, который полюбит такую женщину.
– Зачем же влюбляться в нее? – спросил барон.
– Правда, – отвечал Валек, – но есть предназначение…
– А много уже пало несчастных жертв? – спросил барон.
– Не знаю, – сказал, засмеявшись, Лузинский. – Хотя я и вырос в этом городе и снова живу здесь с некоторых пор, однако не имею счастья быть близко знакомым с аптекой. В аптеке метят на аристократию, а я… нужно ли вам объяснять, не принадлежу к ней.
– А разве вам неизвестно, скольких родов бывает так называемая аристократия? – спросил барон.
– Я не имею претензии ни на один из них. В Англии, может быть, подобно д'Израэли или Маколею, я добился бы чего-нибудь, но у нас…
– Вижу, что вы заняты умственным трудом.
– Может быть, и занимался бы, если б подобный труд был возможен в нашем крае, – говорил более и более развязно Лузинский. – Но для кого предпринимать его здесь? Для четырех читателей, которым известно все то же, что и мне…
"Оригинальная встреча, – подумал барон, – плетет Бог знает что, да еще с неподдельным жаром".
И он подбавил собеседнику шампанского.
– Вы не должны оставаться в этом тесном кружке, – сказал барон как бы с участием.
– Я ведь здесь временно, – молвил Лузинский, – но мне недостает энергии, воли; я не вижу цели, жизнь трачу в бездействии.
– Если у вас положение независимое…
– Совершенно независимое, – подхватил Лузинский, – я свободен, как воздух, и даже никто не принуждает меня к труду, потому что могу прожить и без него.
– Может быть, в этом и несчастье ваше.
– Ведь так или иначе пройдет жизнь, – говорил Лузинский, осушая стакан.
Все это не слишком-то занимало барона, – ему нужны были другие сведения.
– Конечно, вы знаете окрестных помещиков? – сказал он.
– Немного… впрочем, мы все здесь знакомы.
– А графов Туровских знаете?
– Этих нельзя не знать, – отвечал Лузинский, у которого шумело в голове.
– Старинный панский род, богатый?
– Некогда был богат; но теперь кое-что осталось у двух паненок, несчастных невольниц, а остальное имение разорено. Старик при смерти, сын-горбун, конечно, предполагает похоронить сестер или жениться хоть на горбатой, но богатой. Полированная нищета…
– Но девицы? – спросил барон.
– Те должны быть довольно богаты. К счастью, мать их умерла в молодости, и состояние осталось нетронутым; но что им до него? Их держат взаперти, и мачеха, конечно, не допустит, чтоб которая-нибудь вышла замуж. На страже стоят кузен-француз и братец, заботящийся о наследстве, а притом привычка к неволе отняла у бедняжек и надежду, и всякое желание видеть свет…
– Может быть, – отвечал хладнокровно барон, – тем более что панны уже не первой молодости, да и состояние, о котором говорят, быть может, сомнительно.
– Что до последнего, то вы ошибаетесь! – воскликнул Лузинский. – Состояние положительно большое, и вы не найдете у нас человека, который не определил бы его.
– Например? – спросил барон небрежно.
– В самом крайнем случае у паненок будет по полмиллиона злотых, если бы даже их и ограбили.
Барону окупилось уже шампанское, и он только для того, чтоб скрыть свое удовольствие, снова начал расспрашивать о Скальских.
– Панна Идалия была бы не бедна, – отвечал весьма откровенный Валек, – но если продадут аптеку, о чем именно, кажется, теперь и идет забота, то растратят то, что в ней заработали. У нас в городе состояние их определяют в полмиллиона злотых, но кто же знает, как отец разделит детей? Надеюсь, впрочем, что панна Идалия не допустит относительно себя несправедливости.








