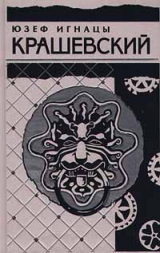
Текст книги "Дети века"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Линка так усердно смеялась, что даже венок из васильков спустился на лоб; она сняла его, поправила, посмотрелась в кусочек зеркальца, прибитый в углу над дубовым гробом, и начала напевать, улыбаясь.
Хотя Валеку и хотелось бы подолее остаться с нею, однако он чувствовал, что надо было удалиться; он поклонился и вышел. Долго он оглядывался на Линку, а девушка глядела ему вслед, и пока только можно было, они улыбались друг другу, как старинные друзья.
Валек пошел дальше почти со стыдом; он припомнил графиню, свою блистательную будущность и эту босую родственницу, и сам удивлялся, что такое бедное создание могло произвести на него впечатление.
Ум противился, но сердце чувствовало, что образ Линки останется в нем.
Лузинский даже вспомнил по этому поводу, что все великие гении, начиная лорда Байрона, славились волокитством, что принадлежностью поэта было влюбляться в существа даже наименее достойные любви. Линка была молоденькая, хорошенькая девушка, немного сродни, наивная болтушка и сидела на гробах.
"Большой беды не будет, если немножко поухаживаю за нею, – подумал он. – Она будет очень счастлива, а я позабавлюсь!"
Весьма послушная совесть представляла ему это в самом невинном свете, хотя разнузданное воображение заранее доводило эту историю до крайних пределов.
В балладе, которую сочинил Лузинский по этому поводу, светло-русая девушка топилась в озере, белое тело ее всплывало среди расцветших водяных лилий, а седой отец укладывал ее в новом, облитом слезами, гробе.
Верьте мне, ничего нет ужаснее поэта: он готов раскрыть гроб, лишь бы добыть поэму…
XII
Из всех многочисленных героев нашей повести, кажется, несчастнее всех в описываемое время был барон (in partibus) Рожер Скальский… Отец ничего уже не чувствовал, мать плакала о дочери, панна Идалия мечтала, как мечтают перед свадьбой. Пан Рожер, хотя и должен был вскоре стать владельцем Папротина, ибо он вынудил отца, чтоб имение было куплено на его имя, – ходил, однако же, постоянно не в духе.
Давно уже он намеревался подцепить одну из графинь; это было его мечтой, осуществление которой казалось ему легким; между тем дело не подвигалось, а до него дошли слухи, что барон и кто-то другой уже опередили его. У него даже не было предлога появиться в Турове. А другие партии казались ему неподходящими.
Особенное нерасположение чувствовал он к пришельцу, барону Гельмгольду, как к лицу, которое отняло у него из-под носа самую законную собственность. Но если бы он даже искал и хотел выдумать наистрожайшее мщение, то не вымыслил бы лучше того, какое предоставила ему случайность.
Мы уже видели, с какой признательностью было принято первое посещение паном Рожера кондитерской Горцони. С тех пор хозяин этого заведения кланялся низко пану Рожеру, а сын аптекаря, получая дань уважения, не остался к ней равнодушен. Надо знать, что Горцони, несмотря на свое иностранное происхождение, освоился уже с жизнью городка и славился тем, что знал всю подноготную на десять миль в окрестности.
Он даже не имел надобности получать газеты в кондитерской, потому что забавлял гостей хроникой до такой степени исполненной фактов, что вряд ли бы сравнялся с ним любой хроникер. Обыкновенно он останавливался перед посетителем, опирался о свое бюро, складывал ногу на ногу, руки грациозно располагал на животе, и когда раскрывал румяные уста, из них вытекала золотая струя сплетен, словно из рога изобилия. В описываемый именно день он имел счастье пригласить пана Рожера и угостил его газетой, редактированной великолепнейшим образом.
Пан Рожер слушал. Зашла речь о бароне Гельмгольде.
– Я знаю этого галицийского барона, – сказал кондитер, – и слышал от почтмейстерского секретаря, что он уехал в Дрыч и Волчий Брод. А знаете ли вы, кто живет в Дрыче и Волчьем Броде?
– Нет, не знаю.
– В Дрыче, – говорил Горцони, – живет Старостина Горская, какая-то дальняя бабка барона; но это ничего не значит, потому что от этой бабки ему не будет ни малейшей выгоды.
Горцони, улыбаясь, поправил свой костюм.
– Но родная сестра старосты, а следовательно, тоже доводящаяся барону бабкой, моложе первой лет на пятнадцать, панна Забржеская – владелица Волчьего Брода с угодьями. Это богатейшая помещица в целой окрестности, но девица, которой под пятьдесят, и чудачка. Вследствие этого расчеты и происки всего семейства вращаются около Волчьего Брода.
Скальский слушал с вниманием.
– Вы, конечно, не видели панны Забржеской и не слыхали о ней? – спросил Горцони.
– Не помню.
– Но это особа оригинальная в высшей степени. Во-первых, я имел честь видеть ее, и хоть ей под пятьдесят, однако вы не думайте, чтоб это была старуха или дурняшка. В свое время, это, должно быть, была необыкновенная красавица, да и теперь еще очень и очень не дурна собою; она не кажется старой; может быть, немного полная, румяная, зубы прекрасные, осанка аристократическая, одним словом, королева. Имя у нее тоже необыкновенное: Флора! Чего же вам лучше? Богиня цветов! По счастливому стечению обстоятельств, когда все семейство проматывалось, панна Флора получила столько наследства, что состояние ее дошло до чрезвычайных размеров. Конечно, я не считал, но говорят люди, что у нее несколько миллионов злотых.
Рассказ этот начинал сильно занимать пана Рожера.
– А отчего же она не вышла замуж? – спросил Скальский.
– Это-то и остается неразгаданной тайной, потому что за нее сватались даже князья; но гордая панна капризничала, подозревала, что ее брали из-за денег, отказывала и отказывала нарочно резко, и, таким образом, дожила до пятидесяти, а теперь курит сигары, сама управляет имением, и как еще деспотически! А уже о замужестве нет и помышления. Разно говорили, – прибавил шепотом Горцони: – что было даже несколько романов, но это, может быть, выдумки. Верно то, что вряд ли уж пойдет она замуж, а родня около нее вертится, как бес перед заутреней.
Вот все, что рассказал Горцони, но слова эти не упали на бесплодную почву – их пан Рожер принял близко к сердцу.
"Была бы великолепная штука, – подумал он, – если б я мог познакомиться с нею и… Что значит пятидесятилетний возраст? Идалия ведь хочет идти за старика без имени, без образования, а здесь – все. Вопрос только в том: каким образом?.."
Действительно, все смелые замыслы зацепились на этом страшном "каким образом?"
Пан Рожер не обладал пламенным воображением и трудно было ему придумать средства. Вечером он открылся сестре. Хотя он и не признавал превосходства над собой панны Идалии, однако не брезговал этим женским умом.
Панна Идалия внимательно слушала его, покуривая папироску.
– А, – сказала она, подумав, – мысль хороша, но трудна для исполнения. Все прежде употреблявшиеся средства: сломанное колесо, опрокинувшийся экипаж, заблудившийся путешественник – избиты уже донельзя. Романы выдали тайну, никто теперь не поверит ни в какую подобную случайность. Поехать прямо к старой панне невозможно. Но не граничит и Волчий Брод с Пап-ротином? Ведь это, кажется, в той стороне?
Пан Рожер не знал, но немедленно сбегал за инвентарем и планом. Не фатум ли это? Папротинский лес сходится с пущей, принадлежавшей к Волчебродскому имению.
Брат и сестра всплеснули руками. Пан Рожер поцеловал панну Идалию.
– Бога ради, никому ни слова! – шепнул он. – Завтра еду в Папротин, возьму с собою лакея, туалет, экипаж, и в качестве соседа имею полное право представиться в Волчьем Броде.
Скальский радостно потирал руки и с гордостью приподнял голову.
– О судьба, поблагоприятствуй! – воскликнул он. – Отличная была бы штука подцепить подобное наследство у этого голяка барона.
– Но что ж говорят о панне?
Пан Рожер повторил сестре все им слышанное от Горцони.
– Здесь дело идет только о том, чтоб жениться, – прервала панна Идалия, – а потом для чего же существуют ум, ловкость, молодость? Если б ты не сумел устроиться, я презирала бы тебя.
– Но, пожалуйста, никому ни слова!
– Можешь быть спокоен.
Будущему владельцу Папротина не было ничего легче, как выбраться на другой же день рано утром и, взяв добрых почтовых лошадей, очутиться к вечеру на месте. Так как прежний арендатор имел право жить в доме до марта месяца, то помещик поместился во флигеле; новый владелец, однако же, и тут нашел уже дворню услужливых людей и весьма радушный прием. Хотя он приехал ночью, однако к нему явился лесничий, который лесные трущобы знал так же хорошо, как и соседство. Не желая обнаружить нетерпения, пан Рожер просил его осмотреть на другой день границы. Разговор сам собою должен был коснуться панны Флоры.
Утро было прекрасное, но несколько осеннее; старик лесничий добыл коня, и они выехали после завтрака. Пан Рожер заботливо осматривал границы, хотя это его нисколько не занимало.
Доехали они, наконец, до старого дуба, намеченного крестом.
– Здесь, вельможный пане, – пояснил лесничий, – земля ваша сходится с землей вельможной пани Забржеской, и граница идет по высохшему руслу ручья до Кудашевой долины, а оттуда…
– А! Панны Забржеской, из Волчьего Брода? – спросил Скальский.
– Точно так, из Волчьего Брода.
– А далеко это отсюда?
– Вельможный пане, отсюда будет миля, а от дому полторы.
– Нет ли пограничных споров?
– Где же их нет? Есть, и даже трудный к разрешению спор, по поводу ручья…
– Я не люблю споров и полагаю уладить дело, съездив в Волчий Брод.
– Что касается поездки, то почему и не поехать, но чтоб из этого вышло что-нибудь, напрасно льстить себя надеждой.
– Почему?
– Потому что вельможная панна Забржеская, с позволения сказать, без обиды, Ирод баба.
– Вот как! – воскликнул, засмеявшись, Скальский.
– Она сама объезжает границы верхом или в одноколке, за всем наблюдает, ведет процессы и никому не уступит.
– Что ж, она уже стара?
– Не скажу, чтоб была стара, – отвечал лесничий, – но и молодою признать трудно. Когда я здесь поселился, она была такая же как и теперь, а этому уже лет пятнадцать назад; только немного словно пробились усы, но это ее не портит. Особа весьма серьезная, только как будто бы и не женщина.
Пан Рожер улыбнулся.
– Удастся ли что, или не удастся, а мне надобно побывать у нее.
– Конечно, от этого вас не убудет, и из одного любопытства стоит посмотреть дом в Волчьем Броде, потому что вряд ли где встретится подобный.
– Что же в нем особенного?
– Все, вельможный пане, – отвечал лесничий, – начиная от помещицы до капеллана.
– Что ж это за капеллан?
– А кто его знает? Кажется, из Египта или из какой-то запрещенной земли: когда он служит обедню, то на таком языке, что не знаю, может ли его понять и сам Господь Бог.
Так как не приходилось вдаваться в излишние расспросы, пан Рожер замолчал, обещая себе лично познакомиться с домом панны Забржеской. Действительно, он поехал к ней на другой день.
Волчий Брод не представлял особого великолепия, и отличался только непомерной обширностью построек, расставленных не с большой симметрией. Среди старых деревьев, аллей и клумб стояло больше строений, нежели сколько, по-видимому, было нужно. Самый дом, довольно низкий, отчасти деревянный, частью каменный, строенный и перестроенный в разные времена, представлял смешанные образцы различных стилей.
Среди лабиринта этих пристроек, галерей и крылец расхаживала многочисленная прислуга.
К гостю вышел пожилой мужчина вроде дворецкого. Пан Рожер отдал ему свою карточку и объявил, что в качестве соседа и владельца Папротина желал бы представиться панне Забржеской, засвидетельствовать почтение и вместе поговорить о границах.
Дворецкий принял его с поклоном и, введя в нижнюю залу, отправился к хозяйке.
Пан Рожер имел время осмотреться в огромной и оригинальной зале, которая, очевидно, переделана была из двух огромных зал, ибо посередине остались два столба, замаскированных плющом.
Повсюду полно было мебели, картин, дорогих древностей, этажерок, ковров и подушек.
Трудно было местами пройти среди этих масс самой разнообразной мебели.
Много прошло времени, пока растворилась одна боковая дверь и в нее вошла немолодая особа высокого роста, широкоплечая, с гордой осанкой, в черном платье под шею, с открытой головой, не обладавшею избытком волос, но и без всяких искусственных украшений. В выражении лица заметна была привычка повелевать. Особа эта не отличалась красотой, но черты лица были правильны, глаза прекрасные, рот небольшой. Она не возбуждала симпатии, да и, казалось, совсем не заботилась об этом.
С первого же взгляда пан Рожер понял женщину и трудность безумного своего замысла, от которого готов был уже отказаться. Увидев ее, он убедился, что овладеть ей было невозможно. Панна Флора смотрела на свет так, как бы уже для нее в нем не было ни малейшей загадки, никакой привлекательности, по земле шла твердою поступью, не имея желания ходить по облакам.
Когда Скальский ей представился, она вежливо, но холодно поклонилась ему, указала кресло и заговорила таким громким и решительным голосом, что на пана Рожера произвела впечатление переодетого мужчины.
– Итак, вы новый владелец Папротина? – сказала она, барабаня толстыми пальцами по столу. – Было время, когда я сама хотела купить его, но как-то не случилось. Имение, кажется, хорошее, но требует много труда, надзора и капитала. Мне было бы с ним тяжело, потому что много хлопот и со своими имениями, и это женщине не под силу.
Гость молчал.
– Вы знаете сельское хозяйство? – спросила она через минуту.
Пан Рожер и не походил на хозяина, да и казалось ему неприличным выдавать себя гречкосеем, и он отвечал с улыбкой:
– О нет! Большую часть жизни я провел по городам и долго слушал лекции в германских университетах.
– В таком случае я не завидую вашей покупке, – сказала панна Флора. – Вы здесь долго не поживете, а что же значит поместье без хозяина!
– Почему же не проживу! Найду соседство, охоту, книжки.
– Да, охоту, книжки, но не соседство, – прервала панна Флора, – потому что мы живем каждый для себя. Я никого не принимаю, другие мало и редко.
И взяв со стола огромную сигарочницу, полную сигар, она подала ее пану Рожеру, который не знал, брать или не брать.
– Курите, я также закурю, – отозвалась хозяйка. – Я старая дева и не имею надобности стесняться.
Пан Рожер взял отличную гаванскую сигару. Взглянув на столик, он увидел Монталамбера, Гретри, Дюпанлу и даже Жозефа де Мэтра.
Это его несколько осведомило, но придало еще более робости. Взгляд этот не ускользнул от панны Флоры.
– Конечно, эти книжки вам знакомы? – сказала она. – Но, вероятно, не так нравятся, как мне. Вы все философы, выходя из разных протестантских университетов, делаетесь гегелианцами, шеллингистами.
Пан Рожер не знал, что отвечать, ибо хотя и слушал курс в Берлинском университете и едва не получил степень доктора, однако эти вопросы так мало занимали его, что он не считал себя компетентным.
– Признаюсь откровенно, – сказал он, – я не сделался гегелианцем, потому что не чувствовал призвания к философии.
– Большое счастье. Значит, вы сохранили кое-что из отечественного наследства, – заметила хозяйка, пуская клубы дыма. – Но индетерминизм, может быть, хуже философии.
Будучи сбит оборотом разговора, пан Рожер собирался кашлянуть и заговорить о чем-нибудь другом, как вошел дворецкий, а затем слуги внесли принадлежности к чаю.
– Не прикажете ли, вельможная панна, подождать немножко с чаем, потому что едут гости из Дрыча, карета уже на плотине?
Пан Рожер собирался встать и откланяться, не располагая скучать напрасно, но хозяйка, повелительным тоном, просила его остаться.
– Гости из Дрыча мне родственники, – сказала она. – Не думаю, чтоб моя сестра, ибо она больна и не выезжает, но, может быть, внучка или кто-нибудь из семейства. Вам не помешает познакомиться с соседями.
Скальский остался, а через четверть часа в залу вошли небольшого роста, круглая, толстая госпожа, белая, в сильных веснушках девица и барон Гельмгольд.
От двери еще барон увидел с изумлением пана Рожера и засмеялся. Хозяйка представила Скальского племяннице и внучке, хотела познакомить его с Гельмгольдом, но заметила, что эти господа весьма приятельски жали руки друг другу.
– А, так вы знакомы! – воскликнула она.
– Давно знакомы, – отвечал Гельмгольд. – Что вы здесь делаете у моей родственницы? – прибавил он тише, обращаясь к пану Рожеру.
– Играю скучнейшую роль соседа, с пограничным спором под мышкой.
– Как соседа?
– Я купил Папротин, который граничит с Волчьим Бродом, а между этими двумя имениями идет спор о земле.
Гельмгольд пожал плечами.
– А, – сказал он, – странная встреча. Вы и прежде знали панну Флору?
– Нет, сегодня в первый раз вижу.
Барон отвел Скальского на крыльцо, заставленное цветами и окруженное громадными апельсинными деревьями.
– Не правда ли чертовски оригинальная дева? – шепнул он, засмеявшись. – Только в деревнях попадаются еще подобные экземпляры. Заметили дом, обстановку и, наконец, нашу знаменитую Семирамиду? Знаете ли, что особа эта, имеющая на несколько миллионов состояния, будет ссориться за какой-нибудь злотый до упаду.
– Все это для меня тайны, – отозвался пан Рожер с притворною улыбкой, – это для меня все равно, лишь бы покончить пограничный спор.
– Могу вам предсказать, что если дело идет о полдесятине земли, то панна Флора ни за что не пойдет на уступку, а скорее затеет процесс.
Скальский улыбнулся.
– Ну, что ж и будем вести процесс, – сказал он.
В этот самый момент в Волчьем Броде случилась вещь необыкновенная: панна Флора оставила племянницу, ее дочь и, миновав барона, сама подошла к пану Рожеру спросить его – как понравилась ему окрестность.
Вероятно, она была тронута его грустным, смиренным, почти покорным видом… Надобно сказать правду, что Скальский, который всегда много рассчитывал на наружность и старался ее облагородить, был очень не дурен, может быть, с большими претензиями, но не без шика.
На этот раз обманутые надежды отняли у него именно то, что могло ему вредить – излишнюю претенциозность. Он казался скромным, и это было ему к лицу.
Ни для кого не было тайной, что та, кого безжалостный Гельмгольд назвал Семирамидою, любила красивых мужчин. Конечно, по этому поводу ей и приписывали несколько самых неправдоподобных романов. Говорили, чему не следует верить, что все матримониальные надежды претендентов разбиты потому, что сами они были недостаточно покорны, хотели иметь собственные убеждения и мнение, а этого Семирамида не переносила.
Конопатая племянница, увидев проделку панны Флоры, шепнула на ухо Гельмгольду:
– Говорю тебе, я ее отлично знаю, он ей понравился, но я этого не боюсь: как пришло скоро, так и уйдет быстро. Были такие, что и по году ездили и, как шла молва, были женихами, а когда в один прекрасный день отказала, то более не появлялись. Знаешь, за что прогнан был тот, как его? Знаешь? Недокуренную сигару бросил в песочницу вместо того, чтоб положить в пепельницу.
И собеседники засмеялись.
– Она такая всегда, – прибавила племянница, – сперва гордится, потом привяжется Бог знает к кому, скомпрометирует себя, а там смотришь, ни думано, ни гадано, и выгонит обожателя из дому. Потом и спать не хочет.
Сквозь открытое окно видно было, как хозяйка, покуривая сигару, вела гостя дальше, весело с ним разговаривая.
– Но надобно тебе сказать, кузина, – шепнул Гельмгольд, – что это интриган, каких мало. О, я его знаю! Готов биться об заклад, что он втерся сюда с умыслом.
– Хотя бы он был и сто раз искуснее, чем ты полагаешь, то с тетей Флорой ничего не поделает. Здесь я совершенно спокойна.
Когда панна Флора возвратилась на крыльцо, ведя за собою пана Рожера, лицо у ней было веселое, и Скальский также был несколько свободнее.
Случилось то, чего даже никто не мог ожидать; панна Флора, по поводу поземельного спора, пригласила молодого соседа через день на обед и обещала ехать с ним верхом осматривать спорную границу. Она была так с ним любезна, что если б он не был предупрежден на ее счет, то мог бы льстить себя надеждой.
Через несколько недель, однако ж, панна Флора написала письмо к графине С… в Познань. Она училась некогда с нею в одном пансионе в Варшаве, и хотя все упрекали ее в непостоянстве, однако она не изменила в приязни своей к подруге.
Письмо было следующего содержания:
"Милая моя Эмилия! Чувствую, вижу – ты даже не бросила в меня камень, когда другие кидали презрение. О, я была слаба, но была несчастна, и до сих пор несчастна. Но довольно о грустном прошлом. Не могла я умереть старой девой, хотя бы для Терени, а признать ее за дочь иначе не могу, как выйдя замуж.
По мне пробегает дрожь, когда пишу эти строки… Скажи мне, можно ли уважать человека, который из-за денег, о, уж конечно, не для моих достоинств, которых не знает, обещает жениться на женщине, старее его, признать ее ребенка своим и выставить себя на позор и посмешище?
Поставленный подобным образом вопрос я разрешаю моими вздохами и отрицанием… Но послушай!
Человек этот делает подлость, не чувствуя ее, как вещь самую простую и натуральную.
Я мало требовала прежде условий от того, кому хотела вверить судьбу свою… Ты знаешь, что я давно разочарована; идеалы цветут ваши, а мои отлетели, Бог знает когда. Мы оба понимаем жизнь, как расчетную книжку, которую необходимо привести в порядок. Он не беден, кажется дворянин, хотя мне это вздор, но он согласится на все, на все! Вдобавок он купил по соседству имение, и это обстоятельство придает еще более приличный вид нашему супружеству.
При третьем свидании я ездила вместе с ним осматривать спорную границу и в дороге разговорилась свободно. Он был робок, я должна была ободрить его, а когда первый шаг был сделан, мы отлично поняли друг друга. Он самолюбив, но это все равно.
Я знала, что он был в Берлинском университете, и ничего так не боялась, как головы, вскруженной философией; к счастью, я нашла, что он уважает основы религии, хотя, может быть, для того, чтоб казаться аристократичнее… Но он из наших… Вера придет впоследствии.
Из боязни, чтоб семейство о чем-нибудь не догадалось, я отложила немного четвертое и решительное свидание; но все уже между нами условлено, что он признает Тереню дочерью. Не смейся пожалуйста! Когда Тереня родилась, он, конечно, ходил еще в школу, но что же делать? Мы уезжаем на несколько лет в Италию; люди поговорят и позабудут.
Дорого мне стоило исповедаться перед ним, но должно отдать ему полную справедливость, что он держал себя с необыкновенным тактом. Записываю ему (я должна это сделать) весь Волчий Брод, а Терене отдаю капитал. Представь себе изумление, ярость, отчаяние и проклятие сестры, племянниц и всего семейства, когда они узнают о событии!
Нескоро, впрочем, узнают, потому что дело отложено нарочно, чтоб придать ему более приличный вид. Я наступаю как безумная, но мне на этот раз удалось. Родные, которые не раз видели меня в подобном положении, ожидают только, скоро ли я дам ему отставку. О нет, я не прогоню его. Он признает мою Тереню, дает ей имя, и я буду иметь возможность прижать к сердцу милое дитя и первый раз из уст ее услышать восхитительное слово – "мама"! которого так долго жаждала.
Бога ради – никому ни слова! О как они изумятся, когда я им представлю его после свадьбы! Ксендз Бобек обещал мне обвенчать так, чтоб никто не знал об этом. Свидетелями будут несколько моих служащих. Через неделю после венца уедем в Рим и Неаполь. До свидания, Эмилия! Благослови пятидесятилетнюю невесту и не смейся, – все это трагично. Начало ли это, или конец жизни – кто знает!..
Навсегда твоя верная старая, отцветшая Флора".








