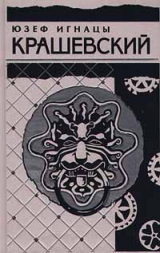
Текст книги "Дети века"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
– Зная ваше семейство, надеюсь, судя по вашим благородным чувствам, барон, надеюсь, что вы меня не выдадите.
Клаудзинский осмотрелся вокруг.
– Даю слово, что буду молчалив, как могила! – воскликнул барон, бросаясь на шею робкому собеседнику, который пятился от этого.
– Ну, так нечего долго толковать, – отозвался пан Мамерт. – Видите ли, люди этого не понимают… Я зубы проел, наблюдая за их интересами. Всем они обязаны мне. Я сберег их состояние. Где высевалось прежде триста корцев, там сеется восемьсот. Я потерял здоровье, служа им, и клянусь совестью, не заработал ни гроша. И в турецком суде присудили бы что-нибудь мне за кровавый труд…
Как видите, пан Мамерт и говорил нелогично и начал с конца. Барон Гельмгольд все это выслушал терпеливо.
– Все это так, пан Клаудзинский, и мы поговорим об этом после, а теперь к делу. Приданое ведь в недвижимости?
– Да. И что за земля, угодье, какие луга, леса, в особенности леса, им цены нет, барон: мачтовые деревья. Фольварки, постройки, мельницы!
– А как вы цените обе части? Пан Мамерт задумался.
– Сказать миллион – мало, а два – может быть, много, но с лесами, кто знает.
– О, если б можно было жениться на обеих разом! – воскликнул барон, потирая руки.
– Другая может и не выйти замуж, – шепнул пан Мамерт. – Может остаться при сестре. Это можно было бы устроить.
Барон с живостью наклонился к Клаудзинскому и шепнул ему что-то такое, что вызвало румянец на бледном лице управляющего.
– Честное слово, – прибавил он, – дам, если угодно, письменное обязательство, но только помогите мне искренно, как земляку. Скажите – которую мне брать?
Клаудзинский выпил вина, подумал, потом сжал руку барона и шепнул:
– Старшую, старшую! Она отважнее и с нею скорее сладите. Младшая не имеет большой охоты к замужеству. Но вам которая нравится?
Барон пожал плечами.
– Почтенный земляк, я не молокосос! – воскликнул он. – Девицы обе ни хороши, ни дурны, о любви не может быть и речи, а, по-моему, всегда лучше выбрать старшую. Но ведь надобно знать, как все это исполнить? Идти ли открыто против мачехи, Люиса и французов?
Пан Мамерт быстро замахал рукою.
– О нет, нет, секретно; все надобно делать секретно. Панна истомилась от скуки, надо влюбиться и завязать сношения. Поезжайте раза два в Туров, я укажу средство к переписке, и необходимое украсть невесту, иначе ничто не поможет: нет другого средства.
– Что ж, и украдем! – воскликнул барон. – Хотя это мне, чужому здесь, будет и нелегко, однако…
Клаудзинский задумался и медленно пил вино из рюмки.
– А в таком случае, что же станется с младшей? – спросил барон. – Ведь за нею будут еще строже присматривать? Не лучше ли уж украсть обеих?
– До этого еще далеко, – сказал тихо Клаудзинский, – неизвестно, какой оборот примет дело.
И он холодно взглянул на барона, но Гельмгольд рассудил, что в таком важном деле необходимо ковать железо, пока горячо.
– Не знаю, как вам покажется, – сказал он по минутном размышлении, – но я, с моей стороны, готов выдать письменное обязательство с тем, что и вы мне таким же способом обещаете свое содействие.
Дело представлялось с двоякой точки зрения: письменное обязательство было не безопасно, но и положиться на слова барона, который так хладнокровно приступал к делам, Клаудзинскому казалось неосмотрительным.
– Если уж вы, пан барон, так любезны, – сказал пан Мамерт, – а тем более что все мы смертны (здесь он вздохнул), то зачем нам делать обоюдное условие и требовать моей ничтожной подписи, когда в своем обязательстве можете поставить такое условие, что вознаградите меня настолько, насколько будет успешно дело.
– Правда, – отвечал барон, ударив рукою по столу и спеша заключить условие.
Еврейка вошла с полной "уверенностью, что, по нашему обычаю, потребуется вторая бутылка вина; так показалось барону, ибо она начала убирать порожнюю.
– Подай-ка нам бутылку шампанского, – сказал он, – я принеси лист, бумаги, перо и чернильницу.
Слишком осторожный пан Мамерт, не желая возбудить подозрений, прибавил:
– Лист почтовой бумаги, конверт, сургуч и печатку. И он мигнул барону.
Еврейка вышла.
– Что же вы мне теперь посоветуете? – спросил Гельмгольд.
– Тсс! Во-первых, сегодня разойтись. Потом с этой минуты вы меня не знаете, не говорите со мною.
– Хорошо.
– Когда придет время я оставлю здесь у Мордка письмо, адресованное на имя панны… панны Паулины, а вы о нем наведывайтесь. Я скажу Шпетному об этом. Сегодня я еще ничего не могу сказать решительного, кроме того, что завтра или послезавтра вам надо будет ехать в Туров, приготовиться к дурному приему, все переносить, ничего не видеть, не понимать, что будут говорить… Об остальном и сами догадаетесь.
Собеседники молча пожали руки друг другу.
Барон не надеялся на такую легкую развязку, но он не знал, что в ту минуту, когда под окном графини Изы слушал ее обет, то пан Мамерт стоял тут же недалеко. Последний, испуганный этой решимостью панны, естественно, предпочел условиться и помочь барону, который так хорошо входил в его положение, нежели рисковать.
Сура принесла шампанское и новые бокалы, желая похвастать, что у них в доме каждое вино подается подобающим образом. Положила она также на стол бумагу, чернильницу, перо, сургуч и печать. Контрагенты пили молча; барон был оживлен, лицо пана Мамерта выражало смиренную решимость.
Условие заключили в несколько минут, и Гельмгольд подписал его. Опустив глаза, стыдливо взял бумагу достойный Клаудзинский, еще раз пробежал и, прежде чем положил ее в карман, с чувством обратился к барону:
– Даю честное слово, пан барон, что я растроган. Судя по наружности, люди могли бы обвинять меня в жадности, в желании поживы, но видит Бог (здесь он устремил глаза кверху), сколько я в это имение вложил труда, могу сказать, жизни…
– Я это понимаю, – подхватил барон, – и потому, как вы сами видели, я сразу вошел в ваше положение.
– Вы благородный человек, и мне приятно услужить вам. Они пожали еще раз руки друг другу; барон попрощался, расплатился в лавке и, закурив сигару, вышел на улицу.
Игра начиналась.
Гельмгольд шел, обдумывая, как бы лучше повести дело, и тотчас же хотел написать к матери, конечно, обиняками, об успешности предприятия.
Он и не догадывался, что пан Рожер следил за ним, и чрезвычайно удивился, когда, едва присев за письмо, услыхал стук в дверь, вслед за которым вошел молодой Скальский.
В свете принято встречать подобного неприятного гостя как можно радушнее, чтоб тот не догадался, что его проклинают в Душе. Приятеля можно принять иногда холоднее и быть с ним откровенным.
Барон вскочил с места и начал с таким чувством пожимать протянутую руку, точно приветствовал избавителя. Пан Рожер отлично понял это и начал извиняться.
– Помилуйте! – воскликнул барон. – Напротив, я в восхищении. Принялся было писать к матушке, но это не к спеху.
– Что же вы у нас здесь поделываете?
– Признаюсь вам, пан Рожер, – отвечал Гельмгольд, понижая голос, – что нахожусь в большом затруднении. Кажется, я говорил вам, что у меня есть родные здесь в окрестности, и, пользуясь случаем, я хотел навестить графа Люиса. Все это я предполагал окончить дня в два, в три, а между тем родные, вследствие какого-то старого запутанного процесса, удерживают меня подольше. Просто схватили за полы и нет средства вырваться, что приводит меня положительно в отчаяние. Во Львове начинаются бега, и мне надобно бы возвратиться.
– Но мы от этого с выигрышем, – сказал пан Рожер, – потому что долее будем наслаждаться вашим приятным обществом.
Барон вздохнул.
– Все это хорошо, но пропущу бега. У меня есть светло-гнедая кобыла Офелия, на которой сам хотел скакать. А теперь непременно опоздаю. Офелии я без себя не доверю жокею, и теряю на этом, кроме большого удовольствия, пару тысяч талеров по крайней мере.
Рожер слушал, как бы веря.
– Значит, какие-нибудь старые дела? – сказал он.
– Да, и вот мои родные, пользуясь моим приездом, желают окончить их, тем более что я имею доверенность от матушки.
– Для этого вам необходимо бы посоветовать с каким-нибудь опытным юристом.
– Не знаю… – сказал смешавшийся барон.
– Я указал бы вам одного человека. Вы бываете в Турове, поговорите с тамошним управляющим Клаудзинским; он юрист и делец, каких мало.
Молодые люди посмотрели друг на друга. Барон от досады, что его разгадали – покраснел, как вишня. Пан Рожер улыбался. С минуту оба молчали; Гельмгольд придумывал, как бы вывернуться.
– Вот хорошо! – воскликнул он, как бы наивно, ударив себя руками по коленкам. – Советуете мне то, что я уже сделал. Я именно возвращаюсь от него, потому что Клаудзинский родом из Львова, и матушка выхлопотала мне рекомендательное письмо к нему от его брата. Я именно с ним говорил о моем деле, но это человек не подходящий, не юрист, а агроном, спекулянт, знакомый несколько с судебными формальностями.
Пан Рожер, притиснутый в свою очередь, замолчал, почувствовал отпор и видел, что если барон и затеял какую интригу, то не имеет желания откровенничать. Но он решился припереть противника к стене.
– Знаете что, барон, – сказал он тише, – если б я был на вашем месте, то воспользовался бы чрезвычайно счастливым стечением обстоятельств.
– Например?
– Выбрать одну из двух богатых графинь.
– Но богаты ли они?
– Это мог бы лучше всего объяснить вам пан Мамерт. Я полагаю, что богаты.
– Да, но они уже не молоды, не хороши собою, и сколько могу судить, их не желают выдать замуж и стерегут, как драконы в садах Гесперидских.
– Э, – сказал пан Рожер, засмеявшись, – драконы иногда спят, и можно сорвать яблоко.
Молодые люди снова посмотрели друг на друга.
– Вы знакомы с графинями, пан Рожер? – спросил Гельмгольд.
– Немного. Раза два видел в обществе и часто встречаю в костеле. Они не хороши, но сейчас видно аристократок; притом же нет лучше жен, как те, которые дома испытали много неприятностей.
– Но ведь бывает, что тот, кто терпел сам, иногда старается отомстить на других, и в таких случаях первой жертвой делается муж.
– Значит, вам не понравилась бы ни одна из графинь?
– Нет, да я еще и не думал до сих пор об этом.
– Меня это очень радует! – воскликнул пан Рожер.
– Отчего?
– Теперь я могу говорить с вами откровенно. Мы хорошая шляхта, и у меня есть намерение… Мы покупаем деревню в соседстве Турова… Что же мешало бы мне попытать счастья!
– Конечно, – отвечал задумчиво барон, – тем более что если бы даже и мне пришла подобная мысль, то ведь мы можем поделиться, так как предстоят две невесты.
– Из чужих туда никто не заглянет, – сказал пан Рожер, – семейство стоит на страже, а если кто-нибудь приедет случайно, как, например, вы, то сумеют скоро отделаться. Я не заносчив. Хотя мы старая шляхта, но несколько обедневшая; при других обстоятельствах я, может быть, побоялся бы отказа, но здесь панны изнывают от скуки и примут каждого жениха… Вот семейство…
– Семейство не допустит, – прервал барон.
– Ну, для этого есть средство, – продолжал флегматически пан Рожер. – На согласие родных нечего и рассчитывать, а надобно суметь обойтись и без них.
Соперники посмотрели друг на друга. Барон не счел удобным открываться пану Рожеру и постарался обратить разговор в шутку.
– Ну что вы, веселитесь у нас в городе? – спросил Скальский.
– Нет, хотелось бы завтра выехать.
– А на сегодня какая программа?
– Никакой, – письмо к матушке и отдых.
– Так я вас приглашаю к себе на чай.
Гельмгольд был в нерешимости, а пан Рожер тем более настаивал, что знал, какое удовольствие доставлял сестре.
– Даю вам час времени на письмо, – сказал он, – а потом зайду и уведу силой. Родители и сестра не простили бы мне, если б я позволил вам скучать в гостинице.
Барон поломался немного, но наконец согласился, чему, может быть, способствовало воспоминание о хорошеньком личике и кокетливых глазках панны Идалии. Взяв слово, пан Рожер поспешил в аптеку, чтоб сделать необходимые приготовления.
Старик Скальский был слишком занят, чтоб это событие могло произвести на него сильное впечатление, однако ему был приятен вторичный визит барона; мать и дочь чрезвычайно обрадовались. Аптекарша с наивностью крестьянки видела в этом матримониальные замыслы барона, а панна Идалия надеялась добить его вторым выстрелом.
Она немедленно побежала в свою комнату посоветоваться со своей гардеробянкой, панной Наромскйю, выписанной из Варшавы, которая, по ее словам, года два жила у модистки. Растворила шкафы, достала платья, откупорила дорогую косметику, и началось одевание, которое должно было доказать барону, что не в одних столицах живут щеголихи.
Около часу гардеробянка болтала без умолку, но панна Идалия не слушала этой болтовни, потому что думала о другом…
В хорошенькой головке ее блуждали вопросы без ответа. Барон? Настоящий ли барон? Богатый? С сердцем ли барон? Свободен ли, не влюблен ли он? Чем удобнее привлечь его?
Бедная девушка ни разу не справилась со своим сердцем: стремится ли оно к барону? Не спросила у души: есть ли к нему влечение? Дитя века мечтало только о титуле баронессы, о блестящем экипаже, и кто знает, может быть, и о представлении ко двору!
XI
Недалеко от плотины и мельниц, где лежала дорога к кладбищу, на самом краю плохо отстроенного предместья, виднелась бедная мещанская хата с примыкавшим к ней огромным садом. Вся эта часть города не отличалась достатком, но описываемый домик был, может быть, беднее всех остальных.
Сад, принадлежавший к нему, обнесен был жердями, кольями, хворостом, что не очень-то защищало его от нападения хищников. Часть его, спускавшаяся к пруду, поросшая травой, представляла собой влажную торфяную лужайку, а на верхней половине помещался небольшой огород. Последний, однако ж, не отличался заботливой обработкой, и плохо возделанные гряды свидетельствовали, что около них хлопотали слабые руки. Растительность на них была довольно жалкая и состояла из низкой капусты, полуувядшего картофеля и небольшого количества кукурузы, а ближе в хате посажены были грядки лука и мака. У окон не было цветов, и лишь одичавшие лилии едва виднелись из сорных трав и крапивы.
Колодец был полуразрушен: старый сруб почти опустился в землю, журавль искривился, а почерневшие корыта казались словно обгрызенными, – так их иззубрила влажность.
Постоянная лужа окружала колодец и почти заграждала дорогу к домику, походившему скорее на крестьянскую избушку, нежели на жилище горожанина. Покоробившаяся кровля его поросла мхом и травой, а сам он осел в землю. Окна почти лежали на завалинке, а ставни давно уже лишились способности затворяться. В таком же полуразрушенном состоянии находились хлева и сарайчик, которых давно не чинили. У дверей не виднелись дети, которые могут оживлять беднейший приют; все было пусто и мрачно.
Все говорило, что жильцы этой лачуги не в состоянии уже были исправить своего жилища и равнодушно смотрели на окончательный его упадок.
Под вечер или, лучше сказать, в начале сумерек, когда после знойного дня небо начинало заволакиваться черными тучами, из города шел молодой человек как бы на прогулку, часто оглядываясь, словно из боязни быть замеченным, и расспрашивая о чем-то встречных детей и женщин. Все указывали ему на отдаленную одинокую избушку. Приближаясь к последней, молодой человек убавил шагу, и на лице его отразилось чувство скорби, перешедшей даже в иронию; он улыбнулся.
Это был Валек Лузинский. Со времени полного освобождения от опеки доктора, мучило его постоянно возраставшее желание открыть свое происхождение и проникнуть тайну, которая покрывала его сиротскую колыбель. Он решился отправиться на поиски в Туров, хотя много ожидал от этого и даже еще сам не знал, как приступить к делу. Прежде он хотел попытаться поискать путеводной нити в городе. С этою целью он пошел в магистрат под каким-то предлогом посмотреть списки населения и поискать в них фамилии Лузинских. Он сверх ожидания нашел искомое очень легко, но семейство это, несколько десятков лет тому назад весьма многочисленное, все почти повымерло, так что оставались только в живых старик со старухой и внучка. Тут же он нашел номер дома, и по этим указаниям вечером, стыдясь быть узнанным знакомыми, подошел к убогой хижине, последнему приюту старых Лузинских.
Долго он ходил вокруг в ожидании, не появится ли кто-нибудь, так как ему хотелось поговорить, не входя в хату, однако напрасно. Между тем постепенно темнело, и Валек, вознамерившийся узнать что-нибудь, решился переступить через порог хижины. Комната налево была пустая, почернелая, ободранная, только против двери висел единственный образ Спасителя.
Вслед за скрипом двери, из-за перегородки послышался едва внятный голос: кто там?
– Чужой, прохожий, – отвечал Валек.
– Что же вам здесь надо? – сказали из-за перегородки. – Здесь не достанете ничего, даже воды. Старик с внучкой ушли в лес, а я лежу больная. Ступайте с Богом.
– Это дом Лузинских? – спросил Валек.
– Конечно. А какое вам до них дело?
– Хотел расспросить о них.
– Расспросить о Лузинских? А кому какая в них нужда? – продолжал слабый голос. – Кому нужда до нищеты?
Валек очутился в неприятном положении, и не знал бы как продолжать разговор, но в эту минуту отворилась за ним дверь, и в ней показались сгорбленный старик и пятнадцатилетняя девочка.
Старик был страшен – такой, каким пугают детей: седой, с длинной белой бородой, на которой изредка попадались черные космы, с растрепанными волосами; из расстегнутой рубашки виднелась костистая бронзового цвета грудь; в руке у него была палка, а на плечах перевешенные накрест торба и кузов с грибами. Кроме этого, у него за спиной торчала вязанка хворосту. Девочка была одета в вытертую сермягу не по росту, в серую рубаху, подпоясанную красным поясом, в полинялую синюю юбку, а светло-русую головку повязала темным платочком.
Между тем бледное, изнуренное личико девочки отличалось красотой, развитию которой мешали труд и нищета. Губы у нее были белые, глаза большие голубые, шея и руки загорели, а ноги исцарапаны.
Она тоже имела за плечами кузовки, в руках несла кувшины, наполненные красными и черными ягодами, а на спине какую-то торбу. Живописны были эти фигуры для артиста, но грустны для человека.
Старик и девочка молча, с необыкновенным любопытством смотрели на Валека, словно давно не видали порядочно одетого человека, и остановились на пороге. Лузинский догадался, что пришли хозяева.
Старик поставил кузов на лавку, постоянно смотря на гостя, а девочка вскоре ушла за перегородку.
– Что вам надо? – спросил старик у Валека, поздоровавшись.
– Ничего, я только хотел расспросить о Лузинских.
– О каких?
– Которые живут здесь.
– А зачем вам?
Валек стыдился признаться и начал лгать.
– Видите ли, – сказал он, – у меня был приятель в Варшаве, который слышал, что здесь живут Лузинские, а как он сам носит эту фамилию и родом из этого города, то и просил разведать.
Старик оперся о лавку, потому что слишком устал.
– Эх, – сказал он грустно, – были Лузинские на свете, были, но теперь их как будто нет, и спрашивать не стоит. И что кому до них или до их фамилии.
Старик вздохнул.
– Ваш приятель, – продолжал он, – не должен быть из наших Лузинских, если жил хорошо, потому что нам не везет… Ступайте себе с Богом, здесь вам делать нечего. Там моя старуха лежит почти при смерти, здесь видите вы старика, который, работая целый день, не достанет на горячую пищу, а вот и внучка, которая останется сиротой и, может быть, погибнет, если какая-нибудь милосердная душа не сжалится над нею. Видите вы избу, совсем осевшую, стены которой разваливаются, и вот вам судьба последних Лузинских. И вы скажите своему приятелю, чтобы он о них не разведывал, если не хочет нажить беды.
Валек не мог удовлетвориться подобным ответом.
– Извините, что вас беспокою, – сказал он, – но и моему приятелю Лузинскому не слишком-то везло; он не испугался бы убогого родства, потому что одинок, сирота, никогда не знал родителей.
– И вы говорите, что он из наших мест? – спросил старик задумчиво.
– Так он мне сказывал, но почти ничего не знает о своем происхождении.
– В прежнее время здесь было много Лузинских, – сказал старик. – Но одни повымерли, другие разбрелись, потому что никому из них не везло; остались только мы, да и то ненадолго, кладбище недалеко, и скоро мы туда последуем.
– Был у вас брат? – спросил Валек.
– Было два, – отвечал старик быстро и неохотно.
– Что же с ними сталось?
– Что с ними сталось? – повторил старик с явным неудовольствием. – Разве вы судья, чтоб выспрашивать меня, как на следствии? А какое вам дело до того, что с ними сталось?
– Не сердитесь, дедушка; видите ли, если б молодой человек оказался вашим родственником, он помог бы вам.
– А разве же я требую или прошу чьей-нибудь помощи, кроме Божьей? – воскликнул старик с живостью. – Хотя я хожу в лохмотьях и выглядываю нищим, однако никогда еще не протягивал руки и, пока жив, не запятнаю ее подаянием. Издохнуть – так издохну, если бы допустил Господь, даже с голоду. Что ж такое? Разве и цари не просили милостыни, и паны не умирали без хлеба? Один только Бог знает, что кому предназначено.
– Но что же вам стоило бы потешить беднягу? – сказал смиренно Валек.
– Чем потешить? Что есть у него нищие родственники? Когда бы он даже и отца отыскал, то не слишком обрадовался бы, если отец этот будет Лузинским… Так уже суждено, чтоб каждый Лузинский был несчастливцем, или…
Старик вдруг остановился.
– Ступайте с Богом, ступайте! – продолжал он по некотором молчании.
Во все время разговора на Валека пристально смотрела бледная девочка из-за перегородки.
Старик, видимо, досадовал и хотел отделаться от непрошенного гостя, но Валек не уходил. На счастье его или на беду пошел проливной дождь, засверкала молния, и страшные удары грома перекатывались над ветхим домиком.
– О не выгоняйте меня в такой ливень! – сказал Валек. – Я присяду на лавке и не буду вам мешать.
Старик пожал плечами и горько улыбнулся.
– Как не будете мешать? – воскликнул он. – Довольно того, что вы здесь сидите, чтоб я уже был сам не свой от присутствия чужого человека. Делать нечего, пождите, если пришли уж на беду; только оставьте меня в покое на счет этих Лузинских, потому, что я сам рад бы позабыть, что называюсь этим именем. Валек замолчал, но через минуту отозвался робко:
– Отец моего приятеля звался Марком.
– Что ж из этого? – с живостью отвечал старик. – Разве один Марк шляется по аду? Разве же я знаю, что сталось с Марком? Разве мне это известно?
– Но у вас в семействе был Марк? Старик оборотился с грозным видом.
– Да вы из суда, что ли? – воскликнул он. – В таком случае скажите без всяких уверток. Знаете, что были Марк, ну и что ж вам еще надо?
– Я не из суда, но мне известно, что один из ваших носил это имя, и я сказал, что знаю.
– А я вам говорю, что ничего не знаю, – отвечал гневно старик, – ничего, решительно ничего.
И он уселся на лавке и замолчал.
В это время девочка вышла из-за перегородки.
– Дедушка, – сказала она, – я разведу огонь и согрею для бабушки немного молока, которое выменяла за ягоды…
– Погоди, пока этот уйдет, а с ним пройдет и буря. Во время грозы не следует топить печку: дым притянет небесный огонь, а завтра не будет где и голову приклонить. Подожди!
Между тем дождь лил, как из ведра; совершенно стемнело, и только порою полосы бледного, розового или синего света мелькали в окнах, и поминутно раздавались громовые удары.
Старику очень хотелось сбыть гостя, и он посматривал в окно; оба молчали. Валек не хотел уже расспрашивать и ожидал окончания бури, чтоб возвратиться домой.
Вдруг из-за перегородки кликнули старика, и он, ворча, пошел к больной, которая, вероятно, слышала весь разговор.
К Валеку явственно доносилась тихая беседа.
– Что с тобою, мой старик? Кто там? Чего он хочет? Зачем ты сердишься? Зачем делать неприятности постороннему?
– Как же быть иначе? – прервал старик. – Разве же я знаю, кто он и зачем пришел выпытывать меня? Сколько раз я молчал и никогда не жалел об этом; а когда порою пробалтывался, приходилось раскаиваться. Несет околесную.
– Не горячись, с людьми и с судьбою надо быть терпеливым. Чем же тут гнев поможет?
– Иначе он никогда не уйдет.
– А о чем же он расспрашивает?
– Кто же его знает! Допытывается о Лузинских, сколько их было, что с ними сталось? Об умерших знает только Бог; а о тех, что остались в живых, и Он, кажется, позабыл.
Во время этого тихого разговора за перегородкой девочка, вероятно, боясь темноты, попыталась зажечь какой-то огарок и оставила его на печке. При этом слабом свете убогое жилище показалось еще более мрачным. Валек охотно ушел бы домой, но, хотя гроза и уменьшилась, однако дождь не переставал, а, напротив, как бы еще усилился.
Старик вышел мрачный и почти сердитый, а девочка мигом скрылась за перегородку.
Валек решился затронуть старика еще с другой стороны, с целью что-нибудь выведать.
– Не буду более скрываться перед вами, пан Лузинский, – сказал он. – Не для приятеля, но, собственно, для себя я пришел расспросить о семействе. Я сам Валентин Лузинский, сирота, не имею родителей; благодетель оставил меня, и вот, очутясь одиноким, я ищу хоть следа своего происхождения.
Старик внимательно посмотрел на него.
– А кто же тебя знает, – молвил он, – солгал ли ты прежде или лжешь теперь? Если ты действительно Лузинский, то скажу тебе одно: не ожидай в жизни ничего, кроме невзгод и несчастья, потому что никому из нас не везло.
– Мне также, – отвечал Валек.
– Отец твой звался Марком? – спросил старик, пристально всматриваясь в гостя.
– Да.
– А сколько тебе лет?
– Двадцать два года.
Старик молчал. Подумав немного, он, пожав плечами, спросил:
– А где ты родился?
– Здесь в городе.
– А твоя мать?
– Мать жила прежде в Турове, потом выехала оттуда, не знаю, добровольно ли, или ее выгнали. Отец пропал без вести. Когда я остался сиротою, меня взял на воспитание доктор, у которого я и жил как сын, но в конце концов он выгнал меня из дому.
– Без куска хлеба? – спросил старик.
– Нет, я имею средства.
– И тебе, имея средства, здоровые руки и голову на плечах, надобно еще доискиваться семейства, искать забот, допытываться старых грехов? – сказал старик насмешливо. – Вот так настоящий Лузинский! Ступай, брат, в мир, пока цел, не оглядывайся назад, не расспрашивай, живи своим умом: надобно обходиться без людей.
И, отворив окно, старик высунул голову. Дождь переставал; на небе из-за темных туч проглядывало ясное лазурное небо; вечер становился прекрасным, и в воздухе носился аромат от орошенных Цветов и деревьев.
– Ступай себе с Богом, – обратился старик к гостю, который стоял, все еще надеясь допытаться чего-нибудь, – ступай; здесь Для тебя ничего нет, пан Лузинский! Покойной ночи!
Сердитый Валек молча поклонился и принужден был выйти из хаты.
Конечно, он ничего не выведал у старика, но по некоторым ещ полусловам и по какому-то смущению догадывался, что тот знал что-нибудь о его семействе, может быть, даже об отце. Выйдя щ свежий воздух, молодой человек придумывал средства, с помощью? которых мог бы понудить старика на откровенность. Презрение, с которым последний выгнал его из дома, сердило молодого человека. Он уже прошел несколько шагов по направлению к городу, как в садике, окружавшем домик, показалась девочка, которую он только что видел. Вероятно, она вошла не через ворота, а через калитку в сад и спешила, знаками показывая Лузинскому, чтобы остановился, но оглядываясь, из боязни быть замеченной дедом.
Удивленный Валек подошел к забору; запыхавшись прибежала девочка, схватилась рукою за кол, вскочила на жердь и, наклонившись к Валеку, шепнула:
– Бабушка слышала, о чем вы разговаривали с дедушкой. Дедушка нездоров и всегда сердится, а если вы желаете о чем-нибудь расспросить, то приходите, когда его не будет дома.
– А когда же его не будет дома?
– Дедушка завтра уйдет на работу, а я буду вас караулить и стоять перед хатой. Если я вам покажу пальцем вот так – она, улыбаясь, манила его к себе, – то вы войдите, а если махну от себя, тогда нельзя. Покойной ночи!
– Благодарю.
Спрыгнув с забора, девочка, как заяц, побежал в кусты и скрылась в грядке, засаженной высокими бобами.
Валек веселее возвращался в город. Погода разгуливалась, вечер снова быль прелестный; месяц, словно обмытый, выходил из-за дальнего леса. Лузинский вовсе не спешил к пани Поз и потому шел медленно, думая о своей судьбе и выбирая сухие тропинки. На песчаной почве предместья не осталось уже почти и следов дождя, вода сбежала, вошла в землю, и дорожки просыхали. Между тем, вызванные прелестью вечера, начали показываться гуляющие. Тяготясь встречи с посторонними, Валек решил избрать окольный путь и отправился сзади огородов.
Здесь извивался ручеек, обсаженный обрубленными вербами, отделяя сады и огороды от луга, и этим путем ходили иногда днем люди на работу, но вечером дорожка была довольно пустынная. Валек чрезвычайно удивился, когда увидел в одном с ним направлении шедшего мужчину, которого он не узнал сразу; подойдя ближе, он тотчас же распознал незнакомца, который, по слухам, только что купил аптеку у Скальского.
Шел он один, очень тихо, задумчивый и, может быть, в свою очередь избегая встречи и сообщества. Оборотясь и заметив Лузинского, он остановился. Валек думал, что незнакомец желает дать дорогу, так как в этом месте двум было тесно, и поспешил пройти, нарочно отворачивая голову, но доктор Вальтер сам зацепил его вежливым приветствием.
– Добрый вечер, – отвечал Валек, несколько поворотившись.
– И превосходный вечер, – заметил кротко незнакомец, как бы завязывая разговор.
Любопытный Валек даже рад был похвастать знакомством с доктором Вальтером, и потому остановился.
– Я принужден был переждать бурю в избушке за городом, – сказал он.
– Знаю, – отвечал Вальтер, – потому что сам укрывался от нее напротив, и вас видел. Вы избрали себе самую убогую лачугу.
– Было не до выбора, – отвечал Лузинский, – буря наступила неожиданно, и хотя была не продолжительная, но страшная.
– Кто не видел штормов в Индийском океане и бурь в Китайских заливах, тот о бурях вообще не может говорить, – отозвался незнакомец, как бы нарочно продолжая.
– Картины должны быть великолепные.
– Величественны, как выражение мировых сил, среди которых человек и жизнь кажутся ничтожным, – молвил Вальтер. – Только во время таких потрясений можно понять, какое малое значение имеет наша жизнь для Вселенной, в которой кипят неодолимые силы.
Валек молча шел тихо, давая поравняться собеседнику, ибо тропинка расширилась, и они могли идти рядом, хотя Лузинскому и приходилось часто ступать по мокрой траве. Но любопытство не дозволяло ему оставить человека, который первый заговорил с ним.








