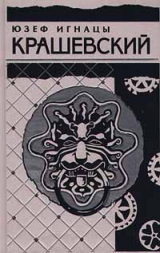
Текст книги "Дети века"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
III
Когда Валек возвратился в Божью Вольку, то застал всех спящими после вчерашней оргии, исключая хозяина, железная организация которого могла выдерживать всякие излишества.
– Вот ранняя птичка! – воскликнул Богунь, увидя Лузинского, выходившего из сада. – Конечно, ты искал вдохновения, которое падает вместе с утренней росой, но ты выглядишь так, как будто бы вместо него встретил волка.
– Как же я выгляжу? Не понимаю, – сказал Лузинский.
– Словно испуган, устал…
– Да, устал и больше ничего.
Богунь осмотрел его с ног до головы.
– Есть кто-нибудь у тебя? – спросил Валек.
– У меня всегда кто-нибудь есть или я кого-нибудь жду, – сказал, засмеявшись, Богунь. – Полагаю, должен приехать вчерашний галицийский барон, который скучает в Турове. Я шепнул, чтоб приехал ко мне отдохнуть, а то в Турове можно, пожалуй, умереть со скуки с доном Люисом, господином дю Валем, графиней и хорошенькой Манеттой, и даже с двумя старыми кузинами.
При этом прилагательном Валек посмотрел на Богуня.
– Как старыми? – сказал он.
– Ну, и не молодые, а зрелые, очень зрелые; старшая даже начинает перезревать. Бедные девушки! Давно уже повыходили бы замуж, потому что богаты, хорошей фамилии, отлично образованы; но за ними зорко смотрят.
Валек взглянул насмешливо на Богуня. Вопреки предостережениям Мамерта, он позабыл снять с пальца весьма приметное кольцо. Богунь взглянул на него, поморщился, остолбенел даже на минуту, потом разразился смехом.
– Боже мой! Боже мой! – воскликнул он, заламывая руки. – Ах, триста чертей твоей ма…
Валек не понял, в чем дело, но, будучи щепетильным, обиделся.
– Что это значит? – спросил он.
– А то значит, что если кто от старой панны получает старый перстень, известный всем на сто миль в округе, необходимо повесить его на шелковом шнурке на шее, а не изобличать себя и не хвастать.
Валек побледнел, быстро снял кольцо и спрятал, но не мог скрыть факта.
– Заклинаю тебя милосердым Богом, чтоб это осталось между нами! – воскликнул он.
– Будь покоен, об этом никто не узнает, но ты должен мне в награду объяснить – каким чертом ты ухитрился? Не верю глазам своим.
– Ничего не могу сказать, но откровенно признаюсь, что так случилось на самом деле, и что болтовней можешь погубить два существа.
– Тсс! Не пускайся в романы, потому что я тебе не верю. Два существа, два влюбленные существа, ха-ха-ха! Словно я не знаю Изы с малолетства и будто не ходил с тобою в школу! Конечно, графиня в атласном платье могла произвести на тебя впечатление, а твоя молодость и смелость повлиять на нее, но чтоб вы оба влюбились – мое почтение!
И пан Богуслав рассмеялся.
– Предоставь это мне, – сказал Валек.
– Очевидно, это не мое дело, – заметил Богунь. – Делай, что хочешь, но так как ты невольно открылся мне, то я считаю обязанностью предостеречь, что если тебя поймает дю Валь или выследит Мамертик, то дело плохо: оба грубияны.
– Перестанем говорить об этом!
– Пожалуй, перестанем.
– Приедет ли барон? – спросил с беспокойством Валек.
– Кажется.
– Один?
– Не могу ручаться. Но зачем тебе барон?
– Мне надобно с ним объясниться, – отвечал Лузинский.
– Будь покоен, я не стану тебя расспрашивать, – сказал Богунь, трепля по плечу приятеля. – Поверь, что от души предлагаю тебе помощь. Не знаю, удачный ли вы сделали, ты и она, выбор, но все же это для нее лучше, нежели завянуть на ветке. Всегда меня возмущала эта неволя, и надобно ее раз навсегда окончить. Однако пойдем пить кофе.
В доме мало-помалу начали просыпаться служащие, прибывшие ночью гости, просыпалась конюшня, и все хозяйничали у Богуня, как в собственном доме. Иные велели подавать кофе по комнатам, другие выходили завтракать во двор, кому-то седлали уже коня, а недалеко слышались выстрелы – должно быть, выпускали вчерашние заряды.
Богунь смотрел на эту ярмарку совершенно равнодушно.
– Куда как скверно иметь плохую память! – сказал он. – Право, не могу припомнить – звал ли я сегодня Люиса и барона обедать и обещались ли они приехать или нет?
И он подозвал усатого человека, который специально заведовал лошадьми в Божьей Вольке.
– Ротмистр, вы оставались вчера до конца?
– До конца.
– Обещал ли дон Люис обедать сегодня у меня со своим гостем?
– Право, не помню, – сказал ротмистр тихим голосом.
– Эх, какая память! Можно ли не заметить подобной вещи?
– А вы?
– Я? – воскликнул Богунь. – Я не могу всего упомнить… Да и для чего здесь все вы? Это Божье наказание.
Богунь отвернулся и вышел.
Валек тоже был рад забраться в свою комнату, отдохнуть немного, одуматься и сочинить какой-нибудь план на будущее. Ему хотелось бы уже уехать в город, но Мамерт велел ему повидаться с бароном, и потому надо было ожидать.
Конечно, в Божьей Вольке было хорошо, но шумное, склонное к ссорам и мало уважавшее Лузинского общество – ему не нравилось. Найдя в своей комнате какую-то книгу, Валек уселся и принялся за чтение или, лучше сказать, смотрел только на страницы, потому что в голове его роились фантазии относительно будущего.
Занятый гостями, лошадьми, завтраком и, кажется, каким-то кредитором, Богунь еще не показывался. Валек собирался уже спуститься в гостиную, как слуга постучался к нему в дверь и сказал, что его ожидают. Лузинский к удивлению нашел на дворе хозяина и барона Гельмгольда, гулявших рука об руку.
Лузинский как знакомый поклонился барону, но на этот раз они взглянули друг другу в глаза с особенным любопытством.
Валек был в смущении. Барон, хотя и умел владеть собою, однако скривился немного при мысли, что судьба посылала ему неподходящего товарища, без титула, без светского образования и простого мещанинишку; но надобно было проглотить пилюлю.
– Вам, господа, – сказал Богунь как-то насмешливо, – вероятно, нужно побеседовать о литературе, не правда ли? Идите же в сад и побеседуйте.
Барон что-то пробормотал, Валек опустил глаза, хозяин вышел, и оба гостя остались наедине. Сперва они молчали, потому что действительно начало разговора представлялось затруднительным.
– Пан Мамерт Клаудзинский желает, чтобы мы с вами условились, – сказал барон.
– А, очень рад, – отвечал Валек.
– Вы знаете мою тайну, точно так же, как и я вашу. Интересы наши одинаковы, и потому нам должно помогать друг другу.
И барон вежливо подал руку. Валек, непривыкший к подобному обращению, бормотал что-то сквозь зубы.
– Я буду свататься за панну Эмму, а вы, кажется, уже сошлись с графиней Изою, – продолжал барон. – Надеюсь, что я при помощи пана Мамерта приведу свое дело в хорошее положение. Итак, нам надобно идти вместе. Какой ваш план?
– Мой план! – прошептал Валек с испугом. – Но… я… я еще не имею никакого, не имел времени обдумать…
– Нет ни малейшего сомнения, – прервал барон весело и шутливым тоном, – что нам придется красть наших невест. Что ни мне, ни вам не отдаст их добровольно французская клика – это верно. Поэтому надобно заранее обеспечить себя. Как мы это обделаем, кто будет венчать, где? Как местный житель, вы могли бы все это приготовить.
– Но разве уже вы так близки с панной Эммой? – спросил Валек.
– До сих пор нисколько, но я веду переговоры через всемогущего Мамерта, и за меня ходатайствуют неволя панны, притеснения, скука. Графиня Эмма мне понравилась, у нее очень аристократическая наружность, я полюблю ее, и она меня также. Я считаю это дело конченным; на этих днях, надеюсь, будут исполнены предварительные формальности. Но вы как думаете?
– Я не имею ни опытности, ни изобретательности и никакого еще плана! – воскликнул Валек. – Если вы, барон, можете посоветовать что-нибудь, послушаю с удовольствием.
– Я, конечно, не могу, назвать себя совершенным новичком, – сказал барон с улыбкой. – Я уже однажды помогал красть панну одному бедному шляхтичу, но не для женитьбы. Я убедился только, что необходимо иметь отличных лошадей, а дальше решительно ничего не знаю. Но экипаж и люди, кажется мне, не столь важны; главнее всего – готовый ксендз.
– А по-моему, – прервал Валек, – закон гласит, что если молодой человек и девица заявят ксендзу, что желают вступить в брак, то никакой ксендз не вправе отказать им.
Барон рассмеялся.
– О, милейший пан Лузинский! Так вы еще на этой степени наивности в практической жизни! Хи-хи-хи! Может быть, когда-нибудь так и было, но теперь все зависит от формальностей, из которых ни одной миновать невозможно. Ксендзу надобно хорошенько заплатить для того, чтоб он решился разойтись с законом. Есть у вас подобный ксендз на примете? Валек пожал плечами.
– Ну, так надобно ехать, хлопотать, и таким образом, чтоб даже не догадались о наших намерениях. Малейшая неосторожность может выдать нас, а малейшее подозрение уничтожит всякую возможность привести в исполнение наше предприятие.
– Я сегодня же поеду в город, – сказал Лузинский. – А вы?
– Я всеми силами, насколько позволят приличия, буду стараться удержать позицию, но, предвижу, что будут стараться выжить меня как можно вежливее из Турова. Как только меня выживут, немедленно приеду в город, ибо вижу, узнав вас короче, – прибавил он, – что вы поэт, а следовательно, самое непрактичное в мире существо, так что надобно будет хлопотать и за себя, и за вас. Где мы увидимся в городе?
– Лучше всего там, где виделись в первый раз, – в гостинице "Розы", – предположил Валек.
– Хорошо. Нам сегодня следовало быть вместе у Мордка Шпетного, и Клаудзинскому с нами, но, кажется, что условие с ним приходится отложить подальше. Мы поговорим об этом.
Барон подал руку Лузинскому.
– Итак, между нами союз, общий интерес, взаимная помощь… Надеюсь, что все пойдет хорошо.
Не успел он докончить фразы, как две длинные руки опустились на плечи молодых людей, и громкий, веселый голос Богуня раздался у них над головой.
– Нет сомнений, что все пойдет отлично, друзья мои, – проговорил он, – но разве только при моей деятельной помощи. Не скрывайтесь, я удобен для тайны, и необычайно искусен на разные проделки. Положение мое под неприятельским лагерем делает союз со мною неоценимым. Я независим и никого не боюсь. Лошади у меня отличные, оружие на всякий случай превосходное, одним словом, вы должны меня уважить, ибо стратегический узел позиции в моих руках.
– Тсс! – сказал барон. – Здесь не место заключать договор. Разойдемся, потому что, кажется, кто-то идет сюда.
Действительно, кто-то шел, весьма неудобный в данную минуту. По изысканному утреннему туалету и стеклышку в глазу Богунь узнал пана Рожера Скальского, который явился с визитом, ибо кто же не приезжал в Божью Вольку?!
Барон скорее почувствовал, нежели догадался, что приезд этот был не без цели, и начал громко сравнивать пейзаж с галицийскими местностями.
– Леса у нас встречаются очень красивые, – сказал он, – в особенности изобильна ими восточная Галиция, а наших Карпатов нет у вас, господа. Вот в Карпатах так настоящая охота!
Скальский подходил. Богунь протянул ему руку. Валек скользнул стороной.
– А, милейший Рожер! Откуда? Каким образом завернул в Божью Вольку такой редкий гость?
Скальский поздоровался.
– А, и барон здесь! – воскликнул он. – Ты спрашиваешь, как я попал сюда? Осматривал имение Папротин, которое мой отец покупает или уже почти купил. Ехал мимо и подумал: заверну посмотреть, что поделывает Богунь.
– Жиреет, – отвечал, засмеявшись, хозяин, – дурной признак. Жиреть и плешиветь – это две самые грустные крайности для молодого человека, который не захлопнул еще за собою двери супружества. А тут, видишь ли, брюхо растет, а волосы нехотя, лысина же увеличивается. Итак, твой папа купил Папротин?
– Почти кончено.
– Гм! Палаццо очень хорош, но почва плоховата.
– Что почва! – прервал пан Рожер. – Одно предубеждение! Посмотрите, какие бывают урожаи в Германии на самой неблагодарной почве! Ведь для чего же существуют и перувианское гуано, и улучшенное хозяйство?
Богунь пожал плечами.
– Я, впрочем, в этом и небольшой знаток, – сказал он, – мне главное, не голоден ли ты и не хочешь ли чего-нибудь?
– Что-нибудь, пожалуй, – молвил пан Рожер и обратился к барону. – Наша сторона должна вам понравиться, – сказал он, – соседство приятное, многолюдное, отличное общество? (Барон утвердительно кивнул головою.) Я не удивляюсь, что вы завернули сюда из Галиции, потому что трудно где бы то ни было найти такой же милый, интересный уголок, как наш.
Барон молчал. Его сердило это шпионство, он угадывал в Скальском врага, но приходилось выказывать совершенное равнодушие, тем более что пан Рожер выболтал ему свои намерения, а сам он решил не высказываться.
Не ускользнуло от Скальского и то, что Лузинский разговаривал с хозяином и бароном дружески, а при виде его скрылся.
Отношения между Лузинским и паном Рожером были более нежели холодны и даже тайно неприязненны. Валек терпеть не мог "аптекарчука", Скальский с презрением смотрел на подкидыша, как он называл его.
– Этот Богунь, – шепнул он, – ухитрится всегда подобрать самое разнообразное общество! Мне кажется, я даже видел здесь Лузинского?
– Он мой школьный товарищ, – сказал хозяин, нахмурившись. – Я с ним могу ладить и, ей-богу, Рожер, он и для тебя годится.
– Ну, не сердись! – воскликнул Скальский с притворным смехом. – Но ты согласишься, что не обязан же я любить всех твоих школьных товарищей?
– Чем же провинился перед тобою Лузинский? – просил Богунь.
– Я его почти не знаю, – отозвался презрительно Скальский, – то есть игнорирую. Но это человек не нашего круга.
Богунь бывал иногда очень едок.
– Скажи же мне, пожалуйста, Скальский, что ты называешь нашим кругом? Я, Туровский, из Божьей Вольки, ты, Скальский…
– Из Папротина, – перебил пан Рожер.
– Ну, на этот раз из аптеки, – сказал смело хозяин. – А он, Лузинский, из…
– Черт знает, откуда, – прервал пан Рожер, – потому что какой-то подкидыш…
– Это, может быть, доказывает, что он рожден графиней, княгиней или в этом роде…
– А может быть и нищей.
– Ты, брат, чертовски полез в аристократию с тех пор как продал аптеку, – сказал Богунь, расхохотавшись.
– Что ты мне колешь глаза аптекой? – возразил недовольный Скальский. – Как будто в том, что отец управлял аптекой, есть что-нибудь предосудительное для шляхетства!
– Конечно, нет ничего предосудительного, – сказал Богунь, – но только я не вижу ничего плохого и для Лузинского в том, что его отец не был даже аптекарем.
Скальский тормошил перчатки с досады.
– Право, Богуслав, – ты становишься несносен.
– Да и ты тоже! – отвечал, засмеявшись Богунь, обращая в тривиальную шутку разговор, становившийся резким.
А так как он не любил кислых физиономий у гостей, то начал обнимать Скальского, шутить и наконец задобрил его.
Он оставил его потом на жертву барону и под предлогом какого-то нужного дела вышел из комнаты.
Шагах в десяти за кустами сирени ожидал его Лузинский, кусая себе пальцы.
– Бога ради, Богунь, дай мне пару лошадей в город.
– К чему такая поспешность?
– А что мне здесь делать?
– С бароном…
– Мы уже переговорили, – отвечал Валек, – мне надобно возвращаться. Пожалуйста, дай пару лошадей.
– Дам четверню и прикажу заложить коляску, – сказал Богунь, засмеявшись, – надобно, чтоб ты заранее привыкал ездить в парадном экипаже.
– Эх, перестань, я не люблю шуток! Пару лошадей и бричку.
– А обед?
– Благодарю! Позволь мне уехать.
– Понимаю, сердце твое требует уединения, и не буду препятствовать, притом же знаю, что вы с Скальским недолюбливаете друг друга. Поезжай, когда хочешь.
И он подозвал проходившего парня.
– Стефек! В миг запрячь пару пегих лошадей в нейтычанку! Ты и поедешь, только смотри, не замори лошадок!
Лузинский едва успел собраться и выйти к конюшне, как уже нейтычанка была готова. Он тут же сел в нее, а парень оглянулся и пустился за ворота.
Около полудня Валек подъезжал уже к городской плотине. Выйдя из экипажа и дав кучеру на пиво, он пошел пешком, чтобы не обратить на себя внимания, и направился к гостинице "Розы".
IV
Несмотря на таинственный выезд Лузинского из города, отсутствие его, однако же, не прошло незамеченным. В небольшом городке малейшая сплетня обращает внимание и служит хорошей поживой на голодные зубы.
Более всех была раздосадована этим непонятным отъездом пани Поз, и от этого у нее усилился флюс и дурное расположение духа. Было в характере этой несчастной женщины, что всем людским действиям она приписывала единственный повод и двигатель – любовь и интригу. В ее глазах не избавляли от этих подозрений ни возраст, ни положение, ни супружеский союз, ни даже духовный сан. Едва только замечала в ком-нибудь что-либо необъяснимое, тотчас же заподозревала тайную любовь. Для нее весь мир обращался на этой единственной оси.
Немудрено, что Валек сильно был заподозрен ей в какой-то связи, а так как был в продолжительном отсутствии из гостиницы, то она и не могла простить его. Приняла его очень холодно и почти с таким видом, который как бы говорил, что Лузинскому не мешало бы искать другой квартиры.
Этим расположением хозяйки ловко сумел воспользоваться приказчик пан Игнатий, которому Валек был очень не понутру, и шепнул хозяйке, что комната наверху может понадобиться, а если б Валек был мало-мальски порядочным, то благодетель не выгнал бы его из дому.
Все слуги дали почувствовать Валеку, что хозяйка их на него гневалась, обходились с ним пренебрежительно, а когда он потребовал обедать, то приказчик приказал Ганке прислуживать, но сам не шевельнулся с места.
Валек, однако же, казалось, не слышал, не видел и не понимал, что делалось вокруг.
– С ним что-то делается, – шепнула Ганка, обладавшая проницательным взором, – наверное, ему не повезло. Сидит нахмурившись. Ну, и поделом ему, пусть не ухаживает за девушками.
Пани Поз хоть и притворялась, что ничего не видит, однако же издали наблюдала за несчастливцем; сердце ее смягчилось, и она приказала просить Лузинского в свою комнату пить кофе.
Когда Ганка объявила ему эту амнистию, он встал и пошел весьма равнодушно.
– Где это вы были так долго? – спросила пани Поз.
– В деревне, – прямо отвечал Лузинский.
– В деревне? У кого?
– У моего приятеля, в Божьей Вольке.
– Гм, гм! – произнесла вдовушка, покачав головой. – А воротились пешком?
– Лошадей отправил от плотины, – отвечал Валек. – А вы что думали?
– Что ж мне думать! Какое мне дело до этого! – с некоторой досадой сказала пани Поз. – Желая вам добра, конечно, я беспокоилась.
– Очень вам благодарен.
– Здесь также справлялись о вас, – прибавила вдова.
– Обо мне? Кто?
– Тот незнакомый господин, что, говорят, купил аптеку.
– Был здесь?
– Мимоходом спрашивал Игнатия, а Игнатий сказал, что не знаем, куда вы отправились.
– Очень признателен вам, что сообщили мне это, пойду поблагодарю его за заботливость, – сказал Лузинский, вставая.
Вдове положительно не понравилась эта поспешность, с какой молодой человек, допущенный в ее комнату, и который должен был бы уметь ценить подобную благосклонность, – немедленно хотел после кофе покинуть это тихое убежище. Валек поклонился и вышел.
Мы не беремся описывать чувства, какие волновали пани Поз; она горько упрекала себя за снисхождение и доброту, но питала слабость к этому сироте.
Между тем Лузинский поспешил к доктору Вальтеру, хотя и сам не знал, по какому поводу. Хотел рассеяться, думал, что старый чудак поможет ему советом. Он не думал ему признаваться, но в общем разговоре можно было кое-что намекнуть, как бы о третьем лице.
Он, однако же, не дошел до Вальтера, а встретился с ним на дороге.
– А, вы возвратились! – сказал старик, всматриваясь в него с беспокойством.
– Только что возвратился. Мне сказывали, что вы были так добры и спрашивали обо мне. Не могу ли чем-нибудь быть полезен?
– О нет! Я хотел только спросить о… Скальских, но это не к спеху. Далеко вы были?
Валек покраснел.
– Ездил к приятелю в Божью Вольку.
Молча Вальтер измерял его взором. Здесь надо прибавить, что неосмотрительный Лузинский, который спрятал было кольцо, подаренное ему графиней Изой, по выезде из Божьей Вольки опять надел его себе на палец, а так как он не всегда имел привычку носить перчатки, то Вальтер и заметил новое украшение. Этого довольно было для проницательного человека; он устремил взор на Лузинского, побледнел, сжал губы; у него блеснули глаза, но в миг он принял прежнее выражение.
– Вы вышли на прогулку? – спросил он равнодушно.
– Шел к вам.
– В таком случае пойдем ко мне.
Они шли молча. Доктор был задумчив и грустен.
– Что же, весело было в деревне? – спросил он.
– Да, но я не люблю шумных сборищ, и потому возвратился.
– Значит, в Божьей Вольке шумно?
– Она известна в этом отношении.
– Это, кажется, недалеко от Турова? – спросил Вальтер, устремив взор на собеседника.
– Граничит с Туровым.
– Так, припоминаю, граничит, я бывал в той местности. Видели кого-нибудь из Турова?
Валек не хотел лгать, но и не располагал признаваться, а потому кивнул молча головой.
– Странных вещей я наслушался здесь об этом Турове и от доктора Милиуса, и от других, – сказал Вальтер. – Странное, несчастное семейство.
– Правда, – проговорил Лузинский.
– Есть что-то фатальное для иных домов и семейств: из поколения в поколение переходит наследство несчастий, грехов, заблуждений, пока наконец какая-нибудь случайность совсем разрушит развалины.
– Относительно Туровских, по моему мнению, дело еще может поправиться. Графский сын, конечно, не подает надежды на возрождение, но есть две дочери от первого брака.
– Знаю, знаю всю эту историю, – прервал Вальтер, – две немолодые уже панны, которых всю жизнь питали желчью, уксусом, полынью, мучили, притесняли до того, что, вероятно, превратили их в самые несчастные существа, которым свет представляется адом или лужей. Есть товарищи мои, доктора, – продолжал Вальтер, – которые делают опыты над животными, кормят их полгода какой-нибудь нездоровой пищей, чтоб потом умертвить, убедиться, какое она произвела в этих несчастных существах опустошение. Панны эти напоминают мне кроликов, к корму которых примешивали индиго, для того чтоб кости их сделались голубыми. Что они будут делать, вскормленные ненавистью, изнывшие в неволе, когда смерть отца разобьет эти оковы?
Вальтер горько улыбнулся.
– Но, – прибавил он, – я не завидую тем счастливцам, которым бедные эти существа достанутся в подруги жизни…
– Но, позвольте, – прервал с неудовольствием Валек, – ведь неизвестно, как индиго отзывается на кроликах; а ежели притеснение и несправедливость не улучшают человека, но делают его более снисходительным, более склонным к любви?
– Напротив, молодой человек, мы очень хорошо знаем, какое действие производит краска, и как влияет подобное воспитание. И я заранее сожалею о судьбе людей, которые женятся на графинях Туровских, а в особенности, если последние выберут людей не из своей сферы.
Разговор начинал быть занимательным и вместе раздражительным. Лузинский замолчал, Вальтер продолжал с горячностью:
– Да, это пролог трагедии; там не может быть ни счастья, ни спокойствия. Если б даже панны иначе были воспитаны, то есть одно правило, которое мало допускает исключений. Счастья нужно искать в своей сфере, а никогда ни выше, ни ниже. Человек исполняется минутной страстью, кажущейся симпатией, но жизнь неумолима, долга и совсем не так проста, как кажется. Есть в ней усложнения, вопросы, узлы, при которых выходят наружу и вызывают на борьбу различие понятий, характеров, привычек. Борьба эта непременно отравит жизнь. Необходимо быть чрезмерно дерзким, чтоб броситься в водоворот, в котором прежде погибло уже столько пловцов.
Лузинский не знал, что отвечать, боялся даже защищать собственное положение, чтоб не выдать тайны.
– К несчастью, – сказал Вальтер грустно, – истина, добытая опытом, почти не существует для молодежи, не искушенной жизнью. Они видят опасность и смеются над нею, а иногда она их даже притягивает. Каждому кажется, что случившееся с предшественниками должно миновать его одного, как избранника. Так погибает мотылек на свечке.
Наконец собеседники подошли к дому Вальтера, и радушный хозяин пригласил к себе молодого спутника.
– Вы возвратились из своей поездки печальный и как бы не в своей тарелке, – сказал он. – В Божьей Вольке бывает игра. Не поддались ли вы этой страсти?
– О нет, – отвечал Валек, – я не играл и не играю, возвратился в таком же расположении, в каком выехал отсюда.
– Извините, что вас выпытываю. Я одинок, без семейства, чувствую всегда потребность к кому-нибудь привязаться, наскучить под предлогом, что ему помогаю. Как медику, мне понятно то расположение, в каком вы теперь находитесь. Вы или влюблены, или жаждете влюбиться и думаете о женитьбе.
– Я? – воскликнул Валек.
– Не отговаривайтесь, – продолжал Вальтер с улыбкой. – Может быть, вы сами еще того не знаете. В подобном критическом расположении возбуждает сильное чувство первая встречная женщина. В таком случае женитесь, но только не безумным образом.
Лузинский хотел засмеяться, но не мог, а только принужденно улыбнулся.
– Я совершенно не располагаю ни влюбляться, ни жениться, – сказал он решительно.
– Даете мне честное слово? – спросил Вальтер с каким-то особым выражением.
Лузинский сильно смешался и не отвечал.
– Итак, я буду нахальным до конца, – сказал хозяин после некоторого молчания. – Слушайте! Я для вас посторонний, совершенно посторонний человек… В этой стороне для всех я также чужд… Но, несмотря на это, вследствие известных отношений, которых объяснить вам не могу, отлично знаю и здешний край, и людей, их отношения и характеры. Должен сознаться, что ваше счастье интересует меня, и не без причины. Скажу вам только одно и больше не могу, что я знавал вашего отца.
Лузинский побледнел, вскочил со стула и заломил руки.
– О вы расскажете мне о нем? – воскликнул он.
– О ни слова! Я знал его случайно, очень мало, ничего не ведаю, но вот почему и считаю себя обязанным говорить с вами откровенно. Вы завязали интригу с безнадежной графиней Изой, получили обещание и кольцо…
Лузинский поспешно спрятал руку, но было уже поздно.
– Дайте мне честное слово, что это не так! – сказал Вальтер и через минуту прибавил: – Вы молчите, потому что я сказал правду. Вот это-то и налагает на меня обязанность заклинать вас, чтоб вы разорвали связь, оставили безумную мысль и послушались меня. Вы надеваете себе петлю на шею, губите себя, и погубите.
Лузинский, наконец, рассердился.
– Допустим, что вы угадали, выследили меня, – сказал он. – Но по какому же праву хотите вы мне навязывать свою опытность?
– Я не имею, никакого права, – отвечал Вальтер спокойно.
– Вы не знаете личностей, угадываете характеры неверно, и я даже не понимаю поводов, вследствие которых хотите отнять у бедного человека средства, какие встречаются ему для улучшения судьбы?
– Потому что эти средства ошибочны и фальшивы, потому что, если у вас есть талант, вы должны идти вперед собственными силами, а не продавать себя из-за денег.
Лузинский презрительно пожал плечами.
– Прошу вас, оставим этот разговор; я не вхожу даже в причины, – сказал он. – Вы говорите, что знали моего отца, а сыну его хотите затворить дверь к счастью.
Вальтер встал и всплеснул руками в чрезвычайном волнении.
– Взгляните, – воскликнул он, – на мою седую голову, на загорелое лицо, на лоб в морщинах, на погасшие глаза, и вы убедитесь, что я долго жил и имею право учить других, как жить надо! То, что вы называете счастьем, просто бездна! Какое счастье? Эта женщина не любит вас, вы также ее не любите, вы заключаете святотатственный контракт и думаете найти в нем счастье. Знаете ли вы, что значит женитьба бедного человека, без имени, на такой знатной панне, десять поколений предков которой сядут вам на шею? Знаете ли, какое вас ждет унижение, и какую роль вы принимаете на себя? Понимаете ли вы, с какими насмешками будут указывать пальцами на человека, который продал себя? Знаете ли, что сегодня вас будут считать за спасителя, освободившего из неволи, а завтра могут выбросить в кучу сора, что и будет справедливо?
Лузинский сильно разгневался, но нимало не убедился.
– Все это фразы старого человека, – сказал он, – которому плохо жилось, который ошибся в людях, и другим хотел бы отбить охоту верить в счастье. Оставьте меня в покое! Во-первых, я не признаюсь в факте, а если б и действительно готовилось нечто подобное, то я знаю, с кем и с чем буду иметь дело.
Вальтер вздохнул и задумался. Лузинский продолжал:
– Вы коснулись самой чувствительной струны моего сердца, намекнули об отце, о семействе… Расскажите же мне что-нибудь о нем!
– Мне известно немногое, – отвечал Вальтер, – знал я его очень несчастным; о прошедшем он мне не рассказывал, а когда я встретился с ним, то он был беден и умер… в отчаянии. Из полуслов, вырывавшихся у него тогда, мог догадаться, что и в его жизни решительную роль играла женщина не его сферы, к которой он привязался, что, кажется, и было причиной его гибели… Но ему это могло быть простительно, потому что ошибки и ослепление сердца возбуждают сострадание, а расчеты головы и самолюбия порождают вовсе другие чувства. Вы, пан Лузинский, не влюблены, обольщены будущностью, продаетесь за богатство, за мнимое положение в свете. О богатстве не знаю ничего, вероятно, его успели пошатнуть, но не в этом дело; положения же в аристократическом свете вы не достигнете, потому что для этого не получили подобающего воспитания и лоска, которые в ваши лета уже не приобретаются… Жена идет за мужем, а горе мужу, которого она должна вести за собою сквозь тесные ряды привилегированных! Лузинский, муж графини Туровской, останется мещанином; на ее визитных карточках "урожденная графиня Туровская" будет написано гораздо большими буквами, нежели настоящая фамилия; выскочку станут язвить на каждом шагу, и всю жизнь вас будут пожирать гнев и ненависть.
– Как вижу, вы ни во что считаете, что у меня есть талант, и что при помощи положения, представляемого мне женитьбой, я могу выработать себе и собственное блестящее положение.
Вальтер захохотал насмешливо.
– Талант! – воскликнул он. – Талант поэзии! Но кто же его теперь ценит? Что же он кому приносит, если этого таланта будут бояться, как серной кислоты, которая может облить и сжечь платья, если будут избегать вас, льстить вам, но будут еще сильнее ненавидеть и вредить сколько смогут? Обаяние гения непонятно Для толпы. Рядом с человеком, одаренным блестящими способностями, который усовершенствовал свой талант трудом и наукой, станет какой-нибудь светский хлыщ, отлично обладающий жаргоном гостиных, с заимствованными остротами, с запасом нахальства, и затмит самого гения. Знаете, чего достигают основательными литературными заслугами? Тернового венка и памятника на могиле, но не положения в свете. Кто думает вдохновением зажарить жаркое, тот святотатец: нужно служить идее, а не желудку. Рядом с этими дарами, бронзовые украшения ловких людей светят ярче настоящих алмазов. Слушают Тассов, которых мелодические стихи нежат слух, но если поэт во имя поэзии протянет руку, прося дружбы, или захочет прижать сердце к своему сердцу, его запрут в дом умалишенных.








