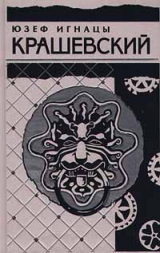
Текст книги "Дети века"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 25 страниц)
И Вальтер улыбнулся насмешливо, смотря на Милиуса, который покраснел.
– Надо сказать правду, – возразил последний, – что и я было свихнулся, но женский ум меня спас, а тебя погубила женская хитрость.
– Меня! Что мне? А вот молодой человек… О Боже мой!
– Но почему же этот негодяй так тебя занимает? – воскликнул Милиус. – Он был у меня, как родное дитя, а между тем, зная его ближе, я его не жалею. Тебе он никто!..
Вальтер стоял бледный, дрожал, слезы текли по исхудалому лицу его.
– Никто, – сказал он тихо, – никто! Нет, этот молодой человек мне сын!..
– Твой сын? – воскликнул Милиус, отступая. – А ты?..
– А я – Марк Лузинский, – прошептал Вальтер и упал на диван.
XVIII
В костеле у обедни, по обычаю, было очень людно. Служил сам ксендз-прелат Бобек; убранный его старанием алтарь утопал в цветах и зелени. В дыму фимиама виднелись кое-где улыбавшиеся розы и венки осенних астр, а взглянув от большого алтаря на костел, можно было видеть венок из людских лиц со всеми оттенками весны и осени.
На передних лавках заседали почетные лица, так называемый большой свет, который даже в храме Божьем устранялся по возможности от столкновения с малым светом. Надобно было видеть, как широко расселась аптекарша, чтоб не допустить с собою на одну лавку пани Поз. Владетельница гостиницы делала то же самое, боясь соседства сапожницы, а сапожница боялась, чтоб возле нее не села простая мещанка из предместья. Все это совершалось тихо и незаметно, и только более внимательный глаз мог уловить стратегические движения и угадать, для чего один сморкался, другой делал вид, что горячо молится, когда являлось непрошенное соседство.
Ксендз Бобек пел слабым, но чистым голосом, имея ассистентами двух молодых ксендзов. Ксендз-викарий с Евангелием в руках ходил по ризнице в ожидании выхода на кафедру. В книжке, которую он держал, легко было заметить белый листок бумаги, список брачных оглашений. Когда прелат кончил и уселся на приготовленном для него месте, викарий вышел, стал на колени перед алтарем, помолился и вступил на амвон.
Как обыкновенно перед торжественной тишиной, слушатели приготовлялись громким откашливанием и сморканием, пока молился ксендз-викарий. Но вот шум утих, проповедник начал читать Евангелие и объяснять заключающиеся в нем истины.
Несмотря на огромную массу слушателей, один Бог знает – многие ли действительно слушали и многие ли понимали. В темных углах набожные спали, просыпались, открывши глаза, вздыхали и засыпали снова. На более видных местах, те, кому хотелось спать, широко раскрывали глаза, которые быстро закрывались на мгновение, чтоб открыться снова.
На некоторых лицах виднелись мысли далеко не набожные. Но здесь и там слово истины влетало в уши, может быть, даже в сердце, зернышко падало на плодоносную почву, и хотя долго не всходило, однако все-таки когда-нибудь в жизни прорастало, хотя и поздно.
По окончании проповеди ксендз-викарий взялся за бумажку с оглашениями. Никто не надеялся встретить имени, которое произвело бы общий эффект, а потому мало кто обращал внимания на оглашения:
– Вступают в брак именитый Флориан Мошанский, ремеслом сапожник, с именитою Катериною Рухневскою, здешнею мещанкою, девицею.
Потом следовали пан Дробит с панною Сапуровскою, потом еще кто-то. Ксендз Бобек направился уже медленным шагом к алтарю, как вдруг ксендз викарий произнес громким, внятным голосом:
– Доктор медицины пан Ян Вальтер, вдовец, с панною Идалиею Скальскою, помещицею, девицею.
Если бы молния ударила в костел, то не знаю, большее ли произвело бы впечатление. Конечно, об этом кое-что болтали, но большинство не верило в подобное супружество, а многие о нем решительно не знали. Закрытая вуалью, сидела панна Идалия на первой лавке во всем блеске щегольского траура, и взоры всех обратились на нее; послышался говор, кое-где сдержанный смех, и если бы не орган, грянувший вдруг всеми своими регистрами, даже и теми, которые фальшивили, вследствие хозяйничанья и злоупотребления костельных крыс, то я не знаю, до чего бы дошло.
Доктора Вальтера не было видно, догадывались, что он на хорах. Несмотря на изумление присутствовавших, невеста нимало не смутилась, напротив, по-видимому, упивалась своим торжеством.
Когда после благословения все начали расходиться, на паперти собралась целая толпа любопытных посмотреть на молодую жену старика доктора.
Аптекарша предчувствовала это и, толкнув дочь, шепнула:
– Пойдем через ризницу.
– Для чего? – спросила панна Идалия, пожимая плечами.
– Разве не видишь, что будут на нас пальцами указывать.
– Пусть себе показывают! – отвечала красивая панна. – А мне что до этого! Пойдем прямо.
Пан Рожер, стоявший у скамейки, разделял мнение сестры и находил неприличным отступать перед улицей, как он называл толпу.
Когда вышли Скальские, их встретила любопытная, говорливая, смеющаяся толпа, вид которой действительно был неприятен. Надо было иметь хладнокровие молодых Скальских, чтоб, не дрогнув, пройти сквозь этот строй.
Некоторые замечания, высказанные вполголоса, достали даже до ушей Идалии, но она притворялась, что не слышала.
– Но, пани Мацеева, это быть не может: он старый гриб, я его знаю, а она какая молоденькая. Ведь у него служит Казимира?
– Что ж? Родители принудили?
– А старику следовало бы всыпать, чтобы выбить дурь из головы, – говорил сапожник. – Это ни на что не похоже.
– Смотри, Иоася, смотри, – шептала девушка, – как ее жалко! Право, неизвестно, есть ли ей двадцать лет, а ему, говорят, шестьдесят с лишком и седой, желтый. Захотелось грибу цветка.
Вокруг смеялись и злословили, но Скальские слишком высоко стояли над улицей, чтоб это могло оскорбить их. Не особенно также поразило их и неожиданное появление барона Гельмгольда, о прибытии которого ничего не было известно пану Рожеру. Барон подошел к Скальским, поклонился матери, улыбнулся сыну и очень любезно подал руку Идалии.
– Может быть, я первый поздравляю вас и желаю вам от души всего лучшего, – сказал он с принужденной улыбкой.
Невеста серьезно приняла поздравление. Пану Рожеру была весьма неприятна эта встреча: он опасался расспросов, разведок; в то время они уже условились с панной Флорой. После ухода графини Изы они встретились впервые. Пан Рожер рассчитывал, что барон, непрошенный, не станет провожать их и вскоре уйдет, но вышло иначе. Гельмгольд оказался чрезвычайно любезным относительно панны Идалии, пошел рядом с нею и, по-видимому, обнаруживал желание посетить аптеку.
Скальскому в свою очередь неприлично было оказывать холодность человеку, которого принимали прежде с таким радушием. Он сознавал эту необходимость и, собравшись с духом, взял его под руку.
– Вы, конечно, завернете к нам? – спросил он.
Пан Рожер питал еще слабую надежду на отказ барона, но последний любезно улыбнулся и сказал:
– Если позволите.
– На этот раз и сама Идалия желала бы, чтоб он не приходил; конечно, ей трудно было удержаться от кокетства, но нехорошо также и огорчать перед свадьбой Вальтера, которого она к себе ожидала.
Барон Гельмгольд был оживлен, как каждый благовоспитанный человек должен быть в обществе, но за этой маской можно было заметить скуку и даже грусть.
– Ну, что же вы скажете об истории графини Изы с тем господином… как его?
– Лузинский.
– Да, Лузинский!.. Ну, что же вы скажете?
Пан Рожер пожал плечами.
– Это могло произойти лишь с отчаяния.
– Только бы из этого отчаяния не развилось другое, – заметил барон.
– О вас тоже говорили, – шепнул пан Рожер, – что графиня Эмма…
– О, в таком товариществе покорно благодарю! – отвечал барон. – Никогда не имел даже этого намерения. Явно, – прибавил он весело, немножко подумав, – что в воздухе странные супружества.
И он взглянул на пана Рожера, который старался не обнаружить ни малейшего волнения.
– Извините, я думал еще об одном, но то…
Панна Идалия посмотрела на него грозно, и барон догадался, что поступил невежливо; он немедленно переменил разговор.
– Нет ли каких поручений в Варшаву? Я уезжаю туда, – сказал он.
– А, уезжаете? – отозвался пан Рожер.
– Да, сегодня или завтра.
В это время они приблизились к аптеке, но все были в дурном расположении духа; барону хотелось поправить как-нибудь неловкость, но не выпадало случая. Панна Идалия смотрела на него сердито, и кокетство заменила неутолимой жаждой мести. В душе ее так и отзывались слова барона: "странные супружества"…
Не успели войти в гостиную, как под предлогом переодевания и отдыха Скальская с дочерью отправились в свои комнаты. Пан Рожер и барон Гельмгольд остались наедине.
– Ну, – сказал барон, окинув взором Скальского, после некоторого молчания, – каково идут ваши дела в Папротипе с границами, с бабушкой Флорой, с хозяйством и так далее?
– Недурно, – отвечал Скальский.
– Что же вы скажете о моей оригинальной родственнице, а?
– Мне нравятся оригиналы.
– В таком случае – вы должны быть очень ею довольны, потому что она достаточно странна в своем роде. Мне говорили, что и вы ей также очень понравились.
И барон начал смеяться.
– Не знаю, – отвечал Скальский в смущении, – но был бы рад этому.
– Но я не советовал бы вам рассчитывать слишком на это, – отозвался барон. – Панна Флора, как нам известно, переменчивого вкуса. Приязнь свою к молодым людям иной раз она простирала даже очень далеко, а оканчивалось обыкновенно тем, что давала им отставку.
Пан Рожер не знал, что сказать.
– Я и не льщу себя надеждой на какие-нибудь особенные милости, – пробормотал он наконец.
– О, почему же? – сказал барон насмешливо. – Я на вашем месте попытал бы счастья; у бабы денег пропасть, и кто знает, не подвержена ли она и до сих пор мании супружества?
И барон испытующим взором посмотрел на Скальского, который бодро перенес этот выстрел. Несмотря на свои недостатки, пан Рожер имел столько благородства в характере, что не хотел лгать прямо и предпочитал выскользнуть из неловкого положения.
Он замолчал. Барон, однако же, имел, по-видимому, другие намерения и желал его выпытать, так что дальнейший разговор их становился чем-то вроде довольно занимательной игры вперегонки. Гельмгольд не знал ничего положительно, но о многом догадывался, а неудача навела на него дурное расположение духа.
– Что касается меня, – воскликнул он, – то если б не близкое родство, и если б я имел счастье понравиться панне Флоре, чего, впрочем, не заслужил, я воспользовался бы!
Скальский еще молчал, но его молчание становилось более и более знаменательным.
– Признайтесь, пан Рожер, – прибавил барон, – женились бы вы на бабушке Флоре?
Подстреленный таким образом Скальский собрался с ответом; приняв холодный, презрительный, несколько недовольный вид, он сказал:
– Все мы, барон, дети своего века и женимся не для любви, не для "хижины и сердца", а из честолюбия и из-за денег… Не правда ли? Я не считаю себя лучше других; на женитьбу смотрю как на контракт, и должен стараться заключить его как можно выгоднее, а потому… если б бабушка Флора возымела счастливую мысль отдать мне руку, то за кого вы приняли бы меня, если б я отказался?
– Вы правы, – молвил барон. – Но, милейший пан Рожер, если бы случайно и могло совершиться нечто подобное, то неужели вы полагаете, что родственники бабушки, к которым имеет честь принадлежать и ваш покорнейший слуга, безропотно перенесли бы утрату ее состояния?
Скальский пожал плечами.
– Любопытно – как бы вы могли воспротивиться этому законным образом? Разве бабушка малолетняя?
– Конечно, мы бы не завели тяжбы, но если бы шесть внуков, пять, кроме меня, вызвали вас на поединок?
Скальский засмеялся.
– Я вышел бы только с одним, – сказал он, – у остальных отпала бы охота биться. Я стреляю ласточек на лету, а рублюсь мастерски.
Барон начал смеяться и подал ему руку.
– В таком случае дайте мне слово, что это басня.
– Что такое? Не понимаю! – воскликнул Скальский.
– В околотке говорят… как бы это сказать, не обижая вас… что вы имеете виды на бабушку… Дайте мне слово, что это сказка…
– Извините, барон, – отвечал гордо Скальский, – я у себя в доме и потому должен быть умеренным в своих выражениях. Скажу вам только, что ни за кем не признаю права вмешиваться в мои дела и требовать от меня в них отчета. Делаю, что хочу и отвечаю перед совестью и общественным мнением, но не позволю делать мне допросы…
– Я и не настаиваю, – прервал барон, – а делаю только замечание, что, отказывая мне в слове, вы тем самым подтверждаете догадки.
– А мне что до этого!
Барон прошелся но комнате, взял шляпу, издали поклонился вежливо Скальскому и вышел, не сказав ни слова.
Весь этот разговор заставил призадуматься Скальского, хотя он и доверял энергии панны Флоры и своей собственной; он надеялся, что если б даже им ставили препятствия, то это не только не затруднило бы брака, а, напротив, ускорило бы его.
Задумавшись и заложив руки в карманы, барон вышел из аптеки с видом молодого человека, привыкшего жить в столице, который удостаивает на короткое время топтать мостовую маленького городка. Ему нечего уже было терять; путешествие его было так бесполезно и несчастливо, так гибельно окончилось, что ему оставалось только удалиться, сохранив приличие и притворившись, что это путешествие не имело другой цели, кроме развлечения.
Необходимо ему было только еще повидаться с Мамертом Клаудзинским и добыть от него несчастный документ, данный на случай женитьбы на графине Эмме. По условию он послал за два дня письмо управителю под адресом "панны Паулины", в котором назначил именно в описываемый день свидание у Мордки Шпетного.
Не считая более нужным скрываться, барон отправился прямо в лавку и застал только одну жену Мордки, которая сидела и вязала чулок во всем величии купчихи, не должной никому в городе, но у которой были только должники.
– Дома пан Мордко?
– А для чего вам? – спросила купчиха.
– Надобно с ним видеться.
– Не знаю, дома или нет.
Она кликнула Сурку и переговорила.
– Как ваша фамилия?
– Барон Гельмгольд.
Еврейка сделалась гораздо любезнее и привстала.
– Покорнейше прошу, господин барон, зайти в заднюю комнату.
Служанка провела барона в указанное место. Мордко в халате писал что-то. При виде барона он смутился, снял шапку и придвинул стул.
– Был ответ на мое письмо? – спросил барон.
Еврей смешался и сделал руками жест, выражавший соболезнование.
– Вы писали к панне Паулине? – сказал он.
– Да.
– О, вы знаете, какое несчастье постигло пана Мамерта! Вей! Это был очень хороший человек, он умел жить с людьми, я у него ежегодно покупал кожи, а у меня все брали в палаццо… А теперь!..
– Что ж с ним могло случиться? Мордко вздохнул.
– С ним случилось большое несчастье… На него донесли, что он служил вашим и нашим и изменил графам… На него напали, отобрали все бумаги, счет, деньги и его потянули к суду. В течение двух дней он едва не умер со страху и должен был много заплатить и уйти, чтоб избавиться от уголовного процесса.
– Куда же он скрылся?
– Кто же может знать? – отвечал Мордко, пожав плечами. – Я знаю только то, что не буду иметь подобного ему человека в Турове.
Купец думал только о себе.
ЭПИЛОГ
Повесть наша почти кончилась. Мы переженили, без малого, всех, кто мог жениться, а остальных героев поставили на самом пороге святилища, куда им войти никто уже не запрещает. Однако же большинство читателей поймет, что конец этой повести и есть именно пролог. Только у подножия алтаря начинается настоящая драма жизни, особенно для тех детей века, которые из священного союза сделали меновой торг и спекуляцию. Собственно, сердце и справедливость должны отомстить им за это святотатство.
Но жизнь безбрежна, без конца вяжется в непрерывную цепь последствий, а повесть ограничена множеством разных общепринятых условий…
Впрочем, каждому легко догадаться о временной развязке. Валентин Лузинский с женою Isa de louzinska, née comtesse Tourowska, добравшись благополучно до Варшавы, начали свою супружескую жизнь в совершенно новом для них свете – с процесса с мачехой, действовавшей по доверенности графа.
Как эта жизнь сформировалась и что из нее вышло, не можем сказать на этот раз, предоставляя заключение догадливости читателя.
Вскоре после описанного свидания с Мордком, барон Гельмгольд, обманувшись в надежде, с опустошенным карманом, должен был подумать о возвращении и направился к Варшаве, выжидая возможности начать хлопоты о получении руки графини Эммы.
Хотя участь последней после ухода сестры и не ухудшилась, ибо из бумаг, захваченных у пана Мамерта, графиня могла убедиться, что Эмма из любви к отцу осталась в Турове, но теперь нельзя уже было думать ни об открытом сватовстве, ни об увозе невесты. Не давая заметить, ее стерегли с удвоенной заботливостью. По первому впечатлению она была свободнее, но ее окружали шпионы.
Графиня пыталась привлечь ее, но напрасно. Не знаем, не позабыли ль мы упомянуть о том, что после известной сцены с Люисом, Манетту отправили во Францию. Туров сделался скучнее, нежели когда-нибудь. О состоянии здоровья старика графа медики сказали, что положение это может длиться Бог знает сколько времени.
Графиня взяла порядочную сумму с пана Мамерта Клаудзинского, который, по словам Мордка, должен был откупиться, и Туровские дела временно поправились этими деньгами. Впрочем, часть их выпросил Люис на поездку в Варшаву под предлогом наблюдения за тяжбой с Лузинскими. Рассказывали – может быть, это и неправда, – что ему удалось устроить как-то так, что он застал еще в Варшаве Манетту, отправленную в обществе бонны швейцарки, и задержанную болезнью в дороге, а швейцарка, спешившая домой, уехала одна. А, впрочем, кто ж знает, может быть, это были только сплетни.
По отъезде барона Гельмгольда, который приехал в Варшаву по поводу финансовых дел и здесь прожил несколько времени в английской гостинице, его семейство постигло большое огорчение: панна Флора, не сказав никому ни слова, уехала в город, наняла квартиру и, выхлопотав разрешение, однажды вечером в боковом костельном приделе обвенчалась с паном бароном Рожером Скальским. Церемонию совершил сам ксендз-прелат Бобек. Так как при венчании находились самые близкие особы, то никто не мог сказать положительно, стояла ли панна Тереза между новобрачными, как принятая в семейство, или форма эта не была соблюдена? Известно только, что с того дня она постоянно находилась при пани Скальской, и что незнакомые люди часто принимали хорошенькую паненку за жену пана Рожера в то время, когда она была… его дочерью.
Семейство панны Флоры до такой степени не ожидало этого события, которого оно так счастливо избегало несколько раз, что не хотело сразу поверить замужеству. Но письмо пани Скальской вывело его из сомнения и повергло в глубокую печаль.
Как предполагали владельцы Волчьего Брода перед свадьбой, так и сбылось: через несколько дней новобрачные выехали в Варшаву, а оттуда через Вену, Триест, Падую и Милан во Флоренцию. Им сопутствовала панна Тереза, которая должна была в капище искусств дополнить свое артистическое образование.
Пан Рожер прежде отъезда из родного города имел удовольствие видеть обеспеченной участь сестры, которая принудила нерешительного доктора Вальтера к ускорению свадьбы. Так как она была в трауре, то дело обошлось без всякой церемонии. Пани Вальтер также располагала, оставив на хозяйстве мать, отправиться по Европе, но доктор, которого весьма нужные дела призывали в Варшаву, воспротивился этому и принужден был отсрочить поездку. Хорошенькая Идалия, надеявшаяся найти в нем после свадьбы покорного и даже предупредительного мужа, не могла ничего с ним поделать, невзирая на сцены, слезы и ласки. Он был упрям и холоден. Оставив разгневанную жену в городке с матерью, он вскоре по каким-то таинственным делам выехал в Варшаву.
В городке мало произошло перемен, но и здесь зубы времени, коса, пальцы его и вообще весь арсенал орудий, какие привыкло оно употреблять для перемены декораций, дали себя почувствовать.
Неосновательно подозревали доктора Милиуса, что будто бы по его старанию архитектор Шурма получил весьма выгодное место на другом конце края; кажется, это случилось само по себе, вследствие поданной просьбы о перемещении. Весело объявил Шурма об этом панне Аполлонии, которая дня два потом прохворала и не могла с ним попрощаться.
Милиус навещал ее и ревностно заботился о ее здоровье; болезнь, однако же, хотя по виду и незначительная, надолго оставила следы по себе. Панна Аполлония изменилась, побледнела, загрустила, начала кашлять, и не могла уже возвратить ни прежней веселости, ни прежней свежести.
Шурма уехал так поспешно и так невежливо, что с немногими попрощался в городе. Но видно было, как оживила его и эта поездка, и надежда на будущее. Вследствие случившихся перемен несчастнее всех был добряк доктор Милиус. После изгнания Валека Лузинского жизнь его уже была подломлена, характер стал угрюмее, а время усилило еще его грусть и сожаление. Не осталось никого из прежних знакомых, кому он давал наставления и кому посвящал себя. Городок почти опустел. Вальтер, с которым он сблизился, выехал, в аптеке остались только упреки и слезы. Идалию невозможно было ни уговорить, ни утешить. По отъезде Вальтера она проклинала его, грозя отмстить в будущем.
Не было у нее никого, с кем она могла бы разделить горе, потому часто она приглашала Милиуса на разговор; но беседа их оканчивалась постоянно тем, что доктор повторял ей:
– Вы сами этого хотели – ну и терпите.
– Но я ему покажу, что не позволю себя обидеть таким образом, и что будет по-моему!
– Увидим, – говорил доктор.
– Не верите?
– Не знаю.
– Убедитесь!
Доктор уходил молча, молодая супруга ворчала; на другой день повторялось то же самое.
Валек Лузинский недостойным своим поведением, может быть, невольно способствовал развязке судьбы пани Поз, которая сильно заболела в первое время после его измены.
Доктор Милиус, кроме пилюль, натираний и разных лекарств, посоветовал ей утром рано совершать гигиенические прогулки в саду, смежном с гостиницей. Сад этот отделялся лишь прозрачным плетнем от огорода, принадлежавшего кондитерской Горцони. Случилось чрезвычайно странное обстоятельство: в те самые часы, когда прогуливалась вдова, Горцони привык, по другую сторону плетня, выбирать овощи и зелень. Но так как между гостиницей и кондитерской велась война Монтекки и Капулетти, то сперва вдова убегала, а Горцони нахмуривался. По какому-то случаю врагам пришлось обменяться несколькими словами, потом они заключили перемирие, начали сухо приветствовать друг друга, а потом между ними завязывались и продолжительные разговоры. Горцони научился, опершись на плетень, развлекать пани Поз, которая утренние гигиенические прогулки начала возобновлять по вечерам, с целью скорее восстановить здоровье. Злые языки утверждали, что однажды Горцони, в пылу какого-то рассказа, пришел в такой восторг, что перескочил через плетень, а потом пил кофе в комнате у пани Поз. Желая положить конец сплетням, обратились к ксендзу-викарию, и Джульетта вышла замуж за Ромео, а гостиница "Розы" органически присоединилась к кондитерской, так что оба эти благотворительные заведения слились воедино.
Приказчик гостиницы, ожидавший, по-видимому, другой развязки, отошел и уехал в Варшаву, где при помощи приятелей основал в малых размерах заведение, подобное тому, в каком служил с таким достоинством.
Напрасно спрашивал бы меня читатель о судьбах убогой хаты близ плотины, старухи, старика и их внучки. Кто же знает, что делается с бедняками и когда они являются на свет и уходят? Сказывали нам, что в хате вскоре были вынуты окна, дверь прибита колом, и вокруг не осталось живой души. Неизвестно, смерть или нужда опустошили ее.
В тесной улице, где, сидя на гробе, весело распевала молоденькая девочка, появился неожиданно колченогий парень, который строгал доски и заступил ее место.
Соседи, любившие голосок и личико Линки, расспрашивали о ней у парня, но колченогий был ужасный грубиян, ворчал, ругался и никому ничего не рассказывал.
Чрез несколько месяцев Линка появилась снова, но бледная, исхудалая, грустная; глаза у нее запали, губы посинели, и она более не пела. Одним словом, это был увядший цветок. Занимаясь вязаньем чулка, она часто отирала покрасневшие глаза и сидела, печально задумавшись. Напрасно сестренка заговаривала с нею, Линка словно не слышала, и, казалось, что мысль ее и душа улетели куда-то далеко.
С весною в священническом доме расцвели гряды любимцев ксендзап-релата, за которыми старик столь заботливо ухаживал, но он их уже не видел. Старик пошел любоваться бессмертными венками из звезд, которые вьют ангелы на головы праведных… И кто его знал, тот был убежден, что и старику принадлежит один из этих венков.








