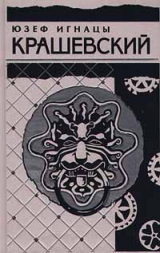
Текст книги "Дети века"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Дармоха отскочил.
– Что ж, он струсил? – воскликнул майор. – Ведь сам же он вызывал, и знал очень хорошо, что это так не кончится.
– Уехал некстати, – отвечал Люис, указывая на кресло. – Вы друг Богуня, знаете наши отношения, мы ведь с ним родственники. Поединок дю Валя имел бы значение, которое могли бы объяснить превратно… Нельзя ли как-нибудь это уладить?
Майор начал барабанить пальцами марш по столу, нахмурился и помолчал с минуту.
– Граф, – сказал он, наконец, – это дело так непонятно для меня, что я уже не могу вести о нем дальнейших переговоров, и имею честь откланяться; но если пан Богуслав где-нибудь на дороге выстрелит в лоб французу, я не отвечаю, и засвидетельствую, что он был вправе это сделать.
– Но, майор, Бога ради, потолкуем иначе…
– Иначе я толковать не умею. Что ты на это скажешь, пан Шабельский?
– Я? Гм! – отвечал Шабельский. – Гм!
– Видите, граф, мой товарищ одного со мною убеждения, – отозвался майор. – Соглашения никакого нет, разве пан дю Валь письменно попросил бы извинения.
– В таком случае он письменно извинится, – сказал Люис сердито.
Майор начал смеяться и показал остатки зубов, почерневших от трубки, которых у него давно уже никто не видел.
– Честное слово, это забавная история, пан Шабельский, а?
Шабельский промычал свое обычное: гм!
Люис бледнел и краснел попеременно, но получил ли приказание от матери, смотрел ли на это дело иначе, или неизвестно из каких резонов, но решился перенести оскорбление, только закусил губы и молчал.
– Знаете, граф, – сказал майор, взявшись за шапку, – что я сделал бы на месте пана Богуслава? Я не выстрелил бы в лоб французу, потому что гадко видеть человека с разбитым черепом, а я велел бы отсчитать ему двадцать пять горячих…
Граф притворился, что не слышит, и начал откашливаться.
– Затем делать нам здесь нечего, – сказал майор и отодвинулся, чтоб не подать руки, плюнул на пол, надел шапку, пустил вперед Шабельскаго и вышел.
В действительности графиня не допустила дю Валя и сына до поединка. А сколько было смеха в Вольке и в соседстве!
X
Для человека, не обладающего силой воли, нет ничего опаснее, как внезапная перемена образа жизни, привычек, даже места, на котором жилось долгое время.
С тех пор как Скальский по настояниям детей продал аптеку Вальтеру и принужден был переезжать в приобретенный им Шпротин, он сделался рассеян, печален и видно было, что его обуревали сомнения, с которыми он напрасно боролся. Все знакомые находили, что он чрезвычайно переменился, но он не жаловался, а, напротив, говорил о деревне как бы с удовольствием; когда же оставался один, то отирал слезы втихомолку. Дома ему было делать нечего, каждый угол напоминал ему о прошедшем; бедняга выходил из дому, бродил по улицам, смотрел на стены, и постоянно на его глазах навертывались слезы.
Из разговоров его видно было, что он принуждал себя, улыбался как бы насильно, молчал по целым часам, а по возвращении домой забивался в угол и сидел неподвижно, устремив глаза в стену.
Невозможно было развеселить его; он смеялся, но грустно, словно автомат, который выполняет то, чего от него требуют, но сам не чувствует того, что делает.
Он, может быть, стал более кротким и лучшим, нежели когда бы то ни было, и возбуждал сострадание, как существо, из которого вытекла часть жизни.
Милиус, обладавший весьма тонким лекарским инстинктом, первый угадал, что Скальскому грозит опасность, и, не желая пугать его, сказал об этом только сыну.
Пан Рожер презрительно улыбнулся.
– Это вам грезится, доктор. Он здоров, как рыба, ест, пьет, спит, весел, и если молчалив, то это потому, что, может быть, жаль немного покидать город и аптеку; но это обойдется.
– А я тебе говорю, – повторил доктор, – что отцу твоему худо, очень худо. Он будет еще несколько времени ходить таким образом, улыбаться, не пожалуется даже, но… как ляжет, то уж не встанет.
– Ах, все это докторские фантазии! – отвечал пан Рожер. Я отца знаю лучше вас.
Милиус молча вышел. Пан Рожер даже не думал об этом. Между тем старик Скальский ходил со своей улыбкой, сидел по углам, дремал все чаще и чаще, особенно после обеда, – и как бы подвергся тихому умопомешательству.
Это не было собственно сумасшествие, а скорее затмение рассудка с горя. Иногда необходимо было повторять ему несколько раз вопрос, чтоб он понял. Припоминал все с трудом, ничто его не занимало, и он улыбался при каждом обстоятельстве.
Ворчать на себя он позволял сколько угодно, ничего не отвечая; в обществе находила на него дремота, и он засыпал преспокойно. Мать и дочь первые заметили, что это было ненормальное состояние.
Но пан Рожер не хотел еще видеть этого. Пригласили Милиуса, который явился, прописал лекарство и ушел, не сказав почти ни слова. На другой день Скальский выбросил лекарство за окно, сказав, что принял, и сидел спокойно в углу, прося чтоб его не тревожили.
В таком положении застал его однажды Вальтер, придя после обеда. К счастью, панны Идалии не было дома, а то она недолго бы допустила их оставаться наедине. Она до такой степени упорствовала в своих замыслах, что раза два чуть не объяснилась ему сама, но Вальтер притворился, что не понимает. Несмотря на это, он теперь приходил как-то чаще и, как любопытный человек в колодец, он заглядывал в глубину этой несчастной женской души, на дне которой было черно…
Когда он вошел, Скальский сидел неподвижно в своем кабинете в углу на диване, с опущенными глазами. Хозяин машинально приветствовал гостя, пригласил сесть, и в присутствии чужого казался несколько более оживленным.
– Вы нездоровы, любезнейший пан Скальский? – спросил Вальтер кротко, взяв его за руку.
– Кто ж это вам сказал? Я здоровехонек.
– Не чувствуете изнеможения?
– Нет, нет, я здоров совершенно, – отвечал Скальский, потом замолчал и устремил глаза в потолок.
– Не пойти ли нам погулять?
– О нет, зачем гулять? Садитесь, пожалуйста!
Снова молчание, и Скальский начал дремать. На лице Вальтера отразилось сострадание.
– Пан Мартын! – сказал он, изменившимся несколько голосом.
Услыхав свое имя, аптекарь раскрыл глаза и начал улыбаться, смотря на собеседника.
– Пан Мартын, – повторил Вальтер, – говорите, что хотите, но вы нездоровы.
Аптекарь снова полураскрыл глаза и только улыбался. Казалось, что имя его, произнесенное кротким голосом, переносило его в другие времена.
– Видишь ли, – промолвил он тихо, – не надобно говорить о пане Мартыне, который в то время, когда это случилось, не назывался еще Скальским и не был дворянином. Все это погребено, забыто.
– А, кажется, это были лучшие времена, – шепнул Вальтер.
Скальский очнулся и смотрел с испугом.
– Откуда же это вам известно? Ведь доктор Вальтер человек чужой, незнакомый.
Вальтер улыбнулся.
– Сегодня чужой и незнакомый, – отвечал он тихим голосом, – но, может быть, не был всегда чужим, а когда-нибудь был и знакомым.
Скальский начал присматриваться, приподнялся с места, и снова опустился на диван.
– Нет, нет, это заблуждение!
– Грустно окончишь ты свое существование, – говорил Вальтер медленно, как бы имея намерение этими словами воскресить уснувшего и остывшего, – а между тем ты должен утешаться. Ты добился того, чего желал, имеешь состояние, происхождение скрыл…
Скальский вскочил, воскликнув:
– Об этом ни слова!
– Никому ни слова, но между нами…
– Между нами? Но кто же вы, доктор Вальтер?
– Доктор Вальтер.
– Не дьявол ли? – спросил Скальский.
– Дьявол.
Лицо аптекаря омрачилось; дрожа, он взял гостя за руку.
– Признайся мне, кто говорил тебе об этих разных делах? – спросил он.
– Один человек, ныне умерший, которого я знавал некогда.
– Он лгал! – промолвил Скальский с живостью. – Скальские родом из Сандомирского, обедневшая шляхта. Нет ничего удивительного; шляхта теперь сильно обеднела, но и поправляться пора – это всякому известно. Сына моего справедливо называли в Берлине: Herr Baron von Skalsky. Вальтер улыбнулся и, наклонившись к уху аптекаря, шепнул ему что-то… Тот вскочил, раскрыл в испуге глаза, вскрикнул, снова упал на диван, начал тяжело дышать.
– Успокойся, – сказал Вальтер, – никто ничего не знает, все перемерли, дети твои дворяне, у тебя есть недвижимое имение, а если в могилах спят те, которые умерли с голоду… о, им там лучше, нежели тебе!
Скальский не говорил ни слова, но не был в забытьи, а взор его искал в лице Вальтера какого-то сходства, воспоминания, которое ускользало…
– Тот умерший ваш приятель городил чепуху, – сказал он наконец.
– Очень может быть, – грустно отвечал Вальтер: – я ничего не знаю.
– И никто ничего не знает, а мне… мне хочется спать, – вздыхая, проговорил аптекарь.
– Пробудись от этой дремоты, иначе можешь так уснуть навеки, – отозвался доктор.
– Ну и хорошо, и будь уверен, что все кончено, – молил аптекарь, – деревня куплена, аптека ликвидирована, сын – барон, а дочь выйдет за доктора Вальтера, у которого миллионы.
– Как это за меня? – спросил доктор.
– А! – воскликнул Скальский, раскрывая широко глаза. – Так ты доктор Вальтер?
По-видимому, он снова утратил память и сознание.
– Пусть себе он на ней женится, – продолжал аптекарь медленно, как бы сквозь сон, – она девушка красивая, а он старик, долго не проживет, и запишет ей все состояние.
Вальтер улыбнулся. Аптекарь задремал снова.
Вдруг послышался шелест шелкового платья и поспешные шаги в соседней комнате, давая знать о прибытии панны Идалии, которая, едва успев возвратиться домой, узнала о посещении доктора и спешила на свою боевую позицию.
Ее удивило, что отец полудремал, а Вальтер сидел перед ним грустный, с выражением сострадания на лице.
– Отец вздремнул? – сказала она.
– Нет, он болен.
Панна Идалия сочла нужным выказать чувствительность сердца перед тем, кому предназначала его, состроила печальную физиономию и, посчитав грациозным коленопреклонение, медленно опустилась на колени между отцом и Вальтером.
Но, стоя на коленях, панна Идалия думала о том, как бы показать доктору в выгоднейшем свете белую шейку и круглые плечики, словно случайно приблизиться к нему, чтоб он ощутил ее дыхание и, может быть, прикоснулся к ее руке, в которой трепетала жизнь. Но Вальтер, который нисколько не отодвинулся, оставался хладнокровен.
Хладнокровен! Но кто же из нас, даже после долговременной опытности, остынув, обладая высоким разумом – не поддастся соблазну, если соблазн этот явится в виде прелестной, стройной, молодой девушки?
Напрасно человек борется, пошатнувшийся разум падает, словно подстреленная птица, остаток жизни играет в пепле, глаза искрятся, воскресает забытая страсть, и холодный, побежденный мудрец стыдится сам себя.
То же было и с несчастным Вальтером, который улыбался, когда панна Идалия стояла на коленях, и, будучи уверен в своей силе, не двигался с места, а через несколько минут сидел уже остолбенелый и с грустью сознавал, что безумствует.
Так была увлекательна эта выработанная красота, несмотря на свою искусственную обработку, несмотря на фальшь и неестественность, так она казалась наполненною чувства, когда смотрела, придавая глазам нужное ей выражение.
Она что-то шептала отцу, который улыбался, полураскрыв глаза, а сама глядела на Вальтера, и взор этот говорил так ясно, что доктор понимал малейшие подробности:
"Полюби меня! Всю жизнь ты страдал, мучился, трудился, почему же после, хоть под старость, не купить такой хорошенькой, как я, игрушки? Хоть бы я и не любила тебя, то все же я очень красивая игрушка и стою твоего миллиона. Поменяемся: я отдам тебе себя, а ты мне деньги, которые составляют все – и власть, и силу, и наслаждение".
Безжалостные и наглые глаза эти вызывали его на ответ, и если можно было когда-либо назвать жестокий взор обаятельным, то в эту минуту.
Немым этим разговором панна Идалия доходила до бесстыдства, доходила до неслыханной дерзости; отец дремал, улыбаясь, а она, не смотря на него, устремляла неподвижный взор на Вальтера.
Последний несколько раз отворачивался, хотел встать с дивана, убежать, и не мог.
Гремучая змея не спускала с него тех взоров, которые говорят и сообщают более, нежели вся Вселенная и вся жизнь дать в состоянии. Наконец, когда старик побледнел и опустил голову на грудь, как связанный невольник, панна Идалия сжалилась над ним и обратилась к отцу.
Пользуясь этой минутой, Вальтер встал с дивана и хотел выйти.
– Останьтесь, – сказала панна Идалия с уверенностью, – мы пойдем вместе с отцом пить чай, и там вы сделаете предложение моим родителям.
– Как?
– Там вы попросите моей руки у родителей. И она подала ему руку.
– Увидите, что не пожалеете об этом, – продолжала она. – Я хочу и должна выйти за вас.
Вальтер дрожал, видимо, побежденный.
– Вы не выйдете отсюда, пока мы с вами не обменяемся кольцами. Я так хочу!
Последнюю фразу проговорила она смело, решительно, повелительным тоном. Вальтер стоял неподвижно, словно вкопанный в землю. Скальский спал, дочь тихонько разбудила его.
– Папа, милый папа! Пойдем чай пить. К нам пришел доктор Вальтер и хочет о чем-то переговорить с вами.
Аптекарь, который всю жизнь привык слушаться детей, и на этот раз немедленно проснулся, встал, молча последовал за дочерью, которая подала руку доктору, и вступил в гостиную, ища глазами места, где мог бы удобнее усесться и задремать. Рожер тоже был в гостиной. Аптекарша стояла возле самовара.
– Говорите же, – сказала панна Идалия доктору. – Мама, – продолжала она, – доктор хочет оказать вам что-то.
И она обратилась к побледневшему спутнику, но тот не в состоянии был произнести ни слова.
– Доктор Вальтер просит у вас моей руки. И она взглянула на него.
– Да, – отозвался странным, глухим голосом Вальтер, – я прошу руки панны Идалии.
Удивленный аптекарь всплеснул руками, пан Рожер не мог проговорить ни слова от изумления, у аптекарши выпал из рук чайник.
– Папа и мама! Благословите же нас, – сказав это, панна Идалия подумала: "La farce est jouée".
Для дополнения этой картины следует еще прибавить, что когда – по уходе Вальтера после продолжительного разговора с братом и матерью – отец уснул, в это время со слезами радости на глазах прелестная панна Идалия очутилась наедине с своей фавориткой, гардеробянкой панной Наромскою, она упала в кресло и хохотала до упаду. Докурив папироску, она сказала:
– Ну, Наромская, поздравь меня: я выхожу замуж, знаешь за кого? За этого старика, который купил аптеку. О, если б ты знала, как я потрудилась, как поработала! Сначала он был тверд, словно камень… и я овладела им только с бою. О, если бы ты меня увидела! Отец был немного не здоров, и я застала возле него старика. Думаю себе, стану на колени как бы возле отца, но так оборотилась к гостю, чтоб он видел мою шею и плечи… Ты сама говоришь, что у меня такие шея и плечи, каких ты в жизни не встречала.
– Это совершенная правда.
– Вот я и наклонилась весьма искусно и словно случайно придвинулась к нему. Смотрю… сидит, как каменный. Я и начала действовать глазами. Отец спал… Я устремила взор на старика, а ты знаешь, как я умею смотреть!
– О, вы воскресили бы мертвеца!
– Так и случилось, – сказала панна Идалия, – это был мертвый человек. Но как я начала, как начала смотреть на него, уверяю тебя, он таял, как воск, делался мягче, слабее, а я без милосердия добивала, добивала его…
– А отец?
– Ведь отец теперь спит постоянно. И когда только я заметила, что старик у меня во власти, вот тут-то было необходимо все искусство. Представь себе мою смелость – я говорю ему: идите и просите моей руки у родителей.
– Ах, Господи! – воскликнула панна Наромская. – Может ли это быть! А если б он отказал?
– Я уже была уверена, что он ни в чем мне не откажет. Взяв его за руку, я отвела его к маменьке; он при отце и при брате сделал предложение, и я торжественным образом вручила ему кольцо. И скажу тебе, только между нами, ибо это никому неизвестно, на прощание я так поцеловала его, что он до гроба не позабудет этого поцелуя.
– О, надеюсь! Он такой старый дед, а вы словно роза.
– И еще скажу тебе, моя Наромская (здесь она вздохнула)-, если б ты знала, как от него несет мускусом! Но я велю ему употреблять пачули.
Гардеробянка посмотрела на панну, но та уже позабыла о мускусе.
– Продадим аптеку. Он должен купить дом в Варшаве, и увидишь, моя Наромская, как я заживу в столице! Госпожа баронесса Вальтер, или Вальтер фон Вальтерштейн, – так даже лучше. А он обязан мне купить баронство, где хочет! Пунцовая ливрея с золотом, камердинеры, егерь! О, я должна иметь егеря, который так идет при экипаже, только надобно, чтоб был красивый парень. Знаешь ли, что Рожер сердится на меня и завидует, ибо ему не удалось с графинями. У Рожера нет энергии.
XI
На другой день, часов в десять утра, весь город знал уже важную новость, что доктор Вальтер, наверное, женится на панне Идалии Скальской. Многие этому не верили. Странным тоже казалось, что весть эта как бы нарочно и систематически распространялась повсюду, чтоб ни одна из договорившихся сторон не могла взять обратно своего слова. Городок взволновался.
Милиус собирался уже выходить из дому, как цирюльник принес ему эту новость, уверяя, что слышал ее из уст панны Наромской, которой передала сама панна Идалия.
– Неужели старик с ума спятил! – воскликнул Милиус. – Этого быть не может! Может быть, он подшутил над ними? Пусть бы женился на ком угодно, но не на панне Идалии. А иначе, лучше навязать себе камень на шею, и в воду!
И, схватив шляпу, доктор побежал прямо к дому Вальтера, но дверь была заперта. Старая кухарка Казимира уверяла, что пан вышел очень рано и даже не сказал, когда возвратится.
Доктор пошел назад задумчивый, и кого только ни встречал по дороге, все говорили ему, что слышали новость от пана Рожера или от самой Скальской.
Милиус решился отправиться прямо в аптеку. Старик Скальский сидел в кресле над какими-то бумагами, но дремал. Он приветствовал доктора спокойной улыбкой; и на лице его незаметно было большой радости.
– Любезный Скальский, – сказал Милиус, трепля по плечу хозяина, – в городе все говорят, что вы выдаете панну Идалию за старика Вальтера?
– Кажется… выходит… да, выходит, потому что у него миллион, – отвечал аптекарь.
– Что она сама захотела?
– Кажется, сама пожелала, и он пожелал… не помню… как-то сделал предложение и после… но пусть лучше жена расскажет тебе.
Доктор больше не расспрашивал, а подошел к пани Скальской, которая, проплакав целое утро от радости, сидела еще с покрасневшими глазами.
– Правда ли это? – спросил он.
– Правда, правда, – отозвалась аптекарша, поглаживая Финетку, которая лаяла на доктора. – И скажу вам, что наша Идалька просто гений. Ей быть бы королевою! Как скажет что, так уже и быть должно. Признаюсь вам, доктор, что когда она мне говорила сначала об этом замысле, я не хотела противиться, но не верила ей. Между тем вчера она привела старика и приказала ему сделать предложение. Он просто был послушен, как барашек. Скажу вам, доктор, – продолжала аптекарша, сложив руки, – что это всегда было дивное дитя, и я не знаю, в кого она удалась, ибо уж, конечно, не в меня и не в отца. Рожер, конечно, очень милый и образованный молодой человек, все отдают ему в этом справедливость, но ему далеко до Идальки. Рожер сам не понимает, как она успела в этом, и мы с мужем тоже не понимаем, ибо это настоящее чудо. А ведь Вальтер чрезвычайно богат.
– Жаль только, что его никто не знает, – сказал он, – и хоть кажется умным и ученым, но с тех пор как решился на такое супружество, – у доктора вертелось на языке слово сумасшествие, но он удержался, – то я начинаю сомневаться в нем.
– Но пан Милиус…
– Но, милейшая пани Скальская, ведь он старик, а ваша дочь олицетворенный дьяволенок.
Аптекарша рассмеялась, Финетка начала лаять, и, таким образом, кончился разговор.
Когда, скучая страшным образом, Валек Лузинский пришел пить кофе к пани Поз, которая мало уже на него рассчитывала, но не хотела еще отпустить от себя, ему сообщили самую свежую новость, носившуюся по городу. Валек некогда был влюблен в хорошенькую панну Идалию, и потому начал насмехаться над этим супружеством. Укололо его и то, что расположение, которое оказывал ему прежде Вальтер, могло исчезнуть под влиянием врага (он так понимал панну Идалию). Одним словом, он был недоволен и удивлен и вознаграждал себя насмешками над стариком Вальтером.
Напившись кофе у пани Поз (которая преподавала ему мораль в разных формах, выслушиваемую им довольно равнодушно), Лузинский, которому было делать нечего, голова которого была занята блистательной будущностью, так что он сквозь эту призму смотрел уже на жизнь, блуждал по городу без цели, уверяя себя, что собирал материалы и искал впечатления.
В одну из подобных прогулок, именно в тот самый день, как появилось известие о предложении Вальтера, Лузинский зашел в тесную улицу, недалеко от монастыря ксендзов-реформатов.
Это была самая тихая улица в городе; часть ее занимала длинная высокая старая стена, окружавшая монастырский сад, через которую видны были искривленные ветви лип и каштанов; дальше стояли домики ремесленников в зеленых садиках, поставленные точно в цветочных корзинках. Немногие из них примыкали к улице, большая часть по-прежнему обычаю отодвигалась вглубь, имея перед окнами клумбы мальв, высоких ирисов и тех свойственных нашим местам растений, которые, будучи раз посажены в землю, не требуют уже ни малейшего ухода.
Хотя на рынке было довольно шумно и по иным улицам сновали люди, здесь вы не видели бы никого, кроме нескольких кучек детей, игравших в песке, тараторивших взапуски с воробьями реформатского сада. Двери в домиках были растворены; над иными скромная дощечка указывала на профессию убогого ремесленника.
Лузинский пошел по этой улице, желая выйти за город; его влекло к старой хате, где жила родня, которая не хотела его принять, и которую признать он не имел желания. Он хотел издали посмотреть на дом, служивший его отцу колыбелью.
Рассеянно проходил молодой человек под стеной, когда весьма оригинальная, а для артиста и желанная картинка, обратила на себя его взоры, и он остановился. Действительно редко прохожему случается встречать такую необыкновенную и артистически законченную картинку.
Напротив монастырской стены стоял весьма порядочный домик, гораздо новее своих соседей, несколько ближе выходивший на улицу и едва от нее отделявшийся узкой полоской густой сирени, из-за которой в разных местах подымались высокие стебли пышной розовой мальвы. Ветви и цветы так плотно окаймляли широкую дверь, словно она была нарочно убрана ими. Над этой дверью на белой доске, без всякой подписи, грубо намалеван был гроб, сквозь растворенную дверь виднелся большой склад готовых гробов разных цветов и размеров, которые как бы напрашивались, кокетливо подвигаясь к улице.
Были здесь гробы разнообразные, начиная от маленьких, окрашенных голубым цветом, с белыми крестиками, для детей (которых так много умирает!), до лакированных, с металлическими скобами, для людей, заслуживших себе более долговременной жизнью право на удобное и прочное помещение.
Но что было бы удивительного в гробах, если бы рядом с ними не играла весенняя жизнь?
На одном из гробов, стоявшем довольно высоко, сидела, спустив ножки, хорошенькая девушка и вполголоса напевала песенку. На голове у нее был надет только что, по-видимому, свитый венок из васильков, на груди повязан пестро-желтый платок, а весь убор дополняла полосатая юбочка, какую носит бедное простонародье. Голубой венок из васильков превосходно отенялся на золотистых, старательно причесанных волосах, спускавшихся на плечи двумя длинными косами. Она быстро вязала чулок, очевидно, думая о чем-нибудь другом, и распевая от скуки. Личико у нее было хорошенькое, нежное, с голубыми глазками, веселенькое, улыбающееся, похожее на ангелов, изображенных на картинах, которые восхваляя Бога, не имеют надобности ни заботиться, ни думать о чем бы то ни было.
У ног этой девушки играло щепками и стружками от гробов дитя, маленькая сестра, возле которой сидел небольшой наивный щенок, время от времени трогавший лапой девочку, как бы вызывая поиграть вместе.
Свет, проходя сквозь кусты и раскрытую дверь, пробирался полосами, великолепно озаряя в иных местах картинку. Светло-русая девушка сидела в тени, а ребенок и собачка освещались полным светом.
Лузинский как поэт был поражен противоположностью гробов и молодости, жизни и смерти, света и тени, а художественный инстинкт, хотя и не весьма развитый, указывал ему прелесть этой божественной композиции, сильной и глубокой мысли, столь простой на вид и весьма обыкновенной. С этой мыслью встречаются сто раз в день, но редко она рисуется так живописно и выразительно. Здесь форма возвышала ее, делала более могущественной.
Валек стоял, а девушка, спущенные ножки которой били в воздухе такт, распевала, наклонивши задумчиво хорошенькую головку. Вдруг она почувствовала – а это чувствуется, – что кто-то смотрит на нее, подняла глаза и засмеялась наивно, искренне, смотря на Валека, которой остановился, как вкопанный, и глядел, словно очарованный.
Никого более не было видно, ни у дома, ни в окнах; девушка то опускала глаза на чулок, то снова подымала их на прохожего и улыбалась с ангельской невинностью.
Лузинский не мог удержаться, тихо подошел к плетню, ступил на камень, шедший к двери, и подвинулся к порогу.
– Добрый вечер! – сказал он.
– Добрый вечер! Может быть, вам что-нибудь требуется? У нас найдете все, что только есть лучшего в городе, – проговорила, указывая на гробы, девушка, которой, очевидно, хотелось поболтать. – Мы имеем гробы лакированные, из натурального дуба, все из сухого дерева, превосходные, крепкие, а отец так искусно их делает, что придутся на какой угодно рост. Есть у нас трех размеров. Не поверите, как человек становится длиннее после смерти.
– И вам не страшно сидеть среди этих гробов?
– О, нет! Да и чего бояться? Не раз я спала в большом гробу очень удобно, словно в лодке. Мы все здесь привыкли к этому, потому что чего же бояться? Ведь надобно же когда-нибудь умереть, будешь или не будешь бояться смерти.
– Но ведь как-то страшно смотреть на нее постоянно.
– Нисколько, – отвечала девушка, – ибо человек сначала привыкает, а потом смотрит на гробы как на дерево. Мне только жаль иногда отцовской работы; он так старается, чтоб все было аккуратно, хорошо, а гроб поставят лишь на несколько часов на катафалк и потом опустят, хорошо еще если в склеп, где не так скоро портится, а если во влажную землю, то сейчас начинает гнить. А вы, панич, здешние? – спросила девушка.
– Как же! Я родом отсюда и чаще всего проживаю здесь.
– А я вас никогда не видела, даже в костеле.
– Я тоже вас не встречал, – молвил Лузинский, заинтересованный простотой девушки и свежестью ее личика. – У вас большое семейство?
– Только отец и два или три работника, которые приходят. Мать умерла, вот уже пять лет, и нам очень худо без нее. Отец целый день работает, а я сижу в лавке, ибо не знаешь, когда что кому нужно, а ведь всегда покупатель так торопится… Этих бедных мертвецов рады были бы выпроводить из дому в одну минуту. Нас только двое, я и сестрица Теклюся.
– А как вас зовут? – спросил Валек.
– Меня? Каролиной, а как я была маленькой, то покойница мать прозвала меня Линкой, и теперь не могут отвыкнуть от этого, хоть я и выросла. Напрасно я говорю, то это ни на что не похоже, я желала бы, чтобы называли уже Каролькой или как-нибудь иначе. Когда я ходила в школу к сестрам милосердия, то добрые сестры тоже называли меня Каролькой, а не Линкой, с позволения сказать, как собачку.
– Но ведь это хорошее имя.
– Э, нет, – отвечала, качая головкой девушка, – где слыхано – Линка? Люди смеются, а мне приходит на мысль линь, толстая, гадкая рыба, а я не хочу быть рыбой!
Валек улыбнулся.
– Но ведь вас иногда отпускают? – спросил он.
– Никогда! – отвечала грустно Линка, смотря на чулок. – Разве очень редко по праздникам или по воскресеньям, да и то не в приходский костел, а к реформатам, где Бог, конечно, один и тот же, но где одни только старики.
Валек рассмеялся, девушка также.
– Что вы так стоите? – сказала она. – Если вы не боитесь, я попросила бы вас присесть на гробе. В углу стоит крепкий, дубовый. С этим огромным дубовым гробом целая история: он стоит уже в лавке четыре года и никому не годится. Заказал было его себе покойный резник Рафаил Сумирка, даже отцу дал задаток, и требовал, чтоб лес был превосходный. Но когда бедняга умер, его семейство не захотело взять такого дорогого гроба и похоронили его в простом сосновом, а этот остался, и я не знаю, как долго простоит, потому что слишком велик, а люди теперь маленькие.
И девушка смеялась, словно разговаривала о цветах. Валек стоял, слушал, и его чрезвычайно занимала поэтическая сторона этого щебетанья среди гробов. Линка посмотрела на него и вздохнула; очевидно, по природе она была болтлива, а продолжительное молчание делало этот разговор еще интереснее.
– А знаете, почему я вам обрадовалась? – спросила она.
– Потому что, не видя никого, соскучились от долгого молчания?
– О, нет! Но потому, что лицо ваше так напоминает мне мать, словно вы были ей братом.
Валек побледнел, но улыбнулся.
– А кто ж была ваша мать? – спросил он нетвердым голосом.
– Мать моя была очень хорошего и почтенного рода, – отвечала Линка, оборачиваясь к Валеку, – только несчастного. Она из семейства Лузинских.
Валек вздрогнул, но молчал, стараясь не показать и вида беспокойства.
– Из тех Лузинских, – продолжала Линка, – убогая хата которых стоит и теперь над плотиной, и из которых один – так говорят по крайней мере, я достоверно не знаю – убил кого-то в Турове.
Молодой человек опустил голову; ему стало холодно.
– Но как вы напоминаете мне мать!
Не оставалось Валеку сомнения, что дочь гробовщика была ему родственница. Мысль эта охладила и поразила его; но хорошенькие глазки девушки привлекали его; и вся эта история странно удовлетворяла болезненное воображение. Сама эта светло-русая Линка, со всей своей милой простотой и наивностью, не заняла бы его решительно, если б встретилась на улице с ведром воды. Но здесь все смахивало на балладу. Валеку казалось, что сама судьба набрасывает ему канву для великого произведения. Но для этого везде есть канва, только нет художников.
Облокотясь о притолоку, смотрел он на девушку, занятую вязаньем, которая рада была гостю и охотно развлекала себя и его.
– Вот мы говорили о гробах, – прибавила она, покачав головкой. – Я расскажу вам любопытную историю о сапожнике. Вы его, конечно, знаете, его фамилия Седлецкий, живет он на Мендзыржецкой улице. У этого Седлецкого, говорят, злая жена, которая чрезвычайно боится смерти и всего, что ее напоминает. Несколько лет назад они страшно поссорились, так что едва дело не дошло до драки. Не зная, чем досадить жене, Седлецкий сказал ей: "Ты меня сведешь в могилу! А чтоб ты об этом не забывала, я закажу себе заблаговременно гроб и буду спать в нем в комнате". Это сказано было не в шутку. Прибегает он, запыхавшись, к отцу: "Делай мне гроб!" – говорит. Отец начал отговаривать его, что не следует искушать смерти, но тот и слушать не хочет. Сделали гроб и отнесли, Седлецкий постлал в нем себе постель, жена тотчас же убежала из дому, потом возвратилась, плакала, ссорилась, но сапожник все-таки не расстался с гробом. Так мы и позабыли, но через год или полтора, он приходит снова к отцу. "Э, чтоб тебя, – сказал он, – хороший же ты мне сделал гроб, что и двух лет не выдержал, совсем почти рассыпался". Отец ответил на это, что гробы делаются не для спанья, но сапожник заказал новый гроб, который тоже рассыпался, и Седлецкий спит в третьем, и отец говорит, что придется делать и четвертый.








