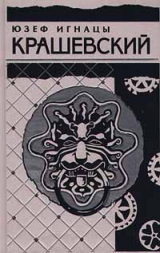
Текст книги "Дети века"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
II
Хотя город и лежал в красивой местности, однако внутри его не было ни одного сада для прогулки, и дети обыкновенно играли на тесном дворе кафедрального костела, который некогда был кладбищем, как это доказывали камни, наполовину вросшие в землю; взрослое же население шло за город искать свежего воздуха и зелени.
Местом прогулок служила так называемая Погулянка, в которой имелись кегли, пиво, бильярд и разные напитки, а в особенности, отличные водки; но сюда лучшее общество ходить не любило; и был еще запущенный панский сад, названный, по воспоминаниям из Италии, Пиаченццой, который постепенно становился просто диким лесом. Управляющий имением не позаботился извлечь из него пользы и оставил даже без ограды, а так как в небольшом расстоянии стояла на дороге ресторация, то высшее общество и любило посещать Пиаченццу, хотя в ней не было ни прочищенных дорожек, ни другого сиденья, за исключением камней остатков разрушенных столов и скамеек.
Конечно, в лучшие времена Пиаченцца отличалась красивым видом, и теперь еще между устарелыми липами, полузасохшими тополями густо росли кусты сирени, акации, черемухи и калины. Кое-где забытые цветы, сирени, голубые гиацинты торчали между крапивою и репейником. Посередине имелась круглая грибовидная беседка и по сторонам две шпалеры, но все это едва было заметно, так много росло деревьев и так сильно заросли дорожки. От каменных столов, балюстрад и скамеек, разобранных на разные хозяйственные потребности, виднелись только остатки, едва отделявшиеся от земли. В одном углу валялся рыцарь без руки и без ноги, а сострадательные кустарники росли уже над ним, заслоняя его собою. От прекрасной беседки осталось еще традиционное название бельведера, ибо, действительно, с нее был великолепный вид на замок, на город и на окрестность: остались только фундамент, несколько ступеней и часть обвалившейся стены. Как мы уже сказали, Пиаченцца была неогорожена, и в ней нередко было видно стадо управляющего и арендатора; но ведь публика не могла ничего требовать, потому что и ее – виноват за сравнение! – только терпели, подобно коровам.
Весною в Пиаченцце зажиточные семейства обыкновенно праздновали первое мая. Собирались сюда также на пикники, а если в это время случалась ненастная, дождливая погода, то соседняя ресторация отворяла свои гостеприимные двери и затхлую залу…
На Погулянке менее прихотливые искали развлечения, и здесь надобно было ограничиться сосновою рощею, маленьким садиком и приготовиться встретить демократическое общество ремесленников и рабочих, веселящихся от души, но иной раз весьма шумно.
В обоих этих местах, однако, кто желал подкрепиться чем-нибудь изящным, тот должен был запастись из города, так как на Погулянке не было ничего, кроме пива, водки, хлеба, сыру и баранок, да и ресторан в Пиаченцце предлагал не слишком-то много больше.
Поэтому неудивительно, если в описываемую неделю, когда семейство Скальских, обладателей единственной привилегированной в городе аптеки, вздумало отправиться на прогулку, то единогласно выбрана была Пиаченцца. Это имело и свою неприятную сторону, ибо, чтоб добраться до места, необходимо было пройти длинную неровную плотину, по которой стояли мельницы, миновать возбуждающее грустные мысли кладбище и оттуда лишь, поворотя вправо, попасть в сад по песчаной тропинке. Скальские, однако же, готовы были скорее переносить эти неприятности, нежели смешиваться с толпою, которая шумно валила на Погулянку. Надобно им отдать полную справедливость: они чрезвычайно заботились как о собственном достоинстве, так и о приличиях. Некоторые демократы называли даже старого Скальского аристократом, но он не обращал на это внимания, а смеялся и еще этим тщеславился. Был это довольно богатый человек, говоривший кое-как по-французский, отлично по-немецки, немного по-польски, но более всего стремившийся к хорошему тону. С некоторых пор он начал считаться шляхтичем, заказал себе печать с гербом, а приятели его распускали весть, что он происходит из обедневшего рода, владевшего некогда большим имением возле Сандомира.
Пани Скальская была чистокровная мещанка, но до такой степени усвоила дух мужа, что ее можно было часто поймать, когда она насмехалась над мещанством, из которого сама вышла. Понятно, что родители более всего заботились о том, чтоб дать детям шляхетское воспитание. Пан Скальский давно уже подумывал сбыть аптеку, купить деревню и выветриться от камфары и оподельдока; но каждый раз, когда приходилось расставаться с этою officina sanitatis, на старинных ставнях которой нарисован был Эскулап, жаль ему было доходов, даваемых привилегированною фармацеею, чего не в состоянии была вознаградить самая лучшая деревня. Напрасно жена, весьма заботившаяся о будущности детей, препятствием для которой, по ее мнению, служил аптечный запах, старалась склонить мужа продать аптеку; напрасно панна Идалия просила, а пан Рожер дулся; старик Скальский молча от них отделывался, пожимал плечами, размахивал руками, порою сознавался в вине, но… не умел расстаться с аптекою. Однажды ему пришла счастливая мысль отдать ее в аренду, так, чтоб на всякий случай иметь обеспеченный возврат, если б деревня оказалась не столь прибыльною; но не попадался ему порядочный арендатор. Положение пана Мартына Скальского было действительно весьма трудно, хотя многие завидовали его состоянию и счастью. Взрослые дети, воспитанные по-пански, созданные для другого света, должны были увядать в несвойственной им мещанской среде. Панна Идалия знала, что будет иметь не менее двухсот тысяч злотых приданого, пан Рожер рассчитывал на свою долю около полумиллиона, – обоим могли представиться отличные партии, а все разбивалось в прах об эту несчастную аптеку!
Действительно, мы живем в эпоху совершенной равноправности всех состояний, и, собственно, различие между людьми кладется только воспитанием и образованием; а между тем сколько еще осталось предубеждений и предрассудков, о которых если не говорят громко, то думают втихомолку или поверяют их родным и приятелям!
Пан Мартын Скальский находился в том незавидном положении, что дважды в день принужден был и плевать на аристократию, и защищать ее. Например, если какой-нибудь граф кланялся ему с покровительственным видом и не подавал руки, пан Скальский должен был кричать о предрассудках и панской гордости; а если столяр Пеньковский приходил к нему в качестве родственника его жены и садился в гостиной, пан Мартын сердился на демократические обычаи этой сволочи.
При подобном порядке, Скальский не знал, к какому принадлежал свету, и это сильно его беспокоило.
Жена его гораздо смелее причисляла себя к панскому сословию, а относительно своих мещанских родных была строга, даже слишком.
О младшем поколении, воспитанном по-шляхетски, и говорить нечего. Панна Идалия, хорошенькая, живая, болтливая брюнетка, вышивала графские короны на платках, гербы на диванных подушках, говорила не иначе как по-французски или по-английски, разумеется, перед слугою, жаловалась на душную городскую жизнь и мечтала выйти за какого-нибудь богатого помещика. Пан Рожер, отлично окончивший курс наук в Берлине, познакомился там и жил в коротких отношениях с лучшим дворянством княжества Познанского и западной Пруссии, и, усвоив панские обычаи, прозябал, можно сказать, в отцовском доме, и прозябал поневоле, ибо ему страшно надоедали и родительский хлеб, и окружающее общество. Он говорил, что умрет с тоски, если не будет какой-нибудь перемены.
Понятно, что в городке он ни с кем не дружил и почти ни кем не разговаривал. Интимный его кружок составляли несколько окрестных помещиков. Подобное настроение семейства Скальских не могло приобрести ему много доброжелателей в городе. Правда, они ни с кем не ссорились, но их втайне ненавидели и немилосердно насмехались над ними.
Старый пан Мартын, лысый, с своей кругловатой фигурой и с носом в виде картофелины, был совсем не злой человек: подавал щедро милостыню, если на него смотрели, жертвовал на погорельцев, если имена жертвователей печатались в газетах, и отличался необыкновенною вежливостью в сношениях с людьми лучшего общества. Жена его сформировалась почти по образу пана Мартына: была чересчур любезна с представителями высшего круга, но относительно слишком смелых демократов принимала вид гордый, неприступный, а подчас и смешной.
Водя знакомство с немногими, семейство Скальских скучало, таким образом, а вследствие этого любило всевозможные сплетни, знало не только то, что делалось во всех улицах, но иногда и то, чего делаться не могло, и насмешливо выражалось о горожанах, с которыми ежедневно должно было сталкиваться.
Из всего семейства несчастнее всех была панна Идалия, существо высшего духа, виртуозка на фортепьяно, певица, обладавшая резким сопрано, девица-литератор и даже поэт, как говорили, артистка в душе, легло уносившаяся в сферы недоступные для толпы и лишенная в этой трущобе, как она сама выражалась, всякой пищи для ума, для удовлетворения эстетических потребностей и т. д. Поэтому она всегда почти была в дурном расположении духа, к величайшему огорчению матери, и делалась вспыльчивою, встречая сопротивление. Один брат Рожер только понимал ее; а что касается родителей, то с ними обходилась она кротко, сострадая их простоте и неотесанности.
В описываемое воскресенье все как-то были дома – пан Рожер часто уезжал к приятелям в деревню – и что страннее всего, согласились все на прогулку и единогласно выбрали Пиаченццу. Семейство отправилось в иерархическом порядке. Впереди шел пан Мартын с зонтиком в руках, скрещенных на спине, подняв голову, спустив несколько очки и надев небрежно шляпу. Рядом с ним следовала пани Скальская в легкой шали, с лорнеткой у пояса, которую никогда не употребляла, и с неизбежной собачкой, старой Финеткою, которая едва тащилась у ног хозяйки, по причине чрезвычайного ожирения.
Сзади путешествовали панна Идалия, с прижмуренными глазами и несколько сердитым выражением на лице, и пан Рожер с сигарой в зубах, в летнем костюме. Это был высокого роста худощавый молодой человек, с огромными английскими бакенбардами и с большим гербовым перстнем на руке, на котором рельефно изображались знаки шляхетского достоинства.
Сперва как-то все молчали: пан Мартын сопел, жена его вздыхала, Финетка едва переводила дух от усталости, панна Идалия была задумчива, а пан Рожер вздыхал, в доказательство скуки.
– А знаете, папа, – сказал последний, взойдя на плотину, – я скажу вам еще раз, что не в состоянии выносить подобной жизни. Если придется дальше оставаться в городе, то я распрощаюсь с вами и уеду куда-нибудь.
– Что с тобою опять? – спросил Скальский, оборачиваясь к сыну.
– Рожер счастливее меня, – вмешалась панна Идалия. – Он по крайней мере свободен и может отправляться, куда угодно, между тем как я прикована здесь, словно гриб, и осуждена на плесень.
– Э, детки, – сказал медленно аптекарь, – вы очень хорошо знаете, что я давно уже думаю о переселении в деревню, но нельзя же этого сделать как-нибудь. Ведь, поторопившись, можно много потерять.
– Надобно подумать и о высших целях, – сказала с живостью панна Идалия, – для этого стоит чем-нибудь пожертвовать. Мы с Рожером сохнем, теряя лучшие годы в этой трущобе, и я согласна с братом, что это невыносимо.
– Бедные дети правы, совершенно правы, – проговорила мать, – я это повторяю тебе почти каждый день, но это все равно, что горохом о стену.
– Да, да, пилите, пилите, – отозвался аптекарь. – Язык без костей. Подумайте, что Рожеру надо очень много, и от Идалии тоже не отделаешься чем-нибудь. Тому подавай гаванских сигар, верховых лошадей, выписывай платье и белье из Парижа, а этой необходимы и кружева, и перчатки, и книги, и ноты, и косметика, и шитье, и шляпки. Стоит потерять часть состояния, и на все это не хватит – ясно как день, – и мы, старики, как бы ни скряжничали, не будем сыты одним воздухом. Хорошо вам болтать.
– Папа упрекает нас за изысканный вкус, но он-то и отличает нас от толпы, – сказала панна Идалия.
– Эх, оставьте меня в покое! Не упрекаю вас ни в чем, готов удовлетворить вашим вкусам, и поэтому-то, собственно, я и оттягиваю, чтоб потом вы меня не укорили.
– Оттягиваю! – повторил сын. – Прекрасное и подходящее выражение, а мы тащимся за этим рыдваном осторожности и напрасно тратим золотые годы. Скажите, пожалуйста, с кем жить здесь? Человек ржавеет поневоле в этом захолустье. Еще я могу порою освежиться, но Идалька явно увядает.
– А что же я говорю? – отозвалась мать. – У меня сердце разрывается, глядя на нее.
– Уж, конечно, в аптеку никто не придет искать ее руки, то есть человек ее достойный, предложение которого она могла бы принять, – заметил Рожер.
– И для чего было давать мне высшее образование, – подхватила хорошенькая девушка, – если все это должно погибнуть даром в этой отвратительной трущобе…
– Напрасно говорить об этом отцу, – прервал Рожер, пуская дым, – напрасно упрашивать его, представлять причины – ничто не поможет. Боюсь, чтоб я не решился на какой-нибудь отчаянный поступок.
– А я положительно заболею чахоткой или с ума сойду, – прибавила панна вполголоса.
Атакованный подобным образом, пан Мартын онемел на минуту, потому что у него не хватало средств для обороны, притом же он чувствовал и сознавал в душе, что был виноват. Не первый уже раз семейство штурмовало его этим способом, и потому он попытался отделаться обычным приемом.
– Подождите, все скоро уладится, говорю, скоро, – ибо не позже как в этом году. Есть у меня непоколебимый контрагент.
– Непоколебимый контрагент! Славно сказано! – подхватил насмешливо Рожер. – И надобно прибавить – вечный. Признайтесь, что питаете тайную надежду на отдачу аптеки в аренду, а не думаете о продаже, и желаете, чтоб это аптекарство постоянно висело над нами, как меч дамоклов. Все это лишь из жадности и скупости.
– И ты будешь еще упрекать меня в скупости! – отозвался сердито аптекарь. – Разве же ты терпишь в чем недостаток? Разве я отказываю тебе даже в прихотях?
– Потому что знаете, что я этого не перенес бы, – отвечал Рожер гордо, – но вы скупы и недальновидны. Неужели же и в деревне не наживают деньги?
– Конечно, только я этого не сумею, ибо целый век провел у ступки, а не в поле.
– Что вы говорите, папа? – воскликнула панна Идалия. – Cela, soulevé le coeur! Можно ли так выражаться – у ступки? Affreux! Ведь не обязаны же вы сами хозяйничать, а можете нанять управителя.
– Да, да, чтоб меня обкрадывали, как обкрадывает Туровских пан Матерт, который скоро сделается богачом, а графы пойдут с сумою, – перебил аптекарь.
– Мы уже это слышали по крайней мере сто раз! – воскликнула панна Идалия. – Как только мы приступим к вам, вы всегда отвечаете одно: "будьте покойны", а время уходит…
– Так что и терпения не хватает, – прибавил пан Рожер, – cela dépasse les bornes. Нужно бы вам сделать из меня фармацевта, а из Идальки ключницу – было бы логичнее.
Пан Мартын молчал, опустив голову.
– Видишь, видишь, – прибавила, по обычаю, аптекарша, – я тебе каждый день говорю то же самое. Дети правы, и я нахожу, что они еще слишком деликатны, ибо ты посуди – какие у тебя дети. Господь Бог наградил тебя детьми, которыми можно гордиться, а ты их просто маринуешь.
Услыхав о мариновке, панна Идалия толкнула брата локтем, и они оба рассмеялись. Неизвестно, какой оборот принял бы разговор, и Скальский начинал уже сердиться, так что мог сказать детям что-нибудь обидное и вызвать сцену, но, к счастью, появилась новая личность, шедшая поспешными шагами навстречу из Пиаченццы.
Это был высокого роста мужчина, полный, но не толстый, в парусинном костюме и с толстою палкою в руках. Черты его лица были разумные, выразительные, энергичные, словно вырубленные топором. Он далеко не был красавцем, но физиономия его внушала уважение, как выражавшая сильную волю, опиравшуюся на светлую мысль. При взгляде на него чувствовалось, что он не поколеблется – ни сказать правду, ни исполнить обязанность.
Несмотря на кажущуюся суровость, лицо его выражало доброту и вместе спокойствие – признак души, которая нашла свою дорогу и смело стремится к определенной цели.
Семейство Скальских издали увидело господина, шедшего к нему навстречу. Аптекарь вздохнул свободнее, аптекарша приняла скромную мину, на лице пана Рожера отразилось нечто вроде презрения, панна Идалия, очевидно, была недовольна.
Молодежь предвидела, что штурм придется отложить. Встречный господин был доктор Милиус, отношения которого с аптекарем казались уже детям унизительными. Скальский чувствовал себя в некотором роде обязанным доктору, любимому и уважаемому в окрестности, который пану Рожеру и панне Идалии напомнил противную аптеку. Последние не любили его еще и потому, что он им говорил нередко горькие истины, не стесняясь ни гордым тоном пана Рожера, ни французским языком панны Идалии, в котором часто и громко в обществе поправлял ошибки.
Все почти доктора, имея в своих руках жизнь и смерть людей, привыкают к уважению и чрезмерной любезности пациентов и мало-помалу усваивают тон довольно резкий, отчасти гордый, но некоторым образом извинительный. Может быть, и у Милиуса было несколько этой докторской суровости, но, по его убеждению, высказывать правду в глаза людям было необходимо, извинительно и принадлежало к обязанностям не только добросовестного лекаря, но и человека. Но, высказывая голую истину, он никогда не доходил до грубости, никогда не забывался, а делал это в чрезвычайно приличной форме и с улыбкою.
По мере приближения Милиуса, все принимали вид той официальной веселости, с какою вежливый подчиненный привык встречать своего начальника. Аптекарша была в нерешительности подражать ли своему прототипу – мужу, за которым следовала настолько, насколько не мешали ей дети, – или любезным деткам, которые искренно не любили доктора. Лицо ее осталось безжизненным и подняло нейтральный флаг.
Недоходя несколько шагов, Милиус воскликнул:
– Вот примерное семейство! Отец, мать и детки вместе, в согласии, пользуются невинным развлечением. Вижу, что вы отправляетесь в Пиаченццу.
Здесь последовали взаимные поклоны.
– Да, – отвечал скромно аптекарь, – вышли подышать чистым воздухом, необходимым, в особенности, для молодежи. Идалька что-то покашливает.
– О, о! – прервал доктор с улыбкою. – Пусть панна Идалия не смеет кашлять, а то я пропишу исландский мох, который очень горек.
– Кашляю не для собственного удовольствия, – отвечала панна Идалия, – но городской воздух так тяжел и удушлив…
– Скажите, пожалуйста! – возразил доктор. – Дыша этим воздухом лет тридцать, я не заметил, чтоб он был так убийствен. Впрочем, вы родились в нем, выросли, родители ваши также, и до сих пор все как-то шло благополучно.
Панна Идалия, сделав презрительную мину, слегка пожала плечами.
– Верьте мне, хотя бы как доктору – прибавил Милиус, – мало городов и немного деревень пользуются таким здоровым воздухом, как наш. Не нежнее же вы других. Что же касается до грудных болезней, то они у нас очень редки.
– Действительно в низших классах при более крепком сложении, – прервал пан Рожер, – но организация благородная…
– Э, что вы рассказываете! – молвил доктор с улыбкою. – Благородные организации убивают сами себя неподобающим образом жизни. Для вас гибельны тунеядство, просиживание ночей, табак и распущенность воображения. Простой народ не имеет тех удобств, какими вы пользуетесь, он должен трудиться руками, подвергаться атмосферным, нередко вредным влияниям, а здоровее вас, потому что труд составляет гимнастику, которую я напрасно вам предписываю. Вот стоит только панне Идалии попробовать шведской гимнастики, заняться садовой работой, предписать себе хорошее расположение, и кашель как рукою снимет.
– К несчастью, большей части ваших советов я не в состоянии выполнить, – медленно отвечала хорошенькая панна. – Гимнастики терпеть не могу, сада не люблю, а предписывать себе расположение духа – не умею.
– Дурно, очень дурно, – заметил Милиус, – но время – доктор искуснее меня, и оно как-нибудь все исправит. Кому же и можно безнаказанно капризничать, как не хорошеньким паннам!
– Вы называете это капризами?
– Извините! Слово вырвалось неосторожно, и я не возьму его назад.
И Милиус собрался идти дальше.
– Возвращаетесь в город? – спросил у него Скальский.
– Поневоле, – есть больные, и хотя теперь время, может быть, самое здоровое в целом году, однако в бедном классе господствует лихорадка. Принужден был поспешить в деревню, где один крестьянин сломал ногу, а теперь спешу к убогим хаткам в предместье под прудом, где ожидают меня лихорадочные.
– Одним словом, вы не утомились, – заметил любезно аптекарь.
– Напротив, очень устал и с удовольствием бы протянулся на диване с книгою в руке, но обязанность…
И, поклонившись обществу, доктор поспешными шагами пошел в город.
– Какой неотес! – воскликнул пан Рожер. – Ему кажется, что он разыгрывает роль деревенского философа, бальзаковского médecin de campagne. В жизни не встречался мне человек скучнее!
– Да, но зато он и честнейший человек в мире, – отозвался пан Мартын, – уж ты не говори мне о нем.
– В самом деле, – сказал молодой человек, – неужели же вы прикажете мне жертвовать моими убеждениями? Ведь я не мешаю вам называть его честнейшим человеком, а потому прошу позволения считать его скучнейшим. Ха-ха-ха!
– Медведь, – прибавила тихо панна Идалия. – Ему кажется, что у всех такая же холопская натура, как у него.
– Перестаньте! – прервала аптекарша. – Ведь видите, что это сердит отца.
– Меня это нимало не сердит, – сказал поспешно пан Скальский. – Пусть говорят, что хотят, – мнения свободны.
– Да и странно было бы требовать отчета в том, как я думаю о людях! – воскликнул пан Рожер. – Однако сегодня видно роковой день, – прибавил он быстро, – вижу к нам снова идут навстречу два городские невежи.
Это были выходившие из кладбищенских ворот Шурма и Валек Лузинский.








