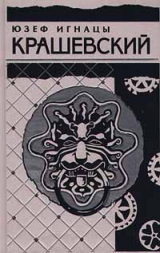
Текст книги "Дети века"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
XIV
Когда все это совершалось в городке, Туров казался как бы вымершим, в особенности после неудавшегося поединка дю Валя и Люиса с Богунем, который, не щадя обоих, смеялся над происшествием, в чем помогали ему и другие.
Причиной такого неловкого поведения Люиса и кажущейся трусости обоих была графиня. Она сделала страшную сцену дю Валю, представив судьбу свою, если б ей суждено было остаться одинокой среди врагов, просила, плакала, бранилась, требовала мирной сделки во что бы то ни стало и вынудила, наконец, у сына обещание, что не будет драться, а у дю Валя, что извинится… Богунь удовлетворился присланным письмом и держал его раскрытым на столе, сопровождая разными комментариями.
Все сделалось по желанию деспотичной графини, но после этого надобно было крепче запереться в палаццо, куда уже никто не приезжал, и разорвать все связи с соседями, которые никогда не были благосклонными, а теперь сделались открыто недовольными.
Дю Валь ходил, как пришибленный, ибо ему нельзя было отказать в храбрости, и подумывал о выезде в Варшаву.
Боязнь того, что кто-нибудь украдет паненок, утихла и казалась преувеличенной или вымышленной, ибо никогда обе сестры не выказывали большого смирения.
Графиня в особенности была обезоружена набожностью Изы, которая несколько раз сама восхваляла прелести монастырской жизни.
Старый граф прозябал по-прежнему, с той, может быть, разницей, что здоровье его, пропорционально утрате умственных сил, видимо, улучшалось постепенно, а аппетит был необыкновенный. Графиня находила, что обжорство могло быть ему вредным и кормила его супами, но Эмма потихоньку приносила разные лакомства, при виде которых старик дрожал, как ребенок.
Под этим внешним спокойствием, однако ж, готовилась для графини неприятная неожиданность.
После продолжительных переговоров между сестрами, когда Эмма ни за что не хотела оставить отца, а барон тщетно предлагал двести червонцев Милиусу, чтоб последний перевез в город старика графа, решено было, чтоб сперва Иза попробовала счастья и дебютировала бегством. Но тут встречались сильные затруднения, в особенности оттого, что Валек Лузинский, этот поэт, был положительно непрактичен. Что бы ни приходилось ему делать, он сваливал на Богуня, ибо сам не умел ничего. Богунь известными ему способами завязал сношения с Туровом и держал в руках все нити этого дела.
Изе хотелось ехать прямо из Турова в костел и обвенчаться. Но это-то и представляло затруднение: было нелегко найти ксендза, который согласился бы обвенчать, хотя известное всем положение сестер и возбуждало в каждом участие и сожаление.
В качестве родственника Богунь взял на себя заботу о ксендзе и остановился на викарии, которого хорошо знал и на которого рассчитывал.
Однажды, не говоря никому ни слова, уехал он верхом в город и, прибыв туда, немедленно окольными дорожками отправился к священническому дому.
Ксендз-викарий, как мы уже сказали, жил во флигеле, и так как преклонные лета достойного Бобка заставляли последнего большую часть дел передавать викарию, то этот в действительности и заправлял приходом.
Это был человек уже не молодой, довольно полный, веселый, говорливый, внешне снисходительный к людям, в обществе приветливый, но неумолимый как относительно себя, так и для других в исполнении обязанности. Видя его только за столом в обществе, Богунь ошибался при оценке его правил, рассчитывая, что будет иметь дело с мягким, сговорчивым человеком.
Ксендза-викария обыкновенно называли отцом Евстафием. Его редко можно было застать дома. Огромная его комната, совершенно не щегольская, заставленная старыми вещами, скорее походила на склад, нежели на квартиру. Только на столе у окна четки, несколько книжек, чернильница и перья доказывали, что здесь кто-то жил и трудился. В углу у дверей иногда лежала конская упряжь, тут же стояли садовые орудия, а в шкафу и комоде нагромождена была различная домашняя утварь.
Ксендз-викарий сидел, когда вошел Богунь; приподняв румяное лицо, он сразу не узнал гостя, но потом встал и просил садиться. Ксендз-викарий так много изменился с тех пор как Богунь встречался с ним в веселых беседах, что последний начал бояться за свое дело – при взгляде на это серьезное лицо, он даже не знал, с чего начать. Но добряк-кутила, когда приходилось услужить другим, искал вдохновения в сердце.
– Чему я обязан вашим посещением? – спросил викарий. – Ибо я уверен, что вас привела не обычная вежливость. Может быть, задав этот вопрос, я избавлю вас от потери времени и предисловия.
Богунь поморщился.
– Должен вам сказать откровенно, что не просто являюсь к вам с посещением и не по своему делу, вот отчего чувствую себя в смущении, боясь испортить все неловкостью.
– Говорите прямо, в чем суть?
– Хорошо говорить, когда не знаешь, как примут…
– Надеюсь, не какое-нибудь недостойное предложение?
– Предложение честное, только не совсем законное: дело, которое допускается совестью, но недозволенное правилами.
– Тогда не о чем и говорить, – прервал викарий, – для нас, духовных, церковные правила должны быть совестью, а кто вступит с ними в договор, полагаясь на собственный разум, тот может зайти далеко.
– Но в некоторых случаях…
– На все случаи имеются правила.
Богунь встал со стула, он уже был рад обороту разговора, который позволял ему уйти, не объяснив дела. Викарий взглянул на него, и ему стало жаль Богуня, которого он знал за честного человека.
– Прощайте, отец Евстафий.
– Как? Вы уходите? Подождите. Ведь все-таки можете сказать мне, в чем дело, если дам слово sub sigillo confessionis, что буду молчать, что не скажу никому.
– Но к чему все это поведет? – отозвался Богунь.
– К тому, что будете знать положительно, что нечего хлопотать и в другом месте. Садитесь и рассказывайте! Впрочем, подождите, я прикажу слуге, чтоб не впускал никого.
Выйдя на минуту, ксендз возвратился, сел, положил ногу на ногу и собрался слушать.
– Дело вот в чем, – начал Богунь. – У меня две близкие родственницы, графини Туровские. Вы знаете их жизнь и то, в какой они находятся неволе и под чьим деспотизмом. Отец в прострации, мачеха – злая женщина, брат их ненавидит, рассчитывает на их состояние; к ним никого не допускают, одним словом, хотят, чтоб они постарели и отжили бесследно.
– Да, кажется, это правда.
– Даже постороннего берет сожаление. Мачеха поклялась погубить их, и Бог знает, каким подвергаются они опасностям. Вырвать их из этих когтей, конечно, не было бы грехом, но это может сделать лишь тот, кто женился бы на них.
– Говорите лучше, во множественном числе, – поправил викарий, – потому что двоеженство запрещено.
– Конечно, – сказал смелее Богунь. – Панны нашли себе потихоньку женихов, но дело в том, обвенчает ли их кто-нибудь, когда они вырвутся из адской неволи?
– О нет! – воскликнул викарий, схватившись за голову. – Нет! Брак без оглашения, без согласия родителей, без соблюдения обычных форм не действителен, да и никто не согласится венчать!
– Помилуйте, это такой исключительный случай, и притом весь околоток засвидетельствовал бы, что ксендз исполнил обязанность.
– Да, но потом пошел бы под духовный суд, потерял место, пожалуй, подумали бы, что поступил так из-за денег…
– Значит, паннам приходится погибать! – сказал Богунь.
– Во всяком случае они могут… нет, ничего не могут!.. Должны терпеливо переносить свою участь и ожидать!
– То есть смерти отца, после чего могут уйти от мачехи и брата.
Собеседники замолчали, и ксендз начал прохаживаться по комнате.
– Ну, так хоть посоветуйте, что делать! – сказал, наконец, Богунь.
– Самое лучшее молиться и терпеть. Но так как мы говорим, словно на исповеди, то скажите, не один ли вы из этих женихов? – спросил викарий.
Богунь засмеялся.
– Я? Чтоб я женился, да еще на старой деве! Да пусть меня скорее сто тысяч чертей…
– Пожалуйста, только без чертей. Кто же эти господа?
– Это к исповеди не относится, довольно, что они честные люди и католики, а между тем дело идет не о двух свадьбах, а об одной.
– А другая?
– Будет разве попозже, ибо одна из сестер, жалея отца, не хочет покинуть его даже и для свободы.
– Добрая дочь! Пусть Бог ей поможет! – воскликнул викарий. – Жаль паненок, – продолжал он. – Но что же делать, если нельзя пособить.
– Э, почему невозможно? Все их знают, обстоятельства известны, совесть может быть покойна. А лучше ли будет, если они уйдут и станут жить невенчанные!
– О, это грех! Об этом – не может быть и речи.
– Но если бы они были вынуждены?
– Что же может понудить их к преступлению?
– Если они поклянутся друг другу.
– Перестаньте! Что не годится, то не годится. Богунь встал, викарий посмотрел на него.
– Посидели бы, – сказал он, – куда спешите?
– Если у вас ничего не выхлопочешь…
– Если бы они по крайней мере были бедны, – сказал викарий, – то никто не заподозрил бы ксендза в продажности, а то, на несчастье, невесты с огромным состоянием…
– Уж если на то пошло, – прервал Богунь, – то, признаюсь, не понимаю такой щепетильности, и она кажется мне чистейшим эгоизмом. Неужели же графини должны страдать только оттого, что вы боитесь быть заподозренным? Кто наконец осмелился бы обвинить вас в корыстолюбии
– Пожалуйста, перестаньте! Довольно! Ведь сказано нельзя. Богунь встал и собирался выйти.
– Куда же вы спешите? – отозвался ксендз. – Беда с этой молодостью, все им поскорее, вынь да и положь…
– Зачем же я буду надоедать вам напрасно?
– Если бы в таком положении находились бедные девушки, право, я не колебался бы и обвенчал бы немедленно. А тут позднее вышел бы скандал, шум, Туровские перевернули бы все вверх дном.
– Смолчали бы, – отозвался Богунь.
– Притом же и брак будет не действителен.
– Как? Перед лицом церкви?
– Вы не понимаете!.. А кто же этот жених? Богунь смешался немного, посмотрел на ксендза.
– Разве непременно надо объявить? Мой приятель, молодой человек.
– Мне все думается, не вы ли это? Тогда и родство еще вдобавок.
– Клянусь, не я!
– Но кто же, sub sigillo?
Богунь, наклоняясь к викарию, прошептал ему фамилию. Ксендз отскочил и перекрестился.
– Что! Он? Каким же это образом?
– Должно быть, понравился.
– Где они познакомились?
– Не знаю.
– Выбор неблистательный, – заметил викарий, – но дух свободен, а любовь даже свободнее духа. Это фанфарон, которого я терпеть не могу! Он считает себя великим человеком только потому, что кропает вирши, а между тем человек напыщенный, ни к чему не годный.
– Но талант у него необыкновенный…
– Талант! – воскликнул викарий, пожав плечами. – Талант у подобных людей все равно, что фортепьяно, которое жена еврея Мошка купила для своей дочери. Фортепьяно действительно стоит, но играть на нем нельзя.
– А может быть, отче, женитьба и сделает его, именно, человеком, – сказал Богунь. – Впрочем, de gustibus non est disputandum.
Викарий качал головою.
– Mirabilia! – повторял он, нюхая табак.
– Итак, я должен попрощаться с вами.
– Подожди! Куда спешишь? Не дашь собраться с мыслями.
– Очень спешу, – прибавил заискивающим голосом Богунь. – Сказать правду, вся наша надежда была на вас, а так как она лопнула, то они решились просто жить вместе, пока будут иметь возможность вступить в законный брак формальным образом.
– Зачем же им жить вместе? – воскликнул ксендз сердито. – Пускай она идет в монастырь.
– А кто же туда ее отвезет? – прервал Богунь. – Одна она уйти не может, следовательно, прежде надобно ее украсть. Когда же потом жених привезет ее в монастырь, то не знаю, примут ли ее. А вы знаете молодость, любовь, обстоятельства.
Ксендз заткнул себе уши.
– Оставь меня с этими отягчающими обстоятельствами! – сказал он.
Богунь сел и смотрел: викарий ходил по комнате, по временам повторяя громко:
– Невозможно!
– Итак, на этот раз прощаюсь серьезно, – молвил Богунь, – поручаю вам свою тайну.
Он наклонился к ксендзу, чтоб поцеловать его в плечо, но последний схватил его за руку.
– Повенчаю с одним условием! – воскликнул он.
– Повенчаете? Отец! Благодетель! Говорите же скорее ваше условие!
– Если мне не заплатят за это даже истертой монеты.
Богунь так обрадовался, что едва не упал к ногам викария, и потом обнял его и чуть не пошел танцевать с ним вальс.
– Оставь, сумасшедший! Ведь я духовая особа.
– Вы святой человек! – проговорил Богунь в восторге.
– Стой! Есть еще и другие условия, о которых я едва не позабыл. Во-первых, под карой смертного греха обязываю, чтоб она исповедалась прежде, и, во-вторых, когда это должно совершиться?
– День еще не известен.
– Однако должен быть назначен.
– Дадим знать.
– А в какое время?
– Конечно, ночью и при закрытых дверях. Тотчас после венца молодые уедут на почтовых в Варшаву.
– Но когда же приблизительно?
– На этих днях.
– Следует дать мне знать с утра, – заметил викарий.
– В назначенный день, без всякой записки, без всякого уведомления, пришлю вам с утра на угощение дичи, это и будет условный знак.
Викарий кивнул головой.
– Эх вы, пустые, пустые головы! Никогда, видно, вы не будете умны и серьезны!
– Когда поседеем, отче.
– Но подобные вам головы, кажется…
– Не плешивеют и не седеют! – сказал, засмеявшись, Богунь. – Итак, имею честь кланяться и ухожу, потому что пропасть еще дел.
– А ты должен быть шафером?
Богунь поклонился, поцеловал ксендза и выбежал.
Он спешил сообщить счастливое известие в гостиницу, но не застал Валека. Его это удивило и рассердило немного, потому что Лузинский должен был ожидать его. Он спускался с лестницы в дурном расположении духа, когда попалась ему навстречу улыбавшаяся Ганка. Добряк никогда в жизни не отказывался ни от рюмки вина, ни от женской улыбки. Хотя он был и сердит, и хотя Ганка не отличалась красотой, однако он подошел к ней и начал дразнить.
– Зачем смеешься надо мною, черноглазая негодница? А?
– Потому, что вы ищете пана Лузинского и не найдете, а я знаю, где он.
– Знаешь? Ну, так скажи мне.
– О, нет, нет!.. А какая хорошенькая и молоденькая!..
– Какая хорошенькая? – прервал Богунь. – Где?
– Не выдавайте только меня, – шепнула Ганка, – а хотелось бы мне отомстить ему, чтоб вы застали его с нею. Это такой обманщик, какого и свет не производил.
– А тебя не обманул?
– Меня? Нет, я не таковская.
Богунь пожал плечами.
– А кого же он обманул?
– Э, что толковать об этом! Лучше промолчать.
Богунь сунул ей рубль и шепнул:
– Клянусь тебе, что не скажу никому. Кого же он обманул? Девушка боязливо осмотрелась.
– Он вскружил голову самой хозяйке, – сказала она, – а обманывает, потому что не женится.
– Конечно, – заметил Богунь.
– Видите ли, а кроме этого, обманывает еще гробовщицу.
– Кого?
– Дочь мастера, который делает гробы. Ступайте осторожно к монастырскому саду. В переулке против калитки увидите лавку гробовщика; на гробе сидит там целый день молоденькая девушка. Если его нет там в настоящую минуту, то сейчас будет. О, жаль бедную девушку!
Будучи сам любителем прекрасного пола, Богунь не осуждал Валека за этот двойной обман, но весьма был рад застать его на месте преступления, насмеяться и потом иметь возможность приставать к нему. Ганка рассказала обстоятельно не только дорогу, но и каким образом, не испугав, можно было застать влюбленную парочку. Поблагодарив ее весьма чувствительно, так что она даже вскрикнула от его поцелуя, он полетел в указанное место.
Пробравшись сперва осторожно по той стороне дороги, на которой стояла лавка гробовщика, он перешел к монастырской стене и увидел Линку и Валека, которые сидели на двух гробах. Они наклонились друг к другу, держась за руки. Лузинский обнимал девушку, улыбался; бедная покрасневшая Линка как бы отталкивала его, но скорее притягивала к себе.
Сцена была в самом разгаре, когда неожиданно Богунь, стоявший напротив, тихонько всплеснул руками.
Испуганная Линка отошла назад. Лузинский встал с гроба и бросился к порогу с сердитым видом, но не успел еще осмотреться, как пан Богуслав подошел к нему и начал хохотать до упаду. Девушка рада была бы уйти, но не знала куда.
– Не краснейте так, милая, – сказал Богунь ласково, смотря в глаза Линке. – Вы не виноваты, всему причиной этот негодный искуситель, который никому, даже гробам, не дает покоя!
Линка заплакала.
– Идем! – сказал недовольный Лузинский.
Богунь подошел к девушке и шепнул:
– Не пугайтесь, я добрый человек и клянусь, не выдам вас!
При этих словах голубые заплаканные глаза поднялись на Богуня, который чувствовал, как они хватали его за сердце. Валек оттащил его
– Ты очень хорош, – сказал пан Богуслав через несколько времени. – Я просто удивляюсь: сердце у тебя обширно, как постоялый двор. Любишь, по твоим словам, мою кузину, ну, положим, это должна быть любовь платоническая, разумная, – и обманываешь несчастную пани Поз, и, наконец, нашел себе пятнадцатилетнюю невинность в гробах для разнообразия наслаждений!
Валеку хотелось обратить все в шутку.
– Это ничего не значит, девочка очень забавная, я зашел случайно и…
– В первый раз? – спросил насмешливо Богунь.
– Ну, положим, не первый.
– Полагаю, ибо мне не сказали бы, что ты здесь просиживаешь по целым дням.
Валек испугался.
– Кто тебе сказал? – спросил он.
– Какой-то еврей фактор в рынке, – солгал Богунь. Лузинский нахмурился.
– А о пани Поз и вечерах, которые ты проводишь вместе с нею, говорит весь город, – продолжал пан Богуслав.
– Ничего этого нет!
– Что бы там ни было, ты знаешь, милейший, что я весьма снисходительно смотрю на грешки молодежи, но компрометировать себя публично и в такую минуту, по-моему, неуместно.
– В какую минуту? – спросил Валек.
– Накануне свадьбы.
– До этого еще далеко.
– Вот тут-то и ошибаешься! Я приехал дать знать, чтобы ты отправлялся в Вольку, спрятался и ожидал моих приказаний. Иза хочет ускорить.
– Но кто же повенчает? Я не могу уговорить ни одного ксендза.
– Ксендз есть, ты готовься, я все улажу.
Лузинский снова почувствовал дрожь во всем теле, но в то же время обуяла его такая радость, что он начал сильно обнимать приятеля, который смотрел несколько насмешливо.
– Позволь сказать тебе пару слов, – молвил пан Богуслав серьезно. – Я бываю ветрен, пользуясь жизнью, как мне вздумается, но я свободен, и это мое дело, здесь только расчет с собственной совестью. Ты вступаешь в новую жизнь, принимаешь на себя обязанности, и я не думаю, что ты можешь пренебречь клятвой. Я должен предупредить, что, взяв на себя деятельную роль в судьбе кузины, я принимаю некоторым образом ответственность за последствия, и если б любезнейший мой Валек вздумает потом позволять себе разные вещи, то будет иметь дело со мною. До свадьбы имеешь полнейшую волю пользоваться улыбками пани Поз и поцелуями гробовщицы, но после свадьбы я требую, чтоб ты вел себя прилично.
– И ты будешь давать мне наставления! – сказал Лузинский с гневом, который был не совсем удачно прикрыт насмешкой.
– Да, я! Я объяснил тебе свою теорию. К алтарю никто тебя не тянет, но если б ты не только перед лицом Бога у алтаря, но даже наедине и без свидетелей поклялся женщине в верности и потом стал бы изменять ей, ты был бы негодяем.
Лузинский посмотрел на Богуня. Тот смеялся.
– Как видишь, я имею оригинальные понятия о слове и клятве, – сказал он. – Но об этом после, а теперь советую тебе сегодня же ночью собраться и ехать в Божью Вольку. Зайди во флигель, Томек покажет тебе убежище, а на дворе не смей и носа показать.
– Когда же конец?
– Не знаю, может быть, завтра, это будет зависеть от того, когда Иза даст знать, что готова; дю Валь и Люис должны выехать куда-то.
– А Мамерт дал знать?
– Мамерт уведомляет только, что боится – и старается отсоветовать; мы его оставили и, может быть, обойдемся без него. Это уж наше дело, а тебе необходимо сегодня быть в Божьей Вольке.
XV
Солнце как бы нарочно садилось медленнее обыкновенного, минуты тянулись, день никак не хотел кончится.
Напрасно графиня Иза, ходившая по комнате внешне спокойно, выглядывала в окно, посматривая на часы, вечер все никака не наступал.
Графиня Эмма, полулежа, полусидя, со слезами на глазах смотрела на сестру, и они долго разговаривали между собою взорами, потому что слов недоставало. Наконец, Иза бросилась на ковер у ног сестры, положила голову на колени к Эмме, закрыла лицо и оставалась с минуту в этом положении, а когда потом приподнялась, глаза ее были красны, словно от слез, которые висели на ресницах.
Сжав друг друга в объятиях, сестры плакали потихоньку и, боясь, чтобы их не услышали, начали шептаться.
– Итак, надобно расстаться! Кто знает, надолго ли и когда снова увидимся.
– Как я тебя одну здесь покину? Что будет с тобою, бедная невольница?
– О не спрашивай! Я сама не хочу думать об этом. Мы так привыкли быть вместе и страдать вместе, что разлука кажется мне чем-то вроде смерти! И когда подумаю, что завтра проснусь без тебя, одна среди них, без той силы, которую черпала я в общности нашей, тогда голова у меня кружится, я слабею. А между тем, я не могу уйти, не могу оставить им бедного отца в жертву. Что-то будет завтра?
– Но разве же может быть хуже?
– О, должно быть во сто раз хуже! Я останусь одна, в пустом доме, не с кем будет промолвить слова…
– Но ведь не могут же они ничего сделать?
– О, все могут!
– Нет, они побоятся общественного мнения.
– На которое не обращают ни малейшего внимания.
– Милая моя, – сказала Иза, закрывая глаза, – ты жалуешься на судьбу, а что же я должна сказать? Как безумная бросаюсь я на шею незнакомому почти человеку, не любя его, не зная даже, можно ли ему довериться и стоит ли он доверия? Как игрок, все проигравший, я ставлю на последнюю карту брачное кольцо! Будущность, страшная, мрачная, грозная, но которая все-таки мне кажется легче настоящей нашей жизни в этом гробу.
– Да, – прервала Эмма, – я удивляюсь твоей отваге и дрожу за твое будущее так же, как и за собственное. Человек этот для тебя загадка.
Иза опустила глаза.
– Пусть будет, что угодно Богу, но мне кажется, что для себя и для тебя я должна была решиться на этот шаг, который сразу переломит это несносное положение.
– А может быть, только переменит оковы?
Сестры мгновенно замолчали; в передней послышался шум, и на пороге осторожно показался с своей лисьей физиономией пан Мамерт Клаудзинский.
Как бы для объяснения своего визита он держал под мышкой связку бумаг; лицо его выражало испуг, глаза блуждали.
Иза встала, поспешила к нему навстречу.
– Что-нибудь случилось нехорошее? Или…
– Ничего, до сих пор ничего, – отвечал тихим голосом управитель, – но я боюсь, потому что везде необыкновенные предосторожности, везде в палаццо необычайное движение.
Иза побледнела.
– Итак, снова приходится отказаться? – шепнула она.
– О нет, я этого не говорю, – подхватил Клаудзинский, – я ничего не знаю, но всего боюсь. И если б что-нибудь случилось, то вы Бога ради не выдайте меня.
Иза успокоила его. Пан Мамерт посмотрел на нее внимательно.
– И что же? – спросила она.
– Ничего, все по-прежнему, только будьте осторожны. И Клаудзинский вышел.
Иза презрительно посмотрела ему вслед и сказала, обращаясь к сестре:
– Можно держать пари, что изменит, это видно по его лицу. Но Богуслав взялся за дело, и нисколько не доверяет Мамерту, поэтому я спокойна.
Подали чай, и, наконец, начал наступать вечерь. Солнце садилось за темные тучи, на дворе свистел по временам ветер, в воздухе, как и в сердцах сестер, слышалось какое-то беспокойство.
"Сегодня ночь должна быть очень темная", – подумала Иза.
Вскоре наступили сумерки. Подали свечи. В палаццо все, казалось, шло обычным порядком и незаметно было ни малейшего следа перемены.
Но в ту самую минуту, когда Люис ходил у себя по комнате с сигарой, обдумывая какую-то поездку, а графиня что-то рассчитывала, сидя задумчиво на диване, не обращая внимания на дю Валя, который небрежно раскинулся в кресле, вошла служанка и доложила, что пан Клаудзинский просит позволения видеть графиню по весьма важному делу.
Графиня, будучи довольно живого характера, не любила этого человека, без которого, впрочем, не могли обойтись. Никто не чувствует фальшивость в других лучше того, кто сам фальшив в делах своих, и потому графиня инстинктивно, без всякого основания, чувствовала какое-то отвращение к пану Мамерту. Его обыкновенно использовали как действенное, но нейтральное орудие для высасывания состояния Изы и Эммы в пользу обитателей палаццо. Правда, достойный посредник обладал способностью высасывать обе стороны и всегда умел воспользоваться взаимной ненавистью мачехи и падчериц.
Совершено неожиданно было посещение Клаудзинского в тот день и в такую пору; услыхав об этом, дю Валь уселся более приличным образом в кресле, а графиня приказала просить.
Потихоньку, на цыпочках, с изогнутой спиной, с двусмысленной улыбкой, которую можно было приурочить к обстоятельствам, Клаудзинский, вглядываясь, вошел в комнату. Это был тот же самый человек, которого несколько минут назад мы видели у сестер во флигеле, только еще с выражением большей почтительности.
– Добрый вечер, пан Клаудзинский. Что нового?
Управитель, осматриваясь, молча ступил пару шагов вперед, осмотрелся еще раз и прошептал почти на ухо графине:
– Чрезвычайно важное дело. Не могу так говорить, очень серьезное…
Графиня побледнела. Дю Валь вскочил с кресла и подошел. Пан Мамерт притворно дрожал, губы у него тряслись, он играл роль сильно испуганного.
– Что же может быть? – воскликнула графиня, встревоженная видом управителя.
– Не могу говорить, слов недостает, боюсь…
– Пойдемте в кабинет, – сказала графиня, спеша к двери, – Дю Валь станет на страже.
Пан Мамерт не успел еще ответить, как графиня схватила его за руку, дю Валь подтолкнул, и дверь затворилась.
– Говорите скорее, в чем дело?
Пан Мамерт попросил стакан воды. Графиня сама налила ему. У управителя выступили на глазах слезы.
Подобная подготовка делала сцену весьма тревожной; графиня, бледная, ожидала объяснения, как приговора. Старый плут, обло-котясь о конторку, начал говорить прерывистым голосом:
– Я всегда верно служил дому вашего сиятельства, служил усердно, а люди ненавидели меня за это. Много вытерпел я, – продолжал он со вздохом, – но пусть меня судит Тот, Кто все видит. Настала минута, когда я могу представить вам новое доказательство моей бескорыстной преданности. Дому вашему угрожает серьезная опасность. Случай открыл мне ужасную тайну.
Клаудзинский отер лоб. Графиня стояла, как бы на горячих угольях.
– Пан Богуслав Туровский в заговоре… Сегодня ночью хотят украсть графиню Изу.
Графиня с криком упала в кресло.
– Этот негодяй! Я всегда подозревала его! Дю Валь подскочил.
– Представь себе, – продолжала графиня изменившимся голосом. – Богуслав Туровский хочет украсть сегодня Изу.
Дю Валь в бешенстве кинулся к управителю, словно хотел задушить его.
– Говори!
Пан Маметр, бледный, скрестил на груди руки.
– Знаю только то, что нынешним вечером или ночью намереваются украсть графиню Изу.
– Кто?
– Пан Богуслав.
– Для себя?
– Нет, для какого-то хлыща, – сказал с глубоким презрением Клаудзинский. – Случайно я узнал заговор, заключающийся в том, что когда в палаццо погаснут огни, то панна должна прокрасться через сад до калитки, где будут ожидать ее лошади пана Богуслава. Но все еще можно без труда уладить, стоит только отрядить в засаду людей, которые овладеют лошадьми; можно раза два выстрелить в воздух, и панна будет поймана на месте преступления.
– Панна, это ничего! – воскликнул дю Валь, подымая кулак. – Но тому, кто будет с нею, велю дать сто лозанов!
– Ради Бога, устройте же все скорее, не теряя ни минуты!.. – сказала графиня. – Не надо говорить Люису, достаточно будет и дю Валя, а людей взять с конюшни и с фольварка. Панну можно схватить у калитки.
– Нет, – прервал Дю-Валь, – необходимо допустить ее к экипажу, потому что надобно схватить преступника.
– Они могут быть вооружены! – воскликнула графиня, заламывая руки.
Дю Валь нахмурился.
– Будь что будет, – решил он, – а мы должны схватить этого господина! Он хотел драться, пусть же останется побитым, я не отступлюсь от своего.
– О нет! – сказала графиня, схватив его за руку. Дю Валь вырвался.
– Прошу предоставить это мне, это уже дело мое! Будьте спокойны, я иду, мы условимся с паном Клаудзинским и устроим все, как следует.
Дю Валь взял уже было за руку управителя, который молча стоял с испуганным видом, как вдруг графиня гневно топнула ногой.
– Ни шагу отсюда! – воскликнула она. – Я здесь хозяйка, и все сделается по-моему!
Дю Валь рассудил, что ему следовало быть уступчивым, и он уступил, но пожимал плечами.
– Черт вас побери! – воскликнул он, скрежеща зубами. – Если вы желаете действовать сами, действуйте, только уж я в таком случае не мешаюсь.
Они посмотрели друг на друга сверкающими глазами; графиня опомнилась в свою очередь.
– Но все-таки без меня…
– Во всяком случае, – перебил дю Валь, – это дело мужское, и его следует кончить не по-женски, а по-мужски. Схватить панну у калитки ничего еще не значит и ни к чему не поведет, кроме скандала.
– Но скандал помешает замужеству. Дю Валь засмеялся.
– У нее есть деньги, – сказал он, – а потому, что ей за дело? Надобно схватить виновников и отодрать, а без этого все вздор.
Клаудзинский только стоял, молчал и с удрученным видом смотрел в землю.
– Как же вы узнали об этом? – спросил у него дю Валь.
– Случайно подслушал.
– Кого?
– Горничную, высланную для уговора,
– Когда? – спрашивал дю Валь, видя, что Клаудзинский путался более и более.
– Э, – отозвался управитель, – теперь не время для расспросов, нужно дело делать, чтоб не было поздно.
Француз обратился к графине и, взяв ее за руку, сказал почти повелительным, хотя и смягченным голосом:
– Будьте спокойны, графиня, все сделается тихо, ручаюсь; ухожу с паном Клаудзинским, устроим все, как следует.
Было поздно, когда два человека осторожно вышли из палаццо и быстрыми шагами поспешили к фольварочным строениям.
Между тем заплаканная, трепещущая Иза попросила сестру, чтоб та известным ей путем проводила ее к отцу. Ей хотелось еще раз увидаться с ним, не зная, суждено ли было видеть его более. В этот час обыкновенно у больного старика никто не бывал, кроме Эммы, к нему можно было прийти незаметно, а мальчику, дремавшему в передней, Эмма платила довольно дорого, чтоб могла делать, что хотела. Вечернее посещение ее не только не было исключительным, а, напротив, обыкновенным. На этот раз, однако ж, Иза неотступно просила взять ее с собою.
Взявшись за руки, обе сестры, через пустую оранжерею, галерею, лестницы и коридоры, пугаясь шума собственных шагов, словно тени, проскользнули незаметно к двери больного.
В этой части палаццо господствовала глубочайшая тишина; мальчик спал на скамейке, в комнатке старика горел ночник, но Эмма очень хорошо знала, что отец ожидает ее и не уснет, пока с нею не увидится, пока не получит хоть горсть конфет.








