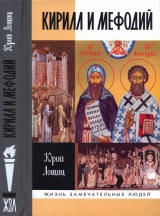
Текст книги "Кирилл и Мефодий"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Что ещё оставалось Аннию, как не замолчать? По крайней мере, молчание спасительно уже тем, что заставляет противника теряться в догадках. Пусть и они теперь озадачатся: молчит ли старец потому, что истощился, или потому, что зрелому мужу не имеет смысла вразумлять таких неучтивцев?
…Как отнеслись к непростому житийному эпизоду исследователи, предпочитающие иным подходам гиперкритическое сомнение во всём? Наиболее категоричен автор, считающий, что прение с иконоборцем «в настоящее время вызывает единодушные сомнения всех исследователей». Но где уж всех? А тот же Поленакович? А болгары В. Киселков и Э. Георгиев? А словенец Ф. Гревс? А грек Антоний Тахиаос? Можно привести имена и других учёных, которые не поддаются гиперкритической моде. Но что же именно вызывает сомнения в достоверности этого житийного эпизода?
Как известно, в VIII–IX веках в Византии неоднократно проходили публичные споры между защитниками и противниками иконописания, распространялись полемические трактаты таких видных иконопочитателей, как Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, патриархи Никифор и Фотий.
Читатель, уже знакомый с главным в таких случаях доводом гиперкритиков, и здесь не ошибётся: если были под рукой у авторов жития сочинения таких маститых полемистов, то, значит, они и здесь, по закоренелой своей привычке, не упустили случая воспользоваться чужим, выдать его за своё. Так, мол, и появилось в жизнеописании Константина-Кирилла ещё одно событие, которого на самом деле никогда не было.
Предлагают и более «мягкий» способ усомниться в достоверности прений. Якобы сюжет поступил в житие не из чужих источников, а из бумаг самого Философа, оставшихся после его смерти. Тот будто бы написал некое школьное сочинение, что-то вроде пробы пера на свободную богословскую тему: состязание с вымышленным иконоборцем в форме диалога. Оставалось лишь «обогатить» это сочинение в житии именем опального патриарха и выдать его за состоявшуюся беседу.
Впрочем, и в такой «мягкой» версии агиографы выглядят не меньшими плутами, чем в предыдущей. И как это они позабыли, что среди возможных византийских читателей жития немало могло найтись тех, кто хорошо помнил пресловутого Анния? А значит, без труда мог бы уличить увлёкшихся имитаторов в подлоге.
Вот как далеко может завести страсть сомневаться во всём подряд! Ведь в последнем случае, как и в предыдущих, в этих агиографических подделках обвиняются ближайшие ученики Кирилла, в кругу которых родилось его житие. А с ними заодно и старший брат Философа.
ФИЛОСОФ НА РУИНАХ ВАВИЛОНА
Костры в ночи
Житель Константинополя по многу раз на дню небрежно, а то и совершенно бездумно поглядывает на противоположный берег Босфора. И вовсе не вспоминает при этом, что там – Азия, а он – в Европе. Или мало у него иных забот? Эта самая Азия так буднично близка, что нужно слегка встряхнуться, чтобы снова воспринять её как другую часть света. И если кто при нём начнёт вслух разглагольствовать о том удивительном чувстве, которое обязан испытывать человек, сподобившийся видеть сразу два континента, то столичный обыватель с ухмылкой обойдёт велеречивого вещателя стороной. Ишь, невидаль какая! Ну, Европа, ну, Азия, а что дальше-то? Ведь и там, и здесь – всё та же Византия. Ну, поплыви туда на пароме, поглазей оттуда на Европу, – велика ли разница? Может, вся разница лишь в том, что когда окажешься за проливом и когда ветер донесёт туда всплески ликования с царьградского ипподрома, то станет тебе на малоазийском берегу как-то скучно и одиноко.
Для кого столица – это Великая София, для кого – цесарские дворцы, базары. А для кого – ипподром. Вот она, в самой серёдке города, взбухает песком и пылью великолепная лошадиная дорога, и с нею десятки тысяч горожан связаны лучшими переживаниями своей жизни. Пестреющие зрителями трибуны, имена и символы знаменитых колесниц, упругий, ласковый ветерок от Пропонтиды, пронизанный ароматами вина, мяса, шкворчащего на решётках, – как это всё бодрит, располагает к дурашливой беспечности! А всегдашние словесные потасовки между могущественными партиями болельщиков? Что за роскошь! Особенно когда перебранки то и дело переходят в самые настоящие рукопашные бои! И ни с чем не сравнимое тепло разливающейся в груди радости, когда по рядам пронесётся: «Пришёл!..» Значит, сам молоденький император, прошествовав прямиком из дворца по прохладной и короткой улице-галерее, уже восседает на своей парчовой тронной подушке и вот-вот благословит начало состязаний.
Пусть кто-то подшучивает над особым пристрастием отрока-василевса к лошадям, пусть упрекают его за то, что отстроил для своих любимых жеребчиков и кобылок конюшню из мрамора с водотоком, – пусть их! А вот завсегдатаям ипподрома приятно, что венценосный мальчик не чурается всегдашней простонародной забавы и даже сам иногда, нарядившись возничим, взбирается на колесницу. Уж в такой миг лучше к нему ни с чем худым не подступайся – ни с вестью о землетрясении, ни с донесением об очередном воинском копошении, затеянном болгарами. Пошли вы отсюда со своей Европой, со своей Азией!
Но когда среди ночи увидит горожанин за Босфором острый язык костра на безлесной макушке горы, тогда лишь, пожалуй, и вспомнит, что на том берегу – она, Азия. Потому что костёр этот одно-единственное означает: по огненной цепочке таких же великих костров – через весь громадный полуостров – от киликийской пограничной крепости Лул проскакал с горы на гору огненный сигнал нешуточной войны. Значит, опять сарацины нарушили перемирие.
И тут впору снова ворчать, сокрушаться, горестно вздыхать, а то и клясть про себя последними словами, – да-да! не кого-нибудь, а величайшего из императоров, имя которого носит столица. Это ведь его угораздило перенести свой трон в самый зыбкий и тряский, в самый неспокойный угол мира. Не понятно ли, какая гордыня ему тогда подсказки подсказывала? Где ещё, как не здесь, виднее всего будет его власть одновременно и над Западом, и над Востоком?
Сколько уже поколений ромеев расплачивается за ту гордыню! Зависть свежих народов, затопившая когда-то Рим, почти одновременно обрушилась и на град Константинов. Даже книжники, составители хронографов, пожалуй, затруднятся назвать точное число покушений – столь много их накопилось – на рубежи Византии и на её столицу.
Впрочем, те, кто заглядывает и в более древние книги, подскажут: так было испокон веку – ещё от времён, когда появились первые греческие, а затем и римские города. То Восток напирал на Запад, то средиземноморский Запад оттеснял народы и царства Востока. Будто главный или даже единственный смысл обозримой истории состоял как раз в этом – непонятно для чего нужном Богу – соперничестве, в котором участвовали с той и другой стороны великие полководцы, цари, императоры, сатрапы, храбрецы и маньяки, сумасброды-мечтатели и мелкие хищники, не говоря уж о миллионах пеших и конных воинов, со дня рождения обречённых на бесславие и безымянность.
Уже который век подряд именно такого рода противостояние надрывает силы Ромейской державы. Не сумев соединить в единый монолит два континента, она раз от разу оказывается во всё более жёстких тисках между завистливым Западом и по-мальчишески задиристым Востоком.
Многолик и непредсказуем этот Восток: сегодня наседают арабы, вчера доскакивали чуть не до ворот Царьграда болгары, позавчера ломились сюда авары со славянами, а до них были гунны, а после всех этих кто-то ещё наверняка пожалует… Раньше Восток обрушивался только с малоазиатского берега. После того как гунны пробили собственную дорогу в Европу и обошли с севера Понт Эвксинский, по их следам прорва племён накинулась и на византийские Балканы.
Ромеи уже и мечтать перестали о том, чтобы удержаться в старых имперских границах, намеченных когда-то легионерами Рима. Отовсюду утесняется Византия, отдаёт окраину за окраиной. И всё же нигде не несёт она такого урона, как на юго-востоке. Арабы-исмаилиты отторгли Египет, завоевали Сирию, Палестину, покушаются на Кипр, шлют свои флоты к городам Сицилии, Италии.
Империя Константина Великого, при начале своём единая, простиравшаяся от Испании до Таврики, от Темзы до Нила, от Карфагена до Евфрата, сумевшая так зримо и победительно сопрячь новой столицей две части света, теперь содрогалась и сокращалась под ударами, которые почти беспрерывно сыпались на неё отовсюду. Но чаще всего – с Арабского Востока. И проходили века, но ничего не удавалось предпринять, чтобы военной мощью или дипломатическими ухищрениями раз и навсегда осадить сарацинский напор.
Испытание о Троице
Миссию младшего из солунских братьев в Арабский халифат (она описана в «Житии Кирилла») иные современные исследователи, по установившейся гиперкритической привычке, обходят молчанием или ставят под знак вопроса. А если и озираются всё же на сообщение агиографов, то делают это как-то бегло, с явной неохотой. Может быть, потому, что миссия не имела прямого отношения к деятельности братьев в славянской среде? В итоге в обширнейшей кирилло-мефодиане можно насчитать лишь несколько работ, в которых предпринимались попытки хоть что-то добавить к изначальному краткому агиографическому рассказу.
Сравнительная немногословность этого житийного эпизода, излагающего подробности «Багдадской миссии» Философа, вроде бы заставляет предположить, что и сам Константин не придавал особого значения той своей ранней поездке на Восток. И не часто о ней потом вспоминал – в разговорах с Мефодием и учениками. А потому и они немногое запомнили для позднейшего пересказа в житии.
Не отсюда ли и некоторые хронологические нестыковки в этом «восточном сюжете»? Так, странным выглядит сообщение жития о том, что Философу на ту пору было 24 года. Потому что в таком случае выходило бы, что поручение отправиться в Багдад он получил в 850 либо 851 году, а к этой дате привыкать не нужно – она не вполне надёжна, как сейчас убедимся.
Впрочем, сначала – о самом характере участия Константина в «сарацинской миссии». Агиографы пересказывают некое послание, которое препроводили византийскому двору «агаряне, называемые сарацинами». Вызывающее это письмо содержало откровенную хулу на Святую Троицу: «Как вы, христиане, полагая, что Бог един, снова делите его на три, говоря, что есть и отец, и сын, и дух святой? Если можете показать это ясно, то пошлите мужа, который способен говорить об этом и переспорить нас».
На собрании, созванном при дворе по поводу столь неучтивого приглашения на диспут, было решено всё же принять вызов. Ведь всякое уклонение означало бы, что христиане признают свою неправоту.
Снова, как и в недавнем случае с иконоборцем Иоанном Грамматиком, молодой василевс призвал к себе Философа. Поручение императора Михаила представлено в житии в тонах торжественных, даже высокопарных:
«Слышишь ли, Философ, что говорят скверные агаряне против нашей веры? Но ты – Святой Троицы слуга и ученик – иди и выступи против них, и Бог, совершитель всякого дела, славословимый в Троице Отец, Сын и Святой Дух да подаст тебе благодать и силу в словах и явит тебя против Голиафа как нового Давида, с тремя камнями победившего, и возвратит тебя к нам, удостоенного царствия небесного».
Сам ли царствующий поручитель так безукоризненно изложил это напутствие, вещал ли за него кто из придворных? Что об этом гадать? Мы лишь видим, что Константин в ответном слове выразительно краток:
«Рад я пойти за веру христианскую. Что есть слаще на сем свете, чем жить или умереть за Святую Троицу?»
Споры на вероисповедные темы между византийцами и мусульманскими полемистами имели место и раньше. Но устраивались они в более подходящие, располагающие к словесным браням времена. А как раз на сию пору между двумя империями длилась самая настоящая война: уже три года подряд, начиная с 851-го, арабы вторгались в малоазийское приграничье Византии.
Последнее перемирие, во время которого состоялся крупный обмен пленными, было уже достаточно давно – в 846 году… В следующем, 847-м багдадский халифат возглавил новый правитель по имени Мутаваккиль, и при нём отношения между православной и мусульманской империями резко ухудшились. Этот Мутаваккиль сразу же отличился особой нетерпимостью и в религиозных вопросах. Вдруг резко усилились гонения не только против христиан и иудеев, но и против шиитов. Кавказские окраины халифата отозвались смутами. По свидетельству автора-араба, в христианских кварталах своих городов Мутаваккиль повелел у каждого жилища поставить по деревянному чучелу с изображением чёрта.
Следующее перемирие удалось заключить лишь в 855–856 годах. Видимо, к этой поздней дате и следует отнести миссию Константина, не озираясь на 850 или 851 годы. По крайней мере, поздняя дата подкрепляется одним надёжным арабским источником, к которому через некоторое время мы вернёмся.
Неспешность пути в Багдад позволяла Константину основательнее подготовиться к диспуту. Итак, главная заготовка противной стороны – резко отрицательное, откровенно насмешливое отношение к догмату о троичности христианского Бога. Не зря же поторопились высказать эту тему в своём приглашении-вызове: «Почему вы делите бога на три?!» Вот она – молодая, горячая напористость последователей Магомета, будто взятая напрокат из иудейского догмата о единобожии. Аллах – единствен, как у евреев единствен Саваоф. В христианской же Троице те и другие усматривают грубую уступку многобожию.
С напористостью ещё более агрессивной, чем предполагал, столкнулся Философ сразу по прибытии на место. В столице халифата, как он уже знал, живёт много христиан, осевших здесь в разные времена: кто в плен попал когда-то, кто поселился недавно, убежав от иконоборческих властей. Были среди этих его единоверцев художники, зодчие, искусные ремесленники, педагоги. Показывая на их жилища, провожатые спрашивали теперь у гостя: разумеет ли он, что за кривляющиеся существа изображены на входных дверях?
– Вижу изображения демонов, – отвечал Философ, – и думаю, что внутри здесь живут христиане. Демоны не могут с ними ужиться и выскакивают наружу. А у кого нет этих знаков снаружи, с теми демоны пребывают внутри жилищ.
Дерзкая находчивость шутливого ответа должна была подсказать принимающей стороне: молодой человек, похоже, совсем не прост. Но это ведь только разминка. А хватит ли у него ловкости и выдержки, когда пойдёт настоящее испытание?
Оно началось за щедро уставленным снедью пиршественным столом. Этими яствами как бы намекали: не пожалеем для гостя изысканных словесных кушаний и острых приправ. Константину были представлены участники словопрения – среди них значились люди, сведущие в геометрии, астрономии, иных науках… И, между прочим, как почти сразу выяснилось, были тут и такие, что наслышаны о богословских раздорах, будоражащих христианский мир.
– У нас в исламе всё цельно и нерушимо, а что у вас происходит? – говорили гостю с мягкой укоризной, едва ли не с состраданием. – Божий пророк Мухаммед, принеся нам благую весть от Бога, обратил многих людей, и все мы держимся его закона, ни в чём не нарушая его. Вы же, когда соблюдаете закон Христа, вашего пророка, то исполняете его так, как угодно каждому из вас: один – так, другой – иначе.
Философ сразу понял, куда метит упрёк. Ереси! Обилие ересей и ересиархов – вот что без труда подмечает в жизни христианской сторонний насмешливый глаз.
– Бог наш – как морская глубина, и пророк говорит о нём: «Род его кто изъяснит?» – начал Константин. – И ради поисков Его многие сходят в ту глубину, и сильные разумом с Его помощью, обретя духовное богатство, переплывают и возвращаются, а слабые, как те, кто пытаются переплыть на гнилых кораблях, одни тонут, а другие с трудом едва спасаются, погружаемые немощной ленью. Ваше же море – и узко, и удобно, и каждый может его перескочить, малый и великий. Нет в этом море ничего сверх обычной людской меры, а лишь то, что все могут делать. Ничего-то Мухаммед вам не запретил. А если не сдержал он вашего гнева, желаний ваших, то в какую пропасть ввергает вас? Христос же не так, но верой и делами научает человека. Ведь Он, Создатель всего, сотворил человека посредине между зверями и ангелами, отделил его речью и разумом от зверей, а гневом и желаниями от ангелов. И кто к какому началу приближается, звериному или ангельскому, тот становится сопричастником высшему или низшему.
Да-да, именно так! Христос не приглашает человека на всё готовое, не потворствует человеку, но ждёт от него встречного усилия. Он не потатчик ни гневу нашему, ни вожделениям. Он не льстец человеку.
Выслушав его, мусульмане, похоже, поняли: не следует надолго откладывать разговор о Троице. Споря с такими, как этот молодой и цепкий многознайка, нужно действовать решительнее. Иначе не дождёшься быстрого и очевидного перевеса.
– Как же это вы, – воззрились со всех сторон на Константина, – хотя Бог один, прославляете его в трёх? Отцом называете, и сыном, и духом. Если уж вы так устроили, так и жену ему дайте, и пусть от него многие боги расплодятся.
О, святая, неприступная, тайнозримая Троица! Сколько же внешние люди вышучивали тебя, как только не зубоскалили; вот и эти туда же, а ещё разумеют геометрию, движение планет и созвездий!
– Не говорите такой нелепой хулы! – осадил он остроумцев. – Да, мы научены отцами церкви, пророками и учителями прославлять Троицу, ибо Отец, и Слово, и Дух – три ипостаси в едином существе. Слово же воплотилось в Деве и родилось ради нашего спасения. Не о том ли и пророк ваш Мухаммед свидетельствует, когда пишет: «Послали мы дух наш к деве, ибо хотели, чтоб родила».
Его ссылка на слова Мухаммеда, да ещё и прямая цитата из Корана, похоже, заставили их несколько стушеваться. Но ненадолго.
– Если Христос – ваш бог, почему не делаете, как он велит? – был очередной вопрос. – Ведь написано в евангельских книгах: «Молитесь за врагов, добро делайте ненавидящим и гонящим вас и щёку подставляйте бьющим вас». Вы же острите оружие против тех, кто делает вам такое.
Знай, мол: не только ты в наши, но и мы в ваши книги заглядываем.
Философ решил, что тут лучше вопросом на вопрос отвечать:
– Если есть в законе две заповеди, кто по-настоящему исполняет закон – тот, кто соблюдает одну, или тот, кто – обе?
Невозможно им было ответить иначе, чем он ожидал.
– Тот, кто соблюдает обе.
– Бог сказал: «Молитесь за обижающих вас», – продолжил Философ. – Но Он же сказал: «В этой жизни никто не может явить большей любви, чем положивший душу свою за друзей своих». Вот ради друзей своих мы и исполняем эту вторую заповедь, чтобы с пленением тела и душа их в плен не попала.
Но обед и диспут на этом его ответе не прервались.
Обмен пленными
Зато последние слова Константина, сказанные о пленных, требуют прервать здесь на время и диспут, и обед. И напомнить ещё об одной цели его пребывания в Багдаде.
Как и во все другие времена и у других народов, этика установления мира (или перемирия) между враждующими сторонами требовала позаботиться в свой черёд о судьбе пленных – о их выкупе или взаимообмене. Так было и в этот раз, о чём в своей хронике сообщает арабский автор Абу-Джафар Табари, современник солунских братьев. Описывая обмен пленными, произведённый во время перемирия 855–856 годов, Табари, правда, не упоминает Философа среди участников процедуры. Но скорее всего, и сам арабский хронист в том событии не участвовал, а воспроизвёл его по документам и свидетельствам очевидцев, поскольку ему в пору перемирия было всего 16 лет.
Константин непосредственно переговорами по обмену не занимался. Для этого в составе византийской миссии имелись по-настоящему опытные люди. «Житие Кирилла» упоминает по имени одного из них, Георгия – чиновника высокого ранга (асикрета) из ведомства логофета Феоктиста. («Приставили же к нему асикрета Георгия…») Глагол «приставили» подсказывает, что главой миссии всё же оставался Константин. Но Табари, упоминающий Георгия, говорит о нём как о главном представителе византийской стороны в процедуре с пленными.
По заведенному обычаю обмен производился в малоазийской феме Киликия, на берегах пограничной реки Ламус. Это примерно в половине расстояния между Константинополем и Багдадом. Из арабской хроники узнаём, что ромеи приехали с подарками от императрицы Феодоры, что в долгий путь они отправились 6 декабря 855 года, что в посольстве было около пятидесяти патрициев и их слуг, что для обоза было нанято семьдесят мулов, наконец, что обмен производился в конце февраля – во время мусульманского праздника разговения после поста – и сопровождался раздачей милостыни. Выходит, византийская сторона потратила на дорогу без малого три зимних месяца. Когда достигли, наконец, древнего приморского города Тарса, знаменитого тем, что здесь когда-то родился будущий апостол Павел, можно было вздохнуть с облегчением: до Ламуса оставался всего лишь день перехода.
Сам обмен пленными продолжался целую неделю. С арабской стороны главным был придворный евнух Шениф, прибывший из Багдада с сотней всадников. Правила предписывали построить два моста-времянки, чтобы каждая сторона могла запускать по одному пленному, которого при встрече достаточно пристрастно допрашивали. Арабы жёстко отбраковывали тех, кто успел поменять веру. Видимо, так же поступали и греки. На восточном берегу Ламуса терпеливо ждали решения своей участи около ста христианских жителей халифата. Обстановка, как и всегда во время обменов, была нервной. То и дело возникали подозрения во взаимном плутовстве: к примеру, договорились обменивать человека на человека, а как быть, если с той стороны подсовывают стариков, детей?.. И кто докажет, что этот, стоящий перед тобой несчастный – ещё не старик, а тот, заморыш, – уже не ребёнок?
В любую минуту обмен мог прерваться, что тут же грозило бы и нарушением перемирия. Но всё же неделя закончилась благополучно. Асикрет Георгий, возможно, на восточный берег Ламуса со своими подчинёнными и не поехал, а тут же занялся отправкой освобождённых людей в родные им места. Но значит ли это, что Философ отбыл в Багдад совершенно один? Наверняка ему было придано какое-то достаточное сопровождение. Так, есть сведения, позволяющие допустить, что вместе с ним в столицу халифата в той же духовной миссии следовали два близких ему человека: родной брат Мефодий и… Фотий – тот самый высокоучёный наставник, в уникальной домашней библиотеке которого протекли для Константина часы увлекательных путешествий в прошлое греческой словесности. Участие Фотия в посольстве, по авторитетному мнению Франтишека Дворника, чешского исследователя эпохи, подтверждается письмом, относящимся к 855 году. В нём Фотий просит своего брата Тарасия присмотреть за его библиотекой, пока сам он будет участвовать в миссии «к ассирийцам». Если так, то получается, что учитель лишь сопровождал ученика, не будучи по каким-то соображениям главным полемистом с греческой стороны?
Хотя агиограф пишет, что асикрет Георгий был в подчинении у Философа, молодой богослов не мог не понимать, что главное в поездке – именно судьба пленных христиан, а не вероисповедное состязание. Последнее как бы входило в обряд перемирия, составляло его этикетную часть. Диспут был, что называется, подан на десерт. Наиболее сложные задачи их здешнего пребывания решались вовсе не в этих богато обставленных покоях, где словесный яд скрывают за мягкими мановениями рук и сладкими улыбками.
Но разве и он не стоял здесь, исполняя завет Спасителя, за друзей своих, за томящихся в неволе христиан? Υπερ των φιλόν αυτου… За други своя – как переведёт он позже для славян эти слова Христа из Евангелия от Иоанна.
…Тем временем диспут продолжился.
Да, противники его, не мог про себя не заметить Философ, азартно цепляются за слова и смыслы. Толкуют их, как им выгоднее. Вот и теперь мгновенно обыграли это евангельское «за друзей своих».
– Христос дань давал за себя и за других. Что же вы не делаете того, что он делал? Если уж защищаете своё, почему не даёте дань великому и сильному измаильскому народу за пленников – родных своих и друзей? Ведь мало же просим, всего один золотой с человека; дайте, и пока стоит земля, сохраним мир между собою.
Эта подробность житийного рассказа помогает различить и меркантильную, и чисто политическую подоплёку переговоров о выкупе пленных. Более того, тут просматриваются и самые веские причины тогдашнего противостояния двух империй. Халифат уже видел себя стороной побеждающей, уже почти победившей, а, значит, её, Византию, – готовым данником: «ведь мало же просим» за вечный-то мир!
Отвечая, Философ снова воспользовался притчей. И опять облёк иносказание в броню старой эллинской логики. Коли уж они Аристотеля почитают и штудируют, то неловко им станет спутаться в ответе.
– Если кто хочет идти по стопам своего учителя, не сбиваясь, а встречный совратит его с пути, друг ему этот встречный или враг?
– Враг.
– А когда Христос дань давал, чья власть была: измаильтян или Рима?
– Рима.
– Тогда за что же нас порицать? Ромеям все даём дань. Право, не багдадскому же «кесарю» завещал Христос отдавать «кесарево»?
И опять за шутливым выводом была непререкаемая, даже подкупающая твёрдость.
Но они ещё и ещё со своими шпильками подступались к молодому гостю. Испытывали его во всех ведомых им искусствах, дисциплинах и их тонкостях. Наконец, – со вздохом досады, приправленной восхищением, – признали:
– Как так? Откуда ты всё это выведал?
Он и тут предпочёл шутливую, хотя и дерзкую, притчу. Ибо назидательность басни особо ценит восточный слух:
– Некий человек зачерпнул воды в море и носил её в мешке. «Видите ли воду, какой нет ни у кого, кроме меня?» – горделиво спрашивал у прохожих. Но пришёл некий муж с берега морского и сказал ему: «Не безумен ли ты, коли хвастаешь вонючим мешком? У нас этого добра целое море». Не так ли и вы поступаете? Ведь все искусства ваши – от нас вышли.
Да, он, пожалуй, чересчур резок в общении с ними. Слишком упорно подчёркивает, что они во всём – и в вере своей, и в науках – новички и подражатели. Но разве сами они не подтверждают на каждом шагу, что учатся чужой мудрости? И у персов учатся, и у евреев, и у старых мудрецов Индии, но чаще всё же у греков. Переводят и вызубривают Платона, Аристотеля, Птолемея, даже неоплатоников. Но уже и заносятся так, будто сами все эти знания подарили соседям.
Как ни смягчал свои выводы иносказаниями, нелицеприятность его суждений напоследок дорого обошлась Философу. Довелось ему испытать на себе ещё один «довод» хозяев. Тоже, по-своему, иносказательный. Где-то под конец его пребывания в Багдаде Константину, как свидетельствует житие, то ли в питьё, то ли в еду была подбавлена отрава. Происшествие настолько, так сказать, классическое, во все времена и у всех народов распространённое, заштампованное, что для некоторых комментаторов «Жития Кирилла» и оно не могло не стать камнем преткновения. И конечно же лишним доводом в пользу неправдоподобности всего рассказа об Арабской миссии. Тем проще было прийти к такому мнению, что в житии говорилось о покушении на жизнь Константина как о событии, разрешившемся чудесным образом:
«…Совсем впали в свою злобу и дали ему пить яд. Но Бог милостивый, сказавший: "И если что смертоносное выпьете, ничто не повредит вам " – избавил его от этого и здорового возвратил его снова в свою страну».
Как не посочувствовать людям, которым ни разу в жизни не довелось встретиться ни с чем чудесным?!
После столпотворения
Диспут диспутом, но не отпускала Константина в Багдаде ещё одна забота – совсем особого свойства. Она была как жар в теле, как жажда ненасытимая. Может быть, она его томила с той самой минуты, как услышал от императора Михаила: готовься, тебя посылаем.
Арабский халифат!.. Багдад!.. Господи, это ли не чудесный подарок! Ему же предстоит встреча со священной первобиблейской землей! С той самой, где Творец устроил некогда рай, заселив его птицами и зверями, украсив плодовыми рощами, обильными реками и родниками, дав обиталище отцу и матери всех человеков… И это та самая земля, что была прежде других избрана для небесной кары, скрылась под волнами Всемирного потопа, когда расплодились повсюду поколения грешников. И это на ней строил свой ковчег Ной и на ней же заповедал первые уделы трём сыновьям – Симу, Хаму, Иафету… И это именно там потомки их, зажившие, по заповеди Ноя, раздельно племя от племени, но ещё разумевшие друг друга с полуслова, однажды затеяли творение столпа, чтобы поднялся превыше облаков. И Господь вновь покарал их – теперь уже за эту несусветную башню. Разучил их понимать друг друга, так что заговорили вдруг на семидесяти двух языках. И единый до того народ стал языками.
Житие не воспроизводит этих раздумий Константина перед дорогой в халифат. Рай, преступление Каина, спасение Ноя, гордыня вавилонян… Этот самый Вавилон и дальше будет мелькать на страницах Библии. И в «Истории» Геродота, в «Киропедии» Ксенофонта, в книгах об Александре Македонском… Ведь все эти реалии Древнего Востока – на слуху у каждого образованного византийца.
Но одно дело – знание книжное или услышанное от бывалых людей. А перед Константином, засидевшимся в стенах столицы, теперь открывалась заветная возможность прикоснуться к следам величайших событий прошлого.
Даже и сама дорога к колыбели рода людского – поистине священная дорога. Путь его пролегал через Малоазийский полуостров, мимо причудливых скал и горок обожжённой солнцем, высушенной ветрами Каппадокии. По этим огнедышащим долинам когда-то шествовали первые апостолы. Имена этих маленьких городков прославили своим рождением и трудами великие отцы и учителя церкви. По этим кривым белёсым улочкам шелестели подошвы их сандалий. В отдохновением полумраке крошечных, чуть выше роста человечьего, храмиков, вырытых в податливом песчанике, сочинялись страницы «Шестоднева», композиции литургического действа, толкования к апостольским посланиям…
В полупустынных городишках и деревнях Каппадокии пришелец чувствует себя так, будто заодно с сырыми горшками скудельника попал в кусающий зной гончарной печи. Кажется, кипящее олово вливается вместо воздуха в грудь. Что создал Господь прежде – жар или холод? Пусть помудрят над этим мудрецы, бьющиеся за первенство того или другого. Отходя ко сну, прислушиваясь к сочному бульканью и щёлку чудом уцелевшего в такие жары соловья, Каппадокия подсказывает: и жар, и холод сразу принёс Творец – в единый миг озарения. И из одного источника. Принёс, чтобы они чередованием своим давали и человеку, и птице радость перемен.








