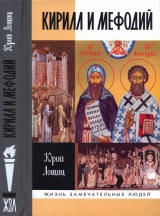
Текст книги "Кирилл и Мефодий"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Право же, далеко не всё внятно и складно уже в самом обращении этого Ростислава. Князь говорит, что его моравляне отверглись язычества и приняли христианство. Но в каком же смысле они его приняли, если вера по сей день остаётся для них чем-то иноязычным? Да и можно ли укрепиться в вере, когда приходят к вам то те, то другие, то третьи, и все учат по-разному? Значит, не очень-то моравляне «отверглись» и не очень-то «приняли».
Вряд ли могли уразуметь собравшиеся, о каких таких учителях-греках говорил Ростислав. Ведь отсюда, из Царьграда, учителей к моравскому князю посылать никак не могли, поскольку не знали о нём самом и его нуждах ничего достоверного. И кого, кстати, имеет в виду Ростислав под учителями-влахами? Разве влахи – христиане, а не балканские бродяги неведомо какого роду-племени?
И ещё смущала в этом князе его пылкая самонадеянность: не обретя настоящей веры, он уже надеется стать образцом для окружающих его землю языков!
Но при всём том в просьбе неведомого Ростислава подкупали какая-то трогательная беззащитность и доверчивость, надежда на то, что помощь непременно придёт. Он не стесняется говорить о себе и о своих моравлянах: мы – простая чадь, мы – дети несмышлёные, но мы чаем правды Христовой, помогите!..
Кажется, именно это растрогало тогда всех, услышавших послание, обращенное князем к великому властелину империи. И он сам, Михаил III, явно был взволнован неожиданным зовом загадочного Ростислава, живущего невесть где, в непроходимых, должно быть, лесах или болотах, но знающего: есть на свете великая и милосердная христианская держава, и нужно ему с его моравлянами смотреть неотрывно в её сторону, а не на немцев или каких-то там влахов.
Не этой ли растроганностью, действующей не слабее дорогого вина, и можно объяснить ту стремительность решений, которую захотел показать в тот день молодой василевс. Вдруг открывались перед его державным взором пространства неведомые, ничьим пером точно не описанные. Тут, поблизости, на кого ни глянь, все ищут урвать от империи ромеев куски пожирнее – и арабы, и болгарские ханы. Или эти вот дикие русы, что два года назад вломились прямо в бухту Суд, пока он отлучался, на воинском седле скакал в Азию, чтобы в который раз утихомирить арабов.
А этот простак Ростислав ничего от него урвать не ищет. Он сам целый воз даров прислал, лишь бы отправил ему император достойных учителей веры. Свежий северный порыв откуда-то с верховьев Дуная, поверх болгарских гор, явно взбудоражил Михаила. Невольно вспоминались за столом старинные предания о том, что данайцы, древняя опора и основа греческого рода, спустились сюда, к срединным морям, как раз с севера, с Дуная. Данайцы… дунайцы… Полна чудес старина!.. Эти моравляне, хоть и простая чадь, но, слышно, под рукой Ростислава не дают немецкому королю грабить своё княжество. Надо, надо поскорее помочь славному воину! Ведь даже имя его, как подсказывают те же солунские братья, означает, что слава этого князя растёт и что родитель его, назвав сына так, а не иначе, тем самым напутствовал: расти в славе!..
Из житийных сообщений не ясно, присутствовали на том собрании у василевса послы дунайского князя или нет. Скорее всего, их не было. Михаил вряд ли захотел бы при них озадачивать своих подданных новым непредвиденным поручением. Он ведь этих братьев тоже знал достаточно и потому вовсе не был уверен, что они его новейшее повеление примут с восторгом на лицах. Особенно непредсказуем для него был Константин. Сразу же взял и оконфузил всех, упёршись в какие-то буквы: «…если есть там у них свои буквы, тогда пойду». Дались этому буквоеду буквы! А ты пойди и поищи…
Иное дело Мефодий. Он – воин по натуре. Позавчера стратиг, вчера простой монах и участник миссии к хазарам, сегодня игумен, а завтра – за любимым братцем, с которого готов, кажется, пушинку сдувать, пойдёт хоть за край света.
Велик цесарь Михаил!
О, если бы все великие события приводились в действие великими же людьми. Какой образцовой была бы история: ровная, будто по ниточке, линия от великого к великому. Но, заметим, и как скучна, до зевоты скучна была бы она. Не потому ли сплошь да рядом история не брезгует самым завалящим материалом и не стесняется зачинать большие свершения при содействии первых подвернувшихся под руку лиц, может быть, не очень соображающих, каковы её, истории, настоящие намерения.
На византийском троне за тысячу и сто лет существования империи попадались василевсы, которые заслуживали у современников не вполне благозвучные прозвища. Но только один-единственный из всех – Михаил III, сын императора Феофила и императрицы Феодоры, сподобился получить кличку Пьяница. По русской снисходительности к печальному недугу случай с таким государем, пожалуй, прошёл бы почти незамеченным. Ещё, глядишь, и жалели бы его непритворно. Право, разве не бедолага был этот Михаил? С четырёх лет от роду остался без отца. Рос не столько при материнском догляде, сколько при дядином регентстве. По свидетельству некоторых своих современников, любил винцо, ночные кутежи, скоморохов, ипподромные ристалища, допускал скабрезные и даже богохульные выходки. Иное дело, что из своих выгод могли те самые современники и оболгать его, очернить до неузнаваемости. Но, в любом случае, ничем особенным не прославился Михаил III в глазах своих ромеев – ни выдающимся храмостроительством, ни полководческим даром, ни писанием книг, ни установлением мудрых законов. Всего чуть более десяти лет просидел на троне. Не дожив и до тридцати, зарезан был заговорщиками в своей опочивальне. Разве за пьянство так наказывают?
В старейшей русской летописи, «Повести временных лет», этот император византийский упомянут, однако, по совершенно другому и совершенно исключительному для собственно русской истории поводу: именно со времени его воцарения начат был отсчёт лет и ежегодных записей в нашем хронографе.
«В лето 6360, – сообщает «Повесть…», – наченшу Михаилу царствовати, начата прозывати Руска земля. О сем бо уведахом, яко при сем цари приходиша Русь на Царьгород, якоже пишется в летописании гречестем. Тем же отселе почнем и числа положим…»
Летописец за первую веху для своего отсчёта берёт именно дату начала самостоятельного правления Михаила – 856 год (или 6360-й, по принятой в этой статье эре от Сотворения мира), а не более поздний год, когда неведомая грекам Русь пришла ратью к стенам Царьграда. Да, нашествие случилось, как мы помним, как раз «при сем цари». Но ведь могло быть и при каком-то другом. Почему всё же Михаил III так выделен, так необычно укрупнён?
Более того, сразу вслед за этим упоминанием он – волею первого русского летописца – включается в самый высокий именной ряд всемирной истории:
«От Адама до потопа 2242 года, а от потопа до Авраама 1000 и 82 года, а от Авраама до исхода Моисея 430 лет, а от исхода Моисея до Давида 600 и 1 год, а от Давида и от начала царствования Соломона до пленения Иерусалима 448 лет, а от пленения до Александра Македонского 318 лет, а от Александра до Рождества Христова 333 лет, а от Христова Рождества до Константина 318 лет, от Константина же до сего Михаила 542 года».
То есть непосредственно за Константином Великим – он, Михаил. Третий по счёту в чреде ничем не знаменитых Михаилов. Ни много ни мало сакральная метаисторическая очерёдность!
Не ошибся ли малоопытный ещё в счислениях русский летописец? Не слишком ли высокая, даже исключительная честь для императора с несколько двоящейся славой? Но нет, хронограф стоек в своём выборе. И потому сразу же продолжает:
«А от первого года княжения Михаила до первого года княжения Олега, русского князя, 29 лет…»
То есть именем этого василевса, как рычагом, сдвигается с дохронологического поля материк уже собственно русской письменной истории – князь Олег, за ним Игорь, Святослав, Ярополк, Владимир, Ярослав…
За какие всё же особые заслуги так монументально обозначен император, ничем особо не возвеличивший державу ромеев?
«Повесть временных лет» не оставляет без внимания ещё одно событие с его участием. Может, оно сполна объяснит преимущество свежего взгляда на вещи с русской стороны?
«Царь Михаил с воинами направился берегом и морем на болгар. Болгары же, узнав об этом, не смогли противостоять им, попросили их крестить и обещали покориться грекам. Царь же крестил их князя и всех бояр, и заключили мир с болгарами».
Да, в понимании древнерусского летописца, крещение болгар – событие особой важности, и не только для двух соседок и постоянных соперниц – Византии и Болгарии. Опосредованно и для Руси оно важное.
А ещё через несколько страниц «Повести временных лет» её автор «впускает» своих читателей в тот самый день, когда в константинопольском дворце обсуждалось послание от моравлян:
«…Славяне были крещёными, когда их князья Ростислав, Святополк и Коцел обратились к царю Михаилу, говоря: „Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и учил нас, и растолковывал священные книги, ибо не знаем мы ни греческого, ни латинского языка. Одни нас учат так – другие иначе, мы же не знаем ни написание букв, ни их значение. Пошлите нам учителей, которые могли бы рассказать нам о книжных словах и о их смысле“. Услышав это, царь Михаил созвал философов и пересказал им всё, что передали славянские князья».
То есть мы читаем не что иное, как пересказ двух житийных отрывков, уже нам известных. Но если участники собрания в императорском дворце видели и слышали только самое начало события и неизвестно было ещё, будет оно иметь продолжение или нет, то летописец говорит о славянской грамоте как о чём-то вполне достоверном, уже состоявшемся:
«Им, моравам, первым были переведены книги грамотой, прозванной славянской. Эта же грамота на Руси и в Болгарии Дунайской».
Вот в чём выявилось преимущество взгляда со стороны. Но взгляда вовсе не стороннего. Около тысячи лет тому назад первый летописец Древней Руси пересказал в «Повести…», пусть не дословно, не по текстам двух житий, а по тому, как запомнил их смысл, едва ли не самое важное. И вот почему такое особое достоинство придаёт он личности и деянию именно Михаила III. Вот, по его убеждению, главное событие в недолгой жизни византийского государя: Михаил расслышал просьбу неизвестных ему славянских князей, «созвал философов» и пересказал им то, что расслышал. Кто, кроме правителя великого царства, имел власть, волю и простое человеческое хотение, чтобы поступить так? Велик цесарь Михаил для русского разумения! Ещё и потому велик, что он, древнерусский книжник, свой сказ о Михаиле и Ростиславе записывает теперь той самой грамотой, теми самыми буквами, которые по императорской воле и зачались на свет…
По-иному сказать, василевс Михаил III повернул тогда только ему принадлежащий государев ключик в очень непростом и малопонятном ему по устройству, назначению и возможностям механизме, и внутри византийского государева устройства всё стало нехотя шевелиться, издавать какие-то там похрустывания, пощипывания, вовсе ещё и не напоминающие мелодию…
Но дух такой на него повеял, – и ключик повёрнут.
А что он сам? Да он мог и забыть почти тут же про этот свой властный и добрый поступок, заторопиться, допустим, на скачки, на затеянную где-нибудь пирушку, да, словом, мало ли куда и в какой вовсе не философской компании. Ключик, однако, повёрнут.
Но ни он сам, ни другой кто из присутствующих, ни даже первый русский летописец, доброхот Михаила III не могли ещё осознавать, что в столице Византийской империи Константинополе был дан в те часы отсчёт событию поистине всемирной культурной значимости.
Подлинно, имеет право и великое деяние зачаться от толчка почти незаметного.
Не империя, но держава
Ни «Житие Кирилла», ни «Житие Мефодия» не упоминают ещё одного человека, который не мог не участвовать в том собрании. Это был патриарх Фотий. Вопрос об отправке новой христианской миссии, теперь уже в Моравию, то есть вопрос сугубо вероучительный, никак не мог быть поставлен и обсуждён в обход мнения и воли первоиерарха Константинопольской церкви.
Кажется, никто из исследователей, работавших с текстами двух житий, не обратил внимания или не счёл нужным сосредоточиваться на том, почему агиографы вообще нигде и ни разу не называют патриарха Фотия по имени. Между тем для них, агиографов, да и вообще для всех учеников Кирилла и Мефодия такое умолчание представлялось осознанным, намеренным и вполне извинительным. В те десятилетия, когда – после кончины младшего, а потом и старшего братьев – их жития появлялись на свет, упоминание в них имени патриарха Фотия, хоть какие-то сведения о его сочувственном, неизменно добром и покровительственном отношении к двум солунянам могли лишь повредить делу их самих и их учеников. (К этой теме нам предстоит ещё не раз возвращаться.)
С самых лет ученичества Константина в столичной придворной школе, в пору его поездки в Багдад, в годы пребывания братьев в монастыре на Малом Олимпе, во время их Хазарской миссии Фотий – сначала как педагог, затем как высокопоставленный имперский чиновник, наконец и как патриарх – неизменно держал братьев в поле своего наставнического, пастырского внимания.
Так не могло не быть и теперь.
Фотий до мозга костей был сыном христианского Константинополя, и молоком материнским питала его Святая София. Он вырос в придворной среде, но от её дурных влияний огораживал себя стенами мудрых книг. Он слыл человеком чистых духовных и художественных созерцаний, но, когда неожиданно был призван к пастырству, обнаружил отвагу христианского полемиста, различил в себе дар богословских прозрений и отважных исповеднических поступков.
Сейчас, услышав, что в столичные врата постучал славянский князь с севера, он уловил в этих звуках что-то поистине евангельское: мужествуйте, дерзайте, и отверзется вам!..
Такое ведь не впервые происходит при нём. Сколь ни гнусным показалось ему недавнее нашествие народа Рос, как ни возмутило наглое намерение дикарей вломиться в город, но чем же всё разрешилось? К тому народу уже отправлены проповедники, и они шлют ободряющие вести о первых крещениях в среде язычников… Или те же болгары, перемешавшиеся с балканскими славянами, – разве у них не такие же перемены могут произойти?.. Фотий год за годом всё больше укреплялся в предчувствии, что славянские народы, до сих пор неведомые, рассеянные по миру, приходят в какое-то духовное беспокойство и каждый из них, как умеет, хочет заявить о своей жажде веры. Не исполняется ли слово пророка, сказавшего: «Узнают Меня все от малого их до великого их…» И не по всей ли земле двинулось теперь «слово апостольских учений, и до пределов вселенной – речи их»?
Вот и этот князь, живущий где-то в земле, по которой ещё недавно носились в пыли и смраде полчища аваров и гуннов, – он тоже жаждет испить воды жизни. Фотия не могло не порадовать, что василевс Михаил так непосредственно, даже сердечно приветил моравлянских послов, так решительно настроился помочь Ростиславу. И он, Фотий, тоже понимает, что для исполнения такой вероучительной миссии не найти во всём Константинополе более достойных исполнителей, чем эта никогда не забываемая в его молитвах двоица. Особенно нужны молитвенная поддержка, одобряющее слово младшему, потому что он и из последней поездки вернулся в телесном изнурении.
Как непросто быть на свете истинным ромеем, достойным сыном империи! Потому непросто, что империя наша небывалая, ещё невиданная – христианская. А, значит, её принцип – не власть сама по себе и для самой себя, как было у восточных царей и сатрапов, у Александра Македонского или у римлян. Её принцип тоже небывалый – удерживать. От разложения удерживать, а не просто властвовать. Удерживать становящийся в веках и землях христианский мир от распада. И потому она есть по сути своей не империя, но держава, держание, земное подобие Державы небесной, где искони правит Вседержитель в окружении собора своих святых. Отсюда, что ни век, столько зависти к державе христианской, столько войн, ересей, озлоблений, внутренних и внешних покушений на её миротворческий уклад. До того ведь уже дошли было иконоборцы, что замазали известью лик Вседержителя Христа в самом куполе Святой Софии.
Ещё в молодые свои годы Фотий испытал, как мстительны бывают ненавистники церковного иконописания. Его отец и дядя, стойкие защитники иконного искусства, подверглись в ту пору анафеме, не избежал и сам он такой же участи. Вот почему, став патриархом, так много сил отдавал теперь восстановлению фресок и росписей в храмах, написанию новых настенных и иконных композиций. При освящении одной из столичных церквей обратил в своей проповеди внимание молящихся на образ Христа в куполе: «Он как бы обозревает землю, обдумывая её устройство и управление ею. Художник хотел таким образом формами и красками передать попечение Творца о нас». Но если ты истинный христианин, – будь ты василевс или простой воин, пастух или мореплаватель, – то научайся и ты попечению Царя Небесного о земле, участвуй, в меру своих сил, в заботах об управлении её пределами. Ты – сын державы своей, смотри же на мир ясным, открытым и бесстрашным державным взглядом, подражая Творцу…
Успел ли патриарх Фотий на том собрании у Михаила III приободрить братьев, уловив их внутреннее смятение перед чрезвычайностью только что услышанного ими замысла? Если и не успел, то они и в молчании его могли прочитать не уклончивость, не заминку, а твёрдый благословляющий смысл. Видите, братья, как этот князь славянский дерзает? Дерзайте же и вы! Потому что кто же, как не вы?!
Первое знакомство
Хотим мы того или нет, но часто, за нехваткой в нашем хозяйстве сведений, приходится говорить не о том, как определённое событие происходило, а о том, каким образом оно, скорее всего, могло произойти.
Вот и теперь: не зная, всё же предполагаем… Двум братьям, только что покинувшим дворец, необходима была – для того, чтобы поскорее приземлиться после непредвиденного для них полёта в головокружительных эмпиреях, для того, чтобы свыкнуться с мыслью о прозвучавшем поручении, и для того, чтобы произнести наконец своё твёрдое «да» или «нет», – просто как воздух была нужна одна срочная встреча. Нужна была беседа с послами, прибывшими из Моравии.
Послы наверняка дожидались своей участи в Константинополе. Они никак не могли отбыть домой так же нежданно, как и прибыли. Их участь вряд ли будет завидной, явись они к своему князю ни с чем, пусть даже и привезут домой щедрые отдарки василевса.
Если только среди них нет бывалого купца, эти послы слабы изъясняться по-гречески. Скорее всего, они, по близости своей к латиноговорящим немцам-священникам, лучше греческого знают латынь. Но раз они славяне, то чего же ещё нужно! Надо разговорить их по-славянски. Тогда многое или даже очень многое станет стремительно определяться.
Каково наречие у этих моравлян? Сильно ли оно отличается от говора славян солунских? Или славян вифинских? Или живущих у болгар? Или тех славян, с которыми братья встречались в Херсоне, на пути в Хазарию, в самой Хазарии?
Догадываемся, встреча состоялась. И это была не просто живая и непринуждённая беседа. С каждой её минутой и братьям, и их собеседникам становилось очевиднее, что они – почти свои. В чужом краю, посреди иноязычной и безразличной толпы послы Ростислава, до сих пор ещё пребывающие в великой тревоге и неведении относительно исхода своего дела, вдруг приходят в жильё к двум грекам и с первых же слов с радостью обнаруживают: эти столичные ромеи по языку своему – для них совсем как родные!
Послов должно было восхитить, до чего же хорошо два эти грека знают их речь, а братья – про себя или вслух – тоже восхищались: да у этих моравлян в их говоре, как и должно быть, полная цевница чисто славянских звуков! И в их речи, как и должно быть, три рода, и они не путают единственное число и множественное; и у них тоже есть редкостное двойственное число; и глагол у них работает, как положено, по всем временам, и имена с прилагательными и местоимениями склоняются, не то что у болгар, которые стараются, но всё никак не научатся склонять имена по-славянски… И звательный падеж у этих моравлян на своём достойном месте: Боже, Господи, чадо, сыне, мати…
И – чудо! – они даже произносят медленно и важно молитву «Отче наш…» по-славянски. Но от кого выучились? Не от немцев же? – Нет, не от немцев, но от каких-то монахов, приходивших в Баварию с запада. Кто запомнил с тех пор Отче наш… а кто и Символ веры… Есть у них при себе пергаменный лист с началом ещё одной молитвы, заполнен лист латинскими буквами: «Bose gozpodi miloztiuvi otze…» Уже по первой строчке братья заметили, что человеку, пытавшемуся записать славянские звуки латынью, явно не хватало нужных букв. В слове «Боже» вместо Ж он писал S, а в слове «Господи» не расслышал С и вместо него поместил Z, и в слове «Отче» вместо Ч снова поставил Z. Значит, своих собственных букв, своего алфавита у моравлян нет. А потому само по себе теряло силу условие, которое совсем недавно Константин огласил в присутствии василевса: «Если есть у них свои буквы, то пойду…» Он ведь тем самым хотел лишь заметить, насколько облегчается дело задуманного учительства, когда встречаешься с людьми, уже обученными письму, притом письму собственного изделия. Их не нужно учить самым азам.
Зато как радостно было теперь послам узнать, что у братьев, оказывается, есть в запасе свои готовые буквы для славянских звуков, с которыми не управился старательный латинский грамотей. Буква для звука Ж напоминает по рисунку жука, а для звука Ч – чашицу… И ещё несколько других знаков есть для славянской речи, и они рады показать послам эти знаки, каких нет ни в латинском письме, ни в греческом. Но что буквы?! Они – лишь самый начаток грамоты. Много хуже, когда не хватает не только букв, но и нужных слов и стоящих за ними смыслов. И какая радость, что речь моравлян богата и красива и в ней достаточно выразительных и умных слов, чтобы рассказать о своём князе и других князьях, о своём народе и его земле.
Князь их светлый и славный Ростислав княжит в Моравии уже без малого 20 лет. Он племянник князя Моймира, а мужественный Моймир первым в своём роду не захотел покоряться немцам, потому что немцы таковы, что всегда им мало своего и хотят держать моравлян и всех других славян – тех же чехов, сорбов, хорутан и вислян – за покорное стадо. Когда Моймир сплотил вокруг своего стола в Велеграде малых князей моравской земли, король немецкий, он же франкский Людовик II до конца ожесточился и, собрав войско, сверг Моймира, а на его место посадил молодого Ростислава, надеясь на его покорность за такой подарок. Немцы с той поры зовут Ростислава на свой лад: Растиц.
Но Ростислав не смалодушничал и покорился лишь для вида. Он и не думал изменять делу своего дяди. Уже столько лет с тех пор он выстаивает против короля. Опытному правителю не обойтись одной отвагой, нужны и хитрость, расчёт. Однажды, дознав о подготовке нового похода Людовика против моравлян, князь позвал в союзники болгар – они накануне размирились с королём. В другой раз действовал совместно со старшим сыном короля Карломаном, у которого завелись свои счёты с отцом. Какие? Да спешит примерить на себя немецкую корону. Вместе с этим Карломаном Ростислав разбил год тому назад рать Прибины, князя хотя и славянского, но уже давно переметнувшегося к немцам. Теперь, после гибели
Прибины на его столе в Паннонии, в Блатнограде сидит князь Коцел, сын Прибины. С Ростиславом он зажил не просто в мире, но и в согласии.
Людовик Немецкий не таков, чтобы спускать обиды – снова начал готовиться ратью на моравлян. А потому Ростислав отправил письмо в Рим, прося папу Николая о духовной защите против немца. Только какой дождёшься от него помощи, если, оказывается, этот папа на самом деле посажен на престол родителем короля, Людовиком I. Так ничего и не дождались.
…А Святополк кто?
Он племянник Ростислава и княжит в Нитре, где когда-то сидел Прибина. Святополк дяде своему верный помощник. А храмов много ли в Моравии?
Храмы есть. Но ни один не сравнится по величине, по богатству, по художествам и пению с теми, которые они увидели здесь, в Царьграде.
Всех моравлян, что приходят у себя дома в немецкие костёлы, кто по принуждению, а кто из раболепия, по пальцам можно перечесть. Храмы же открываются, лишь когда приезжают из Баварии за церковной данью немцы-попы…
Неприступная Литургия
Даже за одной свободной и неспешной беседой они могли узнать у послов Ростислава много больше, чем послы у них. Но какое в этом утешение? Что проку от узнанного, когда главного для себя они по-прежнему не знают? В чём всё же может состоять смысл их собственного учительства, которого ждут от них василевс, патриарх, эти вот послы, отправивший их князь?
Нет, надо думать ещё и ещё, прежде чем решиться… Так бывает: мечтами давно уже собрался к чему-то важному для себя, к чему-то даже наиважнейшему, но когда вдруг открывается прямая возможность для этого наиважнейшего и когда слышишь чей-то призыв: «Ну, давай же, принимайся, ты же сам порывался к такому!» – ты недужно замираешь, и в голову приходит множество доводов в пользу того, чтобы вообще ни за что не приниматься. А только пятиться и пятиться.
Не попятились ли и они теперь, поддавшись оторопи малодушия?
Разве в стенах вифинских монастырей они мало часов провели в беседах с монахами и послушниками из славян? Там ведь тоже учились друг у друга. И так прилежно, что выстроили после многих проб азбуку, красивую на вид, и каждой букве, как принято в греческом алфавите, дали имя, – славянское, удобное, лёгкое в запоминании: аз, буки, веди, глаголь… И записали немало молитв, праздничных тропарей, канонов и стихир, чтобы монахи из славян могли читать и петь осмысленно, радуясь каждый раз новым приобретениям. И не только келейно читали и пели, но уже и во время служб пробовали читать нараспев и петь многое попеременно – сначала по-гречески, но тут же и по-славянски.
Но во всех этих малых радостях и старательных научениях недоставало, как теперь видно, чего-то сердцевидного, чего-то осевого, прочно стоящего во главе угла.
Литургия – Евхаристия – Обедня… Вот что – при распахнутых дверях предложенного им поручения – было и остаётся для них как за семью печатями. Да, они сумели озвучить по-славянски отдельные молитвы, псалмы, песнопения, ектеньи – то, что постоянно входило в состав литургического действа. Но вся целиком святая литургия, в её чаемом славянском образе, и теперь неприступна для их намерений и попыток.
Что, разве за своей греческой литургией они были нерадивыми, посторонними? Нет же, они любили и знали почти наизусть высокий, торжественный чин её таинственного действа в немного меняющемся обличье каждого воскресного дня очередной седмицы, каждого праздника года. Но литургия, как незыблемая основа всей жизни церкви, существовала сама по себе, как если бы они в своих славянских пробах затеяли, уподобясь детям, ладить и лепить внутри собора какие-то стенки и перегородки из малых камешков и комков глины, а здание реяло над ними, не отзываясь эхом, снисходительно прикрывая их забаву своим совершенством.
Литургия была в их разумении великим соборным творением христианского мира. Творением, суть и образ которого определил раз и навсегда сам Господь Иисус Христос за Тайной вечерей, когда доверил ученикам святую тайну причастия:
«…Прием Иисус хлеб и благословив преломи, и даяше учеником, и рече: примите, ядите, сие есть тело Мое. И прием чашу и хвалу воздав, даде им, глаголя: пиите от нея ecи: сия есть кровь Моя, новаго завета, яже за многия изливаема во оставление грехов».
Как всякий человек перед обедней с внутренним трепетом подходит к священнику на исповедь, как с не меньшим трепетом подходит он за литургией к причастной чаше, так братья теперь – можно догадываться – испытывали трепет и угрызения совести от своего недостоинства при одной только мысли, что они сподобятся озвучить когда-нибудь для славянского слуха и уразумения… страшно сказать… всю литургию.
Но почему всё же это не дано им, не даётся? Почему так, если они уже дерзали переводить избранные молитвы, псалмы и тропари для всенощного бдения, для утрени, для предваряющих литургию часов? Как будто ответ напрашивался сам. В каждой службе – вечерне, заутрене, в часах, да и в литургии тоже – есть две составляющие: то, что неизменно повторяется от службы к службе, и то, что всякий раз обязательно обновляется, приходя на смену временно отошедшему. Есть в церковной службе постоянное и переменное, устойчивое и текучее, недвижимое и сдвигаемое. Но в литургии такого переменного, от раза к разу обновляемого несравненно больше. В череде дней, недель и месяцев христианского года каждая литургия – иная, светящаяся новыми великими смыслами.
Апостольские и Евангельские чтения – вот что придаёт каждой литургии жизненную новизну, движение, вселенский размах. Невозможно изъять из обедни причастие, она рухнет, обессмыслится. Но также невозможно изъять из неё чтения Апостола и Евангелия, потому что через эти чтения человек тоже становится причастником – самого новозаветного слова Господня, учения апостольского.
Да, у них уже были опыты переложения на славянский язык избранных евангельских отрывков, – отдельных поучений Иисуса Христа, самых живописных притч. Но что эти их крошечные пробы, если литургия вбирает в себя громадную годовую чреду чтений по Апостолу и Евангелию! Каждый раз за обедней, ещё до чтений, священник на поднятых руках выносит из алтаря на амвон сияющую, как солнце, вечную книгу напрестольного Евангелия. И каждый раз чтение будет новое, будто впервые в жизни слышимое… Как же подступиться к светилу? Какое нужно дерзновение? Не гордыня ли и подумать о таком?..
Но даже если не велели себе об этом думать, отвлекались на что-то другое, третье, а уже само думалось, будто без их участия… Снова толкался в память Херсон… Тот человек, что показывал им Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, – он сам теперь был для них как притча: смотрите, я лишь показал вам написанное кем-то, переложенное с вашего греческого, я и сам не знаю, кто решился на такое, но кто-то же решился. А что вы?
Почему тот неизвестный дерзатель избрал для своего труда именно две книги? Почему не принялся и за Апостол? Может, потому, что Апостол показался ему куда труднее для перевода, особенно послания Павла? Наверное, так и было: язык апостольских поучений после языка евангельских притч и языка псалмов и для усердного слуха местами кажется затруднённым, даже тёмным. Иногда и Павел прозрачен, как ясны и просты в своих апостольских письмах Иоанн, Иаков и Пётр. Но как часто для одного изречения, произнесённого Павлом, возникает нужда в целом пространном истолковании. Страшно подступиться к переводу всего Евангелия, но как приблизиться и к Апостолу? Не заробел ли и тот неведомый дерзновенный муж, чьи Евангелие и Псалтырь видели братья в Херсоне? Но, может, и так: просто посчитал, что из всех христианских книг эти две – первонужнейшие.








