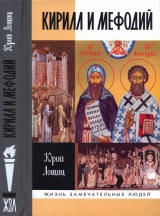
Текст книги "Кирилл и Мефодий"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
Безжалостный, едва ли не оскорбительный отказ приезжего наставника заниматься с ним мог если не потрясти мальчика, то усугубить его уныние. Нежданная обидная неудача способна причинить неокрепшей душе беды, совершенно несопоставимые с их причиной.
Но Константин не поддаётся опасному настроению. Вернувшись домой, он с какой-то взрослой отвагой долго, истово молится, «чтобы исполнилось желание сердца его».
И оно вскоре нежданно исполняется.
СЛАВЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕФОДИЯ
Служба старшего младшему
О вполне сознательном стремлении Мефодия стоять в тени младшего брата уже говорилось и ещё не раз будет повод сказать. Да, Мефодий явно не хотел смотреться в событиях «Жития Кирилла» на равных с Философом. Наверное, попытки этого рода представлялись ему такими же смешными, как если бы луна пожелала постоянно застить солнце. Тем легче было Мефодию добиться своего, что он, как уже отмечено, участвовал в написании жития брата в качестве редактора-соавтора. Да, кстати, постарался и это своё соавторство сделать предельно незаметным.
Более того, он заранее постарался, чтобы после его смерти в кругу учеников и сподвижников не возникло вдруг намерение посмотреть на происшедшие события иначе, чем сам он смотрел, то есть всё-таки выставить его на равных с братом. И хотя это ему, в конце концов, не удалось, но когда среди учеников зашла речь о достойном увековечении житием его памяти, они с удивлением обнаружили: Мефодий оставил им о своей долгой и деятельнейшей жизни, – особенно о её первой и большей по годам части, чем та, что прошла у них на виду, – самые обрывочные сведения. Особенно эта клочковатость и скудость необходимейших свидетельств обескураживала, когда речь касалась его детских лет, отрочества, юности.
Да что там! Даже сравнительно недавнее время его ухода в монастырь, когда зрелый муж, видный военачальник решительно устранился от государевой службы, – даже это время на более чем в сорокалетнем отдалении выглядело во всём, что касалось его тогдашних личных мотивов и обстоятельств, совершенно непрозрачным.
Кажется, ещё вчера он был с ними рядом, в счастливой доступности, в общих заботах, службах, тяготах, открытый, всегда готовый выслушать новый перевод тропаря или кондака, дать житейское наставление, остеречь от неверного шага, ободрить… И – надо же! – они теперь не могут прийти к согласию, выясняя самые простые, самые необходимые сведения о нём. Ну, вот это хотя бы: сколько же ему было лет в пору кончины? Разве не срам, что никто из них не может точно назвать год его рождения?! А он будто качает укоризненно головой из своей прозрачной недоступности: да зачем это вам?., или мало других забот?., тем ли вы занялись?., впрочем, делайте, как знаете.
Предельно скупая событийная часть «Жития Мефодия» – свидетельство того, с какими трудностями столкнулись тогда они, его верные ученики и сподвижники. С какими потерями пробивались в своём повествовании о нём, составляемом вопреки его воле, хоть к каким-то пядям достоверности. То есть получалось так, что всё происшедшее в жизни Мефодия до пострижения в монахи сполна умещалось теперь всего-навсего… в трёх предложениях. Ладно бы, не хватало пергамена и чернил! Не хватало того, о чём писать, а не того, чем и на чём.
«Был же он с обеих сторон, – сообщалось для начала о родителях, – не из худого рода, но доброго и честного, знаемо-го прежде всего Богом, и цесарем, и всей Солунской землёю, о чём и телесный его облик говорил». И сразу же повествователь волей-неволей резко перемещал рассказ из безоблачного детства в пору жизни взрослой, требующей предельной собранности и ответственности: «Потому и первые [люди] любили с ним беседовать ещё в детстве его, а когда цесарь [узнал] быстроту его ума, то дал ему управлять княжеством славянским, будто прозрев как-то, что захотят его учителем к славянам послать и первым архиепископом, и чтобы научился всем обычаям славянским и привык к ним помалу. Пробыв в том княжении много лет и увидев многие наветы и безчиния жизни сей, обратил волю от земной тьмы к небесным мыслям, ибо не хотел честную душу отяготить суетой, и, найдя удобное время, избавился от княжения и ушёл на Олимп, где живут святые отцы, и там постригся и облёкся в чёрные ризы».
Не легко да и не хотелось бы смиряться с такой чрезмерной плотностью изложения событий. Тут ведь, даже по беглой прикидке, речь идёт не об одном и не о двух десятилетиях человеческой жизни. А как минимум о трёх. Как бы стремительно ни развивался Мефодий, но василевс не мог поручить юнцу в управление целое княжество, входящее в состав империи, к тому же населённое не греками, а пришлыми славянами.
Впрочем, догадок, предположений и недоумений это коротенькое начало жития порождает столько, что нельзя не остановиться хотя бы на главных из них.
От какого всё же года вести отсчёт последующим событиям жизни Мефодия? Где он учился – только ли в Солуни? Или доучивался сверх того в Константинополе, где и мог обратить внимание на его успехи тогдашний василевс?
Кто именно был этот василевс?
Ясно, что им никак не мог быть Михаил III, прозванный современниками Пьяницей. Этот Михаил, с именем которого будут связаны главные события жизни братьев, родился около 840 года, полновластным правителем стал лишь в 856 году, а в пору его несовершеннолетия в царствующем граде правила его мать августа Феодора. До неё же правили соответственно Михаил II, по прозвищу Травл, то есть Шепелявый, и после него Феофил, супруг Феодоры. Михаил-дед сидел на троне с 820 по 829-й, Феофил – с 829 по 842 год.
Современные исследователи считают, что одарённый юноша из Солуни вряд ли мог совершить столь стремительную карьеру при косноязычном, малограмотном и мужиковатом Михаиле Травле, который, говорят, превосходно разбирался в жеребых кобылах, ослах и свиноматках, но очень поверхностно – в людях. А вот при Феофиле быстрое выдвижение Мефодия выглядело бы куда естественнее. Не в пример отцу, этот император благоволил к талантливым и некорыстолюбивым подданным.
Свяжем и мы со временем Феофила почти феерическое превращение юноши, пусть и чрезвычайно одарённого, в управителя целой областью империи. Тем более что такой привязке не противоречит ещё один литературный памятник житийного жанра, посвященный старшему из солунских братьев, – так называемое краткое или «Проложное житие Мефодия».
Именно оно даёт некоторые необходимейшие подсказки. Во-первых, уточняет его автор, когда молодого человека поставили правителем (воеводой) в славянскую область, ему было 20 лет. Не менее значимо и следующее уточнение: прослужил в этой должности Мефодий целых десять лет.
По византийским обычаям той эпохи воинскую службу начинали восемнадцати лет от роду. Итак, Мефодий, избрав карьеру отца, друнгария Льва, всего за каких-то два года службы опередил родителя в воинском чине и получил высокое звание стратега. Именно это греческое звание соответствует русскому понятию воевода, упомянутому в кратком житии. По тогдашней табели о рангах архонтом, то есть управителем архонтии – княжества в составе империи, – мог быть только стратиг.
Среди иных предположений существует мнение, что Мефодий родился в 810 году, и это, кстати, самая ранняя из обсуждаемых дат его рождения. Если так, то на троне в Константинополе тогда ещё сидел император-самозванец Никифор I, погибший годом позже во время битвы с болгарским ханом Крумом. Совсем недолго после Никифора, всего два с лишним месяца, правил его сын Ставракий, тяжело раненный в том же сражении. Менее двух лет продержался у власти низложивший Ставракия Михаил I Рангаве. Хотя прозвище его, как считают, было лестным и означало «Сильнорукий», он после поражения, нанесённого византийцам всё тем же болгарином Крумом при Адрианополе, вынужден был отречься от престола. С 813 по 820 год империю ромеев возглавлял Лев V Армянин, в прошлом крупный военачальник, стратег малоазийской фемы Анатолик. Как и многие предшественники, он кончил не своей смертью. Во время очередного дворцового переворота воины аморийского стратега, уже упомянутого нами Михаила Травла (деда Михаила III), изрезали Армянина на куски в алтаре дворцовой церкви прямо во время праздничной службы.
Ещё мальчиком в солунском доме своих родителей Мефодий мог слышать откровенные разговоры, без которых вряд ли обходились встречи друнгария Льва с другими здешними или приезжими военачальниками и чиновниками. Кто с тревогой, кто с едва скрываемым гневом говорили о заводилах и жертвах очередных заговоров, о политической лихорадке, постоянно трясущей империю, о наглых военных выходках соседей… Да, как ни храбрись, а Византия переживает опаснейшие времена. Разве это не позорно для воинов, что они, вместо того чтобы защищать священные пределы православной ойкумены, толкутся и шушукаются, как языкастые бабы, в придворных казармах, злоумышляют против своих же вчерашних покровителей, поносят грязными словами патриархов и простых монахов, визжат, будто кастрируемые боровы, на трибунах ипподрома… Нет, в Солуни нравы ещё так не пали. Святой покровитель города – воин Христов Димитрий – уже который век твёрдо держит десницу на рукояти меча. Он не попускает, чтобы здесь клубились интриги, распоясывались хульные пагубники-иконоборцы. Не удивительно ли: все эти промелькнувшие друг за другом на троне самозванцы, пришлецы, клятвопреступники передавали друг другу, как чуму, ненависть к изображениям Христа, Богоматери, святых, к иконам, фрескам, мозаикам, к великому учению об образе и Первообразе. И даже патриархов подбирали себе под стать – духовных смутьянов, от иудеев и сарацин напитавшихся высокомерным презрением к простакам-иконолюбам.
Солунь в эти тёмные десятилетия стала местом ссылки для иерархов церкви, что остались верны заветам иконопочитания. Здесь отсиживались, дожидаясь лучших дней, маститые учёные, опальные политики. Солуняне не стеснялись вслух, прилюдно обсуждать поведение столичных выскочек самого высокого ранга. И если в прежние времена в состоятельных семьях почиталось за честь отправлять детей в Константинополь за образованием, то теперь в ту сторону поглядывали с опаской, дожидаясь перемен к лучшему.
Может быть, ещё и поэтому супруга друнгария Льва перед его кончиной с таким огорчением говорила о неустроенности младшего – Константина? Но, значит, на ту пору (около 841 года) за Мефодия ей уже не приходилось беспокоиться? Да, если вести анкетный отсчёт от 810 года и учитывать числа, упомянутые в «Проложном» житии, то получается, что Мефодий был поставлен стратигом славянской области где-то при начале правления Феофила и теперь, в год кончины своего отца, дослуживал здесь или уже отказался от службы и порешил уйти в монастырь.
Впрочем, один из русских исследователей вопроса, И. И. Малышевский, предложил версию, по которой Мефодий в 842 году только лишь был вызван в столицу за назначением на славянскую архонтию и вместе с ним для учёбы приехал сюда брат Константин. Но тогда получается, что старшего от младшего отделяли всего около пяти лет. И уж никак не 17, которые набираются, если считать годом рождения Мефодия 810-й. А поскольку и у той, и у другой версии есть противники, попытка выстроить более или менее достоверную хронологическую цепочку опять не удаётся.
Вот какую головоломную задачу задал всем Мефодий своим нежеланием своевременно и подробно «анкетироваться»!
Иногда думаешь: да зачем и кому нужны все эти изнурительные тяжбы с увёртливой цифирью? Самим Мефодию и Кириллу? Конечно, они им не нужны. Ни младшему, ни старшему, который делал всё, чтобы память о нём не засорялась лишними датами.
Не мелочное ли тщеславие движет в таких случаях учёными умами? Сколько уже так бывало, что учёный принимается за построение какой-то версии, даже концепции, нисколько не смущаясь явной нехваткой строительных средств, необходимых для реконструкции. И всё же «концепция» запускается в оборот, с нею спорят, на неё ссылаются.
Может, нам проще всего успокоиться на том, что просто-напросто один брат был старше, а другой младше? Но нет же, именно разницу хотелось бы знать! Именно это насколько различить. Потому что чем больше на самом деле было это насколько, тем сильнее обозначится для нас красота братского смирения Мефодия перед Константином. Такая для наших дней редкая и драгоценная красота службы старшего младшему.
Но смиримся и мы. Если не обнаружится каких-то совершенно новых документальных подспорий, касающихся жизни солунских братьев, точная дата рождения Мефодия так навсегда и останется неизвестной.
Славяне – кто и откуда?
Ещё больше поисковых тяжб готовит нам попытка уточнения места, в котором находилась славянская архонтия Мефодия. Но поскольку подобные попытки неоднократно предпринимались и ещё, видимо, будут предприниматься, эту тему тоже нельзя обойти молчанием. По крайней мере, появится возможность лучше разглядеть, что представляло собой в IX веке славянское население Византийской империи и её ближнего заграничья.
Житийные источники (а других просто не сохранилось) не дают никаких географических ориентиров искомой архонтии. Проще всего допустить, что она простиралась где-то в непосредственной близости от Солуни. Город не зря славился на ту пору как самый славяноязычный из больших греческих полисов Балканского полуострова. Если на его рынках постоянно слышалась речь славян, торгующих всяческой снедью и всяческим брашном, фуражом, шерстью, кожами, дровами, сеном, корзинами, кадями и их содержимым, если в домах состоятельных горожан держали во множестве славян-слуг, и подростков, и мужчин, и женщин, значит, народу этого хватало и в солунской округе. И это был мирный, оседлый народ, занятый трудом на земле. И он обосновался тут не вчера, не год назад, а уже давно.
Сыновья друнгария Льва, допускаем мы, не сидели всё время взаперти – только лишь в стенах своей городской усадьбы и солунской крепости. Наверняка у их родителя, по-современному, командира полка, было и загородное поместье, куда семейство выезжало на лето – подальше от зноя, пыли и духоты городских теснин.
Ехали они от Солуни прямиком на запад, с переправой через быстрый Ахиос, которому славяне дали имя Вардар, мимо руин древней Пеллы, в сторону красивейшего во всей Иллирии озера Охрид, или держали путь подножиями гор прямо на восток, к реке Стримон (по-славянски Струм), оставляя к югу от себя загадочный, будто на кузне выкованный трезубец Халкидонского полуострова, или же двигались на север, вдоль того же Вардара, зеленеющего прибрежными дубравами, – куда бы ни вела их дорога, везде встречали, вперемешку с греческими, и славянские сёла, окружённые пёстрыми нивами, пахотой, лугами для выпаса стад, табунов и отар.
Дети знали, – хотя бы по житию Димитрия Солунского, часто слышанному и в храме, и дома, – что святой покровитель не раз и не два, уже по кончине своей, чудесным образом оберегал город от нападения славянских полчищ. Но, глядя на эти мирные селения, на краснолицего пахаря, сонно ступающего за двумя волами по глубокой борозде, на отроков, расторопно относящих камни, вырванные ралом, к межевой полоске, на пастуха, что стоит древесным изваянием в тени соломенной шляпы, упёршись грудью в свой посох и устремив воспалённый взгляд выше овец, волков, и гор – на свежее невинное облачко, – глядя на этих труждающихся простолюдинов, непросто было вообразить, что их деды или прадеды гоготали и выли когда-то под стенами города, потрясая в руках кожаными щитами, рогатинами и дрекольем.
В описании чудес святомученика Димитрия были даже названы племенные имена тех варваров, нахлынувших на Македонию откуда-то с севера или с востока. Там были дрегувиты, белегезиты, баюниты, берзиты, сагудаты…
Может, их и нет уже давно на свете – племён с такими дико звучащими именами? Нет, оказывается, остались они, уцелели, пусть и не все. Дрегувиты осели на землях к западу от Солуни, в окрестностях города Вереи. Южнее их, в Фессалии, у подножий Олимпа облюбовали себе пристанища белегезиты. Сагудаты, что пришли сюда вместе со славянами, но относятся к какому-то другому языку, также расселились к западу от Солуни. Обитает славянское племя и в долине Струма: этих зовут смоляны или смолены. И живут они здесь тоже давно, потому что ещё император Юстиниан II приходил на Струм усмирять и крестить славян, а с того похода уже минуло два ста и ещё полета годов.
Но ведь сколько бы они тут ни жили, а когда-то их всё же не было? Не слыхали о них ни во времена Гомера, ни в век Александра Македонского, ни при императорах-римлянах. Где они были тогда, когда здесь их не было?
Как много вопросов и как мало всегда ответов! И чем больше живут люди, тем вопросов прибавляется. Что за притча?
Откуда же пришли все эти славяне? Почему они так зовутся? Почему то и дело старые греки звали их, да и нынешние зовут скифами? Каким образом из воинственных, разбойных они стали мирными, незлобивыми? Почему кочевники-болгары так быстро перенимают язык славян, их имена, их обычаи? Чем это славяне так приманили их к себе, что болгарский воин почитает за честь жениться на славянке? Ведь те и другие – язычники, и болгары прикочевали сюда позже славян, и вот теперь, без всякой войны друг с другом, они вступают в какой-то непонятный для ромеев большой семейный союз.
Переселенцы
Но поглядим на ту же панораму не глазами любознательных сыновей друнгария Льва, а из своего далека.
Ещё от стародавних греков и римлян, от Гомера, от Геродота, от Платона с Ксенофонтом, от Горация, Тацита и Страбона унаследовали ромеи страсть к узнаванию племён и народов, населяющих землю. От них же, великих старцев Античности, передавалось представление о том, что греки, а затем и римляне, и ромеи пребывают в самой сердцевине обитаемого мира. Те же, что на окраинах, в баснословной отдалённости от этой обласканной солнцем середины, – чем дальше, тем дичее. Но их на удивление много, и красочной дикостью своих имён, обличий и обычаев они оплетают, как гирлянды, чело срединного мира.
Героям Гомера, приплывшим к земле киммерийцев (Керченскому проливу), показалось в ознобной оторопи, что уж здесь-то солнце никогда не пробивается к земле сквозь тучи. Мрачнейшее место на свете!
Геродот по тому же Понту доплыл чуть дальше – до Днепровского лимана, до Ольвии, видел и описал живых «царских» скифов-кочевников, наслушался легенд о скифах-землепашцах, что обитают к северу от кочевых, о гипербореях, прозябающих где-то в ледяном мраке, о людях одноглазых и людях совершенно лысых, но легендам этим не очень поверил. Всего же в своей «Истории» он описал, пожалуй, не одну сотню разных племён, так что венец из этих имён, благодаря
Геродоту, стал необыкновенно пышным и цветастым. Иногда исследователи Геродота недоумевают: как при всей своей неистощимой этнической любознательности он проглядел на Ближнем Востоке или в Вавилоне племя евреев? А мы добавим: как это он проглядел в Северном Причерноморье предков славян, не догадавшись, что под общим именем скифов тут могли жить народы, вовсе не связанные друг с другом ближним родством?
Средиземноморский центризм, отягощенный имперскими амбициями, передался от Античности и византийцам. Не будем их судить за это слишком строго. Сосредоточенность на своём, на самом близком врождена любому человеку и сообществу. Чужое, стороннее, дальнее всегда представляется источником опасностей, страхов, неуюта и холода. Но и постоянным возбудителем любопытства к роскошному многообразию жизни. В имперском самочувствии ромеев, несмотря на то что они принадлежали уже христианскому миру, оставалось слишком много от римского языческого высокомерия, декоративности, античного европоцентризма. К государствам-соседям и соседним народам продолжали относиться с практическим приглядом: полезно? неполезно? опасно или нет?
После того как между Тирасом (Днестром), Борисфеном (Днепром) и Танаисом (Доном) обосновались воинственные готы, пришедшие с севера, ромеи от скифского захолустья уже не ожидали никакой корысти. Но вскоре и на готов нашлась сила, ещё более тяжкая, и под её давлением они стали пятиться на запад, к Истру (Дунаю) и Балканам.
Осенью 395 года молодой, едва опоясавшийся крепостными стенами Константинополь был, казалось, на волоске от гибели. Из Фракии к столице подступила громадная армия вестгота Алариха. Благодаря переговорам Аларих на город не позарился, зато войска его прошлись по всей Греции до самых Афин, а затем оказались и в Италии. В 410 году вестготы подвергли старый Рим опустошительному разорению.
Не прошло и двух лет, как византийцам пришлось столкнуться с новой небывалой напастью – ордами гуннов. Они шли напролом с востока, откуда-то от Рифейских гор и от Волги, оттесняя готов всё дальше на запад, подминая кочевые и оседлые племена каких-то там гурулов, гепидов, угров, ругиев, хазар, аланов, антов, закручивая их в чёрный, грохочущий копытами и колёсами смерч.
Империи приличествует стоять на своём избранном месте. Она не имеет права свернуться, спрятаться, затаиться. Она призвана оставаться собой до конца – как монумент, обелиск или храм. В V веке население Константинополя уже не умещалось в старых крепостных стенах. Зодчие обнесли вновь возникшие пригороды – от верхнего уголка бухты Золотой Рог до Мраморного моря – свежими каменными башнями и пряслами.
В 447 году полчища гуннов прихлынули почти к предместьям столицы, захватив по пути Филиппополь и Аркадиополь. Прорву эту возглавлял некто Атилла. Византийский писатель Приск, оказавшийся в лагере гуннов в составе посольства, ожидал, быть может, лицезреть могучего красавца, под стать мармидонянину Ахиллу. Перед ним же оказался низкорослый, но широкогрудый человек с приплюснутым носом, узкими глазками и рыжей кудлатой бородёнкой на непропорционально большой голове.
Похоже, вождю варваров город не показался достойным особого внимания. Он полагал, что настоящей столицей империи всё ещё остаётся Рим, и, взяв с византийцев громадный выкуп золотом, поспешил дальше на запад.
Надо было, наконец, показать этим разжиревшим римлянам – площадным болтунам, самодовольным обжорам, грязным извращенцам, ни на что не годным воякам, – что есть на свете сильные, мужественные, свободные как ветер народы, и они вовсе не считают себя обделёнными судьбой из-за того, что не глазеют каждый день на кривлянье мимов или кровавые цирковые потехи. Это сама месть на огненных крыл ах прилетела к надменному Риму – беспощадная, неутолимая.
Тысячи книг написаны в разные века о том, что принято называть «Великим переселением народов». Сотнями причин объясняли эти колоссальные тектонические подвижки населения Земли: всегдашней страстью кочевников к авантюре и разбою, диктатом резких климатических перемен, классовыми противоречиями, воздействием солнечной радиации, Промыслом Божьим, непомерным честолюбием и харизматическим даром предводителей, «охотой к перемене мест», коллективным безумием или коллективным любопытством. Ладно бы перемещались одни кочевые народы и племена. Нет, сорваны были со своих веками и даже тысячелетиями насиженных обиталищ народы оседлых культур!
Как будто любая или почти любая из названных причин имела место. Но даже в сумме своей они не дают достаточного объяснения. Величайший из письменно зафиксированных катаклизмов в истории евразийского континента по-прежнему заставляет недоумённо разводить руками. Как если бы вместо картины океанской бури, заключённой в драгоценную, украшенную позолоченной резьбой громадную раму, мы вдруг обнаружили перед собой те же самые разгневанные, разметавшиеся во все стороны морские валы и носящиеся между ними щепу и обломки этой позолоченной рамы.
Ещё в пору нашествий вестготов и гуннов ромеи не могли не увидеть среди пришельцев и воинов-славян. Другое дело, что ошеломлённым грекам было тогда совсем не до того, чтобы как-то этнически отличать этих варваров от множества других – по одежде, по говору, по вооружению.
И только в VI веке в своей книге «О происхождении и деяниях гетов» уделил наконец-то внимание славянам – склавенам (Σκλαβήνοι, Sclaveni) – римский историк Иордан. Он заметил, что прибывшие из Скандинавии готы, спускаясь от Балтийского к Чёрному морю, – а это случилось, уточним, ещё в III веке, – вошли в соприкосновение с тремя громадными родственными между собой племенами. «…Начиная от места рождения реки Вистулы (так Иордан называет исток Вислы. – Ю.Л.), на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, всё же преимущественно они называются склавенами и антами». Далее Иордан приводит более подробную географию расселения славянских племён: «Склавены живут от города Новиетуна (предположительно, на правом берегу Савы. – Ю. Л.) и озера, именуемого Мурсианским (предположительно, Балатон. – Ю. Л.), до Данастра (Днестра. – Ю. Л.), и на север до Висклы (всё той же Вислы. – Ю. Л.); вместо городов у них болота и леса. Анты же – сильнейшие из обоих племён – распространяются от Данастра до Данапра, там, где Понтийское море образует излучину; эти реки удалены одна от другой на расстояние многих переходов». Сообщение Иордана заставляло вспомнить, что о неких венетах, живших восточнее германцев, упоминал ещё Тацит. А об энетах, что обитали даже на северном побережье Адриатического моря, – сообщал ещё Геродот.
Но то были очень уж старые свидетельства. А свидетели новейшие – Иордан, а вслед за ним грек Порфирий, – со своими сведениями о славянах весьма припозднились.
Нет, не с книжных страниц славяне впервые предстали ромеям. Объявились без всякого предупреждения, врасплох, будто из-под земли вдруг с воплями прыснули! И в таком неисчислимом множестве, в таком яростном напоре, что невозможно было представить, чтобы они жили где-то веками, не подвергаясь ниоткуда беспокойствам и сами никого не беспокоя.
И всё же, как подумать, именно последнее больше походило на правду: их откуда-то из отеческих и праотеческих краёв воинская буря вырвала с корнем, с семьями, детьми и стариками, с наспех собранным скарбом, с табунами и стадами, с мешками жита, проса и овса. И они заметались, освирепели, сколотились вперемешку с теми же готами и гуннами в орды, шайки и стали жадно шарить глазами туда и сюда, выискивая пустующие поля и леса, где бы снова можно было отдышаться, пустить корни, заняться старинным своим делом: пахать, сеять, жать, валить деревья, варить меды.
Но, выйдя однажды из своего извечного уклада, как же непросто было к нему теперь снова вернуться! Стоило отвалить куда-то на запад вестготам, как подоспели гунны. Только рухнула, рассыпалась, как прогнивший мех, гуннская орда, а из причерноморских степей уже накатили авары. А там и болгарские ханы объявились, и им тоже, как и гуннам с аварами, захотелось воевать против ромеев. И опять – при поддержке славянских племён. Не то чтобы славяне были такие уж паиньки или простаки, чтобы их кто-то, более задиристый и жадный, подбивал постоянно на кровавые затеи. Но сто, двести лет беспрерывных военных предприятий переродят кого угодно.
Византийские хроники VI–VII веков запестрели сообщениями о новых и новых вторжениях славян в северные пределы Византии. В 551 году, перейдя Дунай, они захватили Ниш, город, где когда-то родился Константин Великий, устремились оттуда на юг и в первый раз серьёзно угрожали Фессалоникам. 581 годом пометили летописи их второй приход из Паннонии и Далмации в пределы Македонии – с новой угрозой Солуни. Автор VI века Иоанн Эфесский так сообщал о том вторжении: «И прошли они стремительно через всю Элладу, по пределам Фессалоники и Фракии всей. Они захватили много городов и крепостей; они опустошали и жгли, и захватывали в плен, и стали властвовать на земле и живут на ней, властвуя, как на своей собственной, без страха, в продолжении четырёх лет».
Да где там четырёх! В том же десятилетии отряды славянских военных переселенцев из Македонии спустились в Фессалию, Аттику, добрались до Коринфа, проникли на Пелопоннес, в область древней Спарты, повсеместно оседая на прочное жительство, давая свои наименования сёлам и урочищам. И ещё 200 лет после этого византийский Пелопоннес будет объясняться по-славянски.
Почти на исходе того века, в 597-м, теперь уже совместно с аварами, славяне снова пытались взять штурмом Солунь. «…Они приготовили осадные машины и железные бараны, огромные камнемётные орудия и так называемые черепахи, покрыв их сухими кожами; потом, переменив намерение, чтобы те не повреждены были горячей смолою, употребили кожи недавно убитых быков и верблюдов, прикрепя их к машинам гвоздями… стрелки их метали стрелы подобно зимним облакам», – писал очевидец.
В «Книге чудес святого Димитрия» говорится о том, что небесный покровитель Солуни ещё не раз и не два спасал город от нашествий язычников. Но разве не большее чудо состояло в том, что молитвами святого Солунянина славяне, в конце концов, расселившись в окрестностях города, вернулись к мирному труду своих прадедов?
Ромейские императоры пусть не сразу, но сообразили, что с разбойными славянами можно и нужно входить в общение. Только не на языке молитв, а на грубом, зато легко понимаемом языке взаимной корысти. Юстиниан Великий ещё в 546 году отправил к антам посольство с увесистым багажом золота и подарков. Славянским князьям-архонтам было предложено перейти на постоянную, щедро оплачиваемую военную службу империи и охранять отныне границу по Дунаю от гуннов. Бытует предание, что сам Юстиниан, родившийся в крестьянской семье в Иллирии, был славянином и в детстве носил имя Управда. Так это или нет, но славнейшему из василевсов Византии славянские вторжения из-за Дуная доставляли слишком много хлопот, чтобы не искать способов переманить их на свою сторону, пусть и таким ненадёжным средством, как деньги. Впрочем, среди наёмников в его войсках были и отряды гуннов.
Живший уже в X веке император Константин Багрянородный в своём историческом трактате сообщает, что попытки как-то приручить славян предпринимали и преемники Юстиниана Великого, в частности Ираклий I.
Последнему, действительно, удалось успешно расселить в обезлюдевшем из-за беспрерывных нашествий Иллирике славянское племя сербов. Предполагалось, что они станут здесь надёжным заслоном против аварских каганов. Возможно, Ираклий воспользовался донесением о том, что где-то к северу от Дуная тамошние славяне, возмущённые притеснениями со стороны пришлых авар, подняли восстание. Во главе его стоял некий вождь по имени Само. Этот решительный архонт вроде бы даже замышлял создать свою славянскую империю.








