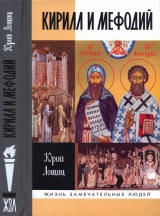
Текст книги "Кирилл и Мефодий"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Под этим нигилистическим углом зрения, языческая, дохристианская Русь есть земля, пребывающая в невежестве и первобытной дикости. Её разрозненные племена напрочь лишены побуждений к государственному строительству и культурному самопроявлению, в том числе к созданию хотя бы зачатков собственной грамоты. А уж тем более к переводу с греческого языка на свой язык (некультурный, варварский и дикий) Евангелия и Псалтыри.
Выходец из дореволюционной России, литературовед широкого диапазона Р. Якобсон и французский славист А. Вайан в один счастливый для себя день как-то легко и остроумно сошлись на том, что «русские письмена» своим происхождением обязаны всего лишь… обыкновенной описке. Допустил её, описку, некий безымянный русский грамотей, который, готовя какую-то по времени написания очень раннюю копию «Жития Кирилла» и держа перед собой в качестве образца некую обветшавшую рукопись, или невнимательно, небрежно прочитал в ней одно слово, или ошибочно его записал. Так вместо «соурскыми» (то есть сирийскими) у него и получилось «роусьскыми».
И вот так, благодаря шутливому предположению Якобсона и Вайана, народилось одно из популярных гиперкритических изделий интернациональной филологии XX столетия[6]6
См.: Vaillant A. Les letters russes de la Vie de Konstantin-Kirille // RES. XV. 1935; Jakobson R. Saints Constantin et la langue siriaque // Annuaire de PInstitut de philology et l'Historie Orientates et Slaves. VII. 1939–1944.
[Закрыть].
Прежде чем коснуться, как теперь принято говорить, «доказательной базы» двух учёных, заметим лишь, что сама по себе предпосылка их версии (наличие злосчастной описки) навсегда уже обречена остаться под вопросом. Ведь таковую описку никто никогда не видел – ни на пергамене, ни на бумаге, ни в фотографическом воспроизведении утраченной оплошки. Описка существовала лишь в воображении авторов версии, в качестве игры исследовательского ума и в качестве желаемого факта. И потому как инструмент доказательства – вспомним научное правило «неподтверждённое сообщение не есть факт» – виртуальная описка явно недостаточна.
Вообще-то, раз уж разговор коснулся описок, то, увы, они в работе древнерусских грамотных людей, занимавшихся нелёгким ремеслом изготовления новых рукописных книг, случались нередко. Это объяснялось и степенью выучки писцов, не всегда достаточно высокой, и суровыми условиями труда (чаще всего в маленьких монастырских, не очень хорошо прогреваемых помещениях, при свете свечей или лучин). Но за описками строго следили, чаще всего они исправлялись тотчас или через время. Не зря же называли их ещё и «огрешками». Невелик, но всё равно грешок. Надо смыть-стереть чернильную оплошку, вписать новые буквы.
«Житие Кирилла» с первого же века появления на Руси славянских книг было одним из самых распространённых чтений в монастырях, городских храмах, на дому. Это подтверждается немалым числом сохранившихся до нашего времени списков памятника – 23 рукописи. (Для сравнения следует напомнить, что такое выдающееся творение древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве», уцелело лишь в одной рукописи, да и то сгоревшей в 1812 году.)
«Найдя» желаемую описку, Якобсон и Вайан обязаны были представить доказательства. Первое свелось к тому, что раз уж Константин, готовясь к предстоящему у хазар диспуту, изучал в Херсоне еврейское и самаритянское письмо, то могло ему понадобиться знание ещё одной семитической письменности, сирийской.
Это совершенно избыточное предположение. Философ ехал в Хазарию вовсе не для того, чтобы блистать перед провинциальными иудеями своим знанием самаритянского и сирийского языков (сами хозяева вряд ли знали или жаждали их услышать). Он и на иврите не собирался с ними спорить. Он, напомним, готовился выступать по-гречески.
Братьям было, конечно, хорошо известно, что сирийская христианская община Дамаска самой первой на всём Востоке открыто заявила о своём исповедании. Здесь первыми усвоили себе имя христиан. И потому именно к ним первым из Иерусалима устремился фарисей Савл, уполномоченный выжечь дотла опасную заразу. Но Сын Божий на окраине Дамаска, явившись распалённому гонителю, так сурово одёрнул Савла, что тот на время ослеп от пережитого потрясения, а немного позже, в подземелье дамасской общины вновь прозрел, чтобы стать впоследствии великим Христовым воином, апостолом Павлом.
Знали братья и то, что сирийский был вторым языком после греческого, на котором появился перевод Ветхого Завета (так называемая Пешитта). Уже во II веке зазвучало на сирийском и Евангелие, причём учёный муж Тациан, предпринявший перевод, составил, по своему вдохновению, сводную композицию – последовательное согласование из четырёх евангелистов. К концу III века в сирийской Антиохии трудилась уже целая школа по изучению и систематизации книг Ветхого и Нового Завета. Возглавлял её знаменитый Лукиан, собиравший старые греческие, латинские и сирийские рукописи, чтобы на их основе составить новую, безупречно выверенную греческую редакцию библейского текста.
В патриаршей библиотеке Константинополя книги с сирийскими переводами должны были храниться на почётных местах, по крайней мере со времён Иоанна Златоуста, который сам был выходцем из Сирии. Если Константин-библиотекарь имел время для знакомства с этими памятниками сирийского православия, он не мог не столкнуться сразу же с одной из отличительных особенностей сирийского семитического письма: оно обходилось без гласных букв, что, как и в случае с еврейским письмом, чрезвычайно затрудняло распознавание смысла отдельных слов. Позже, в течение многих веков в системах финикийского, арамейского, сирийского, еврейского и арабского письма производилась кропотливая, подчас мучительно трудная работа по узаконению дополнительных надстрочных или подстрочных значков, подсказывающих читателю тот или иной гласный звук. Но самих гласных букв в этих языках так и не появилось.
Несмотря на этот грубый изъян, «сурская» версия вроде бы подкрепляется сообщением из «Проложного жития» Кирилла: «И четырьми языки философии научився: еллински, римски, сирски, жидовски». Но как только мы представим себе, что Философ в достаточной мере знал сирийскую письменность и имел достаточный опыт для беседы на сирийском языке, версия Якобсона – Вайана начинает рассыпаться на глазах. Ну зачем понадобилось бы Константину морочить публику, если он письменность «сурскую», приехав в Херсон, уже знал? А если ещё не знал ни письменности, ни разговорного языка, то мог ли он свободно беседовать с хозяином книг о их содержании? И что внятного мог ему сказать «сириец» о гласных буквах?
Появившись в облике филологической шутки, «сурская» гипотеза не могла не породить в среде намагниченных гиперкритицизмом исследователей тягу к подражаниям в таком же тоне. Кому-то показалось, что на самом деле речь нужно вести не о «сурском», а о «фрузском», то есть «франкском», а значит, латинском алфавите. (Опять переписчик оплошал?!) Было предложено вместо «сурских» читать «узкие» письмена, то есть алфавит неведомо какого происхождения, но записанный какими-то очень узкими по внешнему виду буквами. (Тут снова досталось русскому писцу-ротозею!) В свой черёд появилось и предположение о том, что вообще весь рассказ жития о «роусьскых» буквах есть не что иное, как интерполяция, то есть волевое внедрение какого-то очередного переписчика в старый житийный текст с намерением оживить его небывальщиной.
Пора уже напомнить: в собственно русской исторической традиции никаких сомнений в «русскости» Евангелия и Псалтыри, обнаруженных в Корсуни зимой 861 года, не возникало. А она, эта традиция, заявила о себе с середины IX века, когда восточные славяне разных племенных союзов и стали самоопределяться под общим над-племенным собирательным именем «Русь». «Мы есмо Русь», – твёрдо и недвусмысленно сообщил о состоявшемся акте такого свободного самоопределения первый или один из первых по старшинству авторов «Повести временных лет». И здесь же уточнил для уразумения всех: «…А словеньскый язык и рускый одно есть».
«Мы есмо Русь»… Такие оценки и выводы никак не могли попасть в «Повесть…» на поздних этапах её редактирования. Они относятся к самым первым обобщённым опытам национального самоопределения и летописного дела на Руси. Уже Константин и Мефодий в 861 году, после знакомства с «роусьскыми» книгами, имели возможность подтвердить определение «народ Рос», данное патриархом Фотием, и сказать, что этот народ и «словеньскый язык» «одно есть».
Та же самая традиция через столетия заявляет о себе в «Русском Хронографе» 1494 года:
«…Грамота рускаа явилася, Богом дана, в Корсуни русину, от неяже научися философ Константин, и отуду сложив и написав книгы русским языком…»
Может показаться, что стародавний историк слишком спрямил здесь картину происшедшего. Не имея в руках книг, которые даны были на прочтение Константину, мы не можем судить о том, в какой именно степени знакомство с ними повлияло на дальнейшие славянские труды братьев. Мы лишь знаем, что труды эти уже были начаты ими на Малом Олимпе. И потому предполагаем: знакомство с «русином» и его сокровищами должно было стать сильнейшим побуждением, чтобы продолжить начатое, черпая встречный опыт со страниц корсунских Евангелия и Псалтыри.
Кому-то спрямлением может показаться и вывод, что Константин «написав книги русским языком». Но автор «Русского Хронографа» в конце своего XV века знал не хуже нас, что «словеньскый язык и рускый одно есть». К тому же спустя более шестисот лет после описанного им события он не мог не слышать ежедневно, стоя за службой в церкви, что старославянский язык кирилло-мефодиевских переводов остаётся наиболее близким по смыслу и звучанию именно его живому русскому языку, в то время как многие славяне Запада уже говорят и пишут сильно по-другому.
Таково «спрямление», произведённое самой историей. В XIX веке об этом авторитетно напомнил в своих историко-филологических этюдах выдающийся языковед и исследователь древнерусской письменности А. X. Востоков: «К какому бы диалекту первоначально ни принадлежал язык церковных славянских книг, он сделался теперь как бы собственностью россиян, которые лучше других славян понимают сей язык и более других воспользовались оным для обогащения и для очищения собственного своего народного диалекта».
В XIX и XX веках русская историческая и филологическая традиция в оценке «роусьскых писмен» как безусловно славянских обогатилась наблюдениями целой плеяды видных отечественных учёных. Среди них И. И. Срезневский, А. С. Будилович, М. И. Сухомлинов, А. Ф. Гильфердинг, В. И. Григорович, Н. К. Никольский, В. А. Истрин, П. Я. Черных, болгарин Е. Георгиев…
Климент
Живя на Малом Олимпе, они с Мефодием только-только пробовали, подзадоренные просьбами учеников, передавать по-славянски самые насущные молитвы, изречения из Евангелия, из псалмов. И делали это почти сокровенно, без широкой огласки, опасаясь слишком занестись в своих дерзаниях, впасть в самонадеянность при виде удачных, как им казалось, начатков. А сегодня в Корсуни на их ладони легли тяжёлые, как золотые слитки, воплощения чьей-то великой отваги, завидного своими плодами труда. Должно быть, изнуряющего труда, но и вдохновенного, потому что одним изнурением, без помощи свыше такие глыбы разве поднять? Значит, кто-то по-настоящему дерзнул! Кто-то воздвигся духом, не дожидаясь, пока где-то ещё расшевелятся, решатся на подобное.
Жития братьев о их переживаниях этого дня молчат. Можно только догадываться, что великим множеством вопросов озадачили они хозяина книг. А уж на какие смог и захотел тот ответить, Бог весть. Откуда у него рукописи? Здесь ли, в Корсуни написаны или привезены издалека? Были у него ещё какие-то книги или только эти две? Знает ли он хоть что-то о человеке или о людях, которые трудились над переводом с греческих книг? Делалось это для церковной общины или по заказу какого-то важного лица? Не согласится ли он продать им книги? Если же нет, то не даст ли их на время, чтобы внимательнее прочитали и сделали для себя списки с той и другой?
Вот и опять судьба апостольского «скифского жребия» всколыхнула их воображение своей недосказанностью. Не камнем ли тот жребий ушёл навечно в пучину? И вдруг море возвращает его – в облике двух этих книг-ковчегов…
Из путевых записей монаха Епифания явствовало только, что Первозванный в Херсоне побывал. Но, похоже, у самого Епифания отношения с херсонянами не сложились и он от них не услышал об апостоле ничего достаточно внятного. А потому записал лишь, что Андрей провёл в городе многие дни, прежде чем отбыл в Боспор Киммерийский. Но «многие дни» – величина слишком зыбкая. Удалось ли Андрею собрать здесь общину стойких последователей? А если не в Таврике, то где ещё? «Жребий» – тоже величина слишком текучая, неподвластная точным замерам.
Понтийские греки самой старой христианской общиной и самой древней епархией в этих пределах считают не Херсонскую, не Готскую или Сурожскую, а епархию Томитанскую. До неё же из Херсона нужно идти морем на северо-запад – до устья Дуная, до города Томи. Если бы о подобном шествии Первозванного в сторону Дуная и Томи было хоть словцо у самых ранних историков церкви! Нет ни звука и у Епифания. А между тем ещё римляне времён империи знали Томи как город, окружённый отовсюду скифским населением, причём не кочевым, а оседлым. Скифом по происхождению был и томитанский епископ Феотим, который подвизался здесь при Иоанне Златоусте. Именно им, соплеменникам Феотима, собирался Златоуст помочь, отправив за Дунай наставников веры. Но это было всё-таки тремя веками позже Андрея. А тогда, при апостоле?..
Нежданно в том же январе 861 года, когда братья прибыли в Херсон, местные жители паче меры разволновали их вестью, касавшейся самых что ни на есть достоверных апостольских времён. Хотя и не о Первозванном возникла речь, но о том, кто жизнью своей и служением впрямую соприкоснулся с апостольскими трудами Петра, Андреева брата. Это был Климент, папа Римский, духовный сподвижник и восприемник Симона Петра, один из первых писателей церкви. Тот самый Климент, чьи послания к коринфянам, как знали Мефодий и Константин, в монашеской среде ценились наравне с посланиями апостола Павла. Слышали они и о ссылке, о мученической кончине Климента. Не догадывались только, что эти события херсоняне упорно связывают со своим городом и его окрестностями. С каменоломнями, где Климент надрывал жилы наравне с другими рабами. И с одной из бухт полуострова, где на малом отоке-островке он был погребён.
Говорили даже, что на берегу у той бухты когда-то стоял целый город и он, по слухам, древностью не уступал Херсону, а может, и превосходил его. И что его обитатели до поры чтили память мученика и на месте погребения соорудили склеп и часовню. А кто считает, что не часовня, а церковь там стояла, и не люди её, но ангелы воздвигли. Только теперь там пустота. Город обезлюдел в час какого-то нашествия варваров, – много их тут пропылило! – от часовни лишь груда камней осталась, да и ту теперь не сыскать, потому что море с тех пор прилило и затопило малый островок.
А что за бухта, далеко ли до неё?
Бухта отсюда самая дальняя, за нею – мыс, угловая скала всей полуостровной стены. Как добраться до бухты? Можно посуху, но можно и вплавь. Было бы желание. Только кто туда пожелает соваться? Делать там нечего. Ни острова, ни города. Как не стало отливов, так и остров не появляется.
Слушая такие невнятные объяснения, можно было удивляться не только завидной живучести предания, но и отсутствию у рассказчиков хоть какого-то порыва к действию. Нельзя же ссылками на варваров да на морские приливы оправдывать своё маловерие! Если известно место святого, как не отправиться туда немедленно, испросив перед этим у него самого помощь?
В те самые зимние месяцы, когда братья жили в Херсоне, здесь же пребывал, правда, не по своей воле, смирнский митрополит Митрофан, сосланный в Таврику патриархом Фотием как слишком деятельный «игнатианец». Видимо, условия ссылки оказались для этого византийского иерарха не очень суровыми. По крайней мере, он неоднократно встречал в городе и окрестностях младшего солунянина, увлёкшегося поиском места погребения Климента. По свидетельству Митрофана, записанному позже, Константин Философ «стал внимательно разведывать, где храм, где гробница, где те знаки блаженного Климента, которые точно определялись в памятниках, о нём написанных. Но все жители того места, будучи не туземцы, а пришельцы из разных варварских народов, даже лютые разбойники, уверяли, что ничего не знают о том, что он говорит; Философ, удивлённый этим, предался молитве и долго просил Бога объявить ему мощи и святого объявиться ему. Он поощрял также спасоносными внушениями епископа с клиром и народом на действие, показав им и прочитав, что в множестве книг передавалось о мучении, что о чудесах, что о сочинениях блаженного Климента и что в особенности о постройке храма, находившегося где-то недалеко от них, и о положении самого святого в нём же; он глубоко воодушевил всех в раскопку тех берегов и на разыскание столь драгоценных мощей святого мученика и апостолика…».
В этом свидетельстве Митрофана впечатляет обилие и разнообразие документов, которыми Философу удалось разжиться, прежде чем он убедился сам и убедил-воодушевил архиепископа Георгия, священнослужителей и прихожан Апостольского собора приняться за работы, напоминающие своей тщательностью археологические раскопки.
Хотя в «Житии Кирилла» о поиске останков Климента сказано совсем немного, агиографы, закончив рассказ картиной торжественного внесения мощей в город, сообщают, словно тем самым оправдывая свою немногословность, что есть ещё и отдельное сочинение Философа об «обретении».
Почему это «Сказание об обретении мощей святого Климента» оказалось вне рамок жития, не вошло в его состав хотя бы на правах приложения? Дело не в том, что Философ написал его по-гречески. Оно никак не укладывалось в житийный канон, потому что Константин написал его так, словно ни он, ни брат его вообще не участвовали в событии. Ведь на самом-то деле это именно он встряхнул, поднял на ноги весь город, поселил в херсонянах уверенность в том, что поиски не напрасны. Это он попросил клирошан соборного хора разучить только что написанные на его слова песнопения, прославляющие святомученика. Это по его просьбе хористы, не боясь застудить горла, взошли на корабли и ночью вместе со всеми отправились в сторону отдалённой бухты. Это он с братом Мефодием давал нужные наставления молодому херсонскому стратигу Никифору, от которого зависело нарядить на раскопки выносливых горожан из каменщиков, рыбаков да и всех других, кто пожелает потрудиться для Христова праведника, не боясь ступить в холодную воду, на скользкие камни.
Это он, а не кто иной, как канонарх или регент, заранее предложил и расписал последовательность всех предстоящих действий. И потому он намеренно не допустил в свой рассказ об обретении мощей ни себя, ни брата. Они, как и все остальные, безымянные, только исполняли. Воля же была не их, но самого Климента, благоволившего состояться этому прославлению.
Уже после кончины Константина «Сказание об обретении…» стало, благодаря переводу, сделанному Мефодием, распространяться в славянской среде. К счастью, оно дошло и до нас в нескольких древнерусских рукописях и в этом своём почти первородном облике помогает перенестись в сокровенную и таинственную атмосферу предпоследней январской ночи 861 года.
Городскую пристань покидали с пением, обращенным к самому святому, прося его, чтобы не погнушался ими, не возвратил назад посрамлёнными и безутешными:
Не отврати нас посрамлены, Клименте,
верою припадающих к твоему гробу…
Кажется, не одни люди, но и стихии неба и земли, возбуждённые необычностью происходящего, бодрствуют и напрягают все свои силы. Когда почти вслепую вошли в бухту «блаженного отока», мрак рассеялся, «…и се внезапу, помощию святаго Климента, разидошася облаци, просвещена же бысть луна, просвещен же аер, и вкруг ея бысть светло сияние».
С новой радостной силой возобновилось пение. Ступили на каменистый берег. В лунном сиянии отчётливо обозначился полузатопленный островок. По нему уже ходили во множестве люди, кто посуху, кто по колено в воде. На ощупь проверяли камни, выискивая те, что со следами облицовки. Оттуда изредка кто-то сообщал: разбирают завалы… ищут склеп, вход в него…
Но также внезапно луна пропала, «облаци же беша густи, нападающе от южныя страны отока…». Такая привычная для самого неуютного времени года перемена к очередному ненастью. Местным ли жителям не знать этих небесных лихорадок? Но теперь и в самой малой из перемен подозревалось недоброе знамение. Как же легко душу, настроившуюся на радость, довести до трепета и слёз! Как быстро в неуютной этой каменной пустыне теряется надежда и человек впадает в искушение!
В ночи вдруг опять всё переиначилось. «Облачная густыня, на северьскую страну зашедше, ясно небо и прозрачно яви за темноешь…» И звёзды высыпали, обильные, пронзительные, сладко жалящие: бодритесь! А на земле, перекликаясь с их полыханием, трещат факелы, свечи греют озябшие ладони. Пение то еле теплится, то пребывает в звонкости, перебарывая усталость слишком долгого ожидания.
«В печали же нам сущем, зане мног час преиде и ничтоже явися».
Напрягается всё естество стоящих на суше. А что говорить о тех, кто внизу, посреди камней, в воде, в беспрерывном поиске?..
Не отврати же нас посрамлены, Клименте!.. Явись нам, утешь напоследок.
Уже и утренняя звезда проступила на севере, когда кто-то от острова хриплым воплем завопил:
– Радуйтеся, отцы и братья!.. О Господи!..
Все, кто на берегу и кто в воде, замерли, будто не веря своему слуху. А он снова провопил:
– Отцы и братья, радуйтесь!.. Явился…
«Радуйтеся, се бо блаженная глава якоже солнце светло из глубины ада возсия нам!»
И потом, как только вынесли на сушу ковчег с мощами, все прихлынули, чтобы лобызать эти бисерообразно светящиеся главу, руки, бёдра – чистые и твёрдые, не поддавшиеся тлению святыни.
«Славословие же Божие непрестанно бысть всю нощь до подобного часа бескверныя жертвы и приношения Христа Бога нашего».
Архиепископ Георгий после отслуженной здесь же литургии сам на своей главе понёс ковчег с мощами на корабль. Когда залив остался за спиной и вышли в море, на расстояние десяти стадий от острова увидели, что весь город высыпал на берег и движется им встречно во главе со стратигом Никифором. Но пока высадились здесь и вместе дошли до городских стен, уже и вечер подступил, так что ход длился при огнях, под непрерывное пение посвященных Клименту стихир. На ночь ковчег оставили в подгородной церкви Святого Созонта. Утром шествие возобновилось, обтекло все городские церкви и напоследок замерло у распахнутых врат кафедральной базилики. Как верного своего брата и сподвижника во Христе приняли Климента первоверховные апостолы Пётр и Павел…
Похоже, рассказ об обретении мощей записан был Философом стремительно, в один присест, сразу же после события. Всё пережитое в последние недели, дни и ночи, с той самой поры, когда братья вдруг услышали про островок в отдалённом заливе, затем взятые им на себя чрезвычайные заботы, поиск книжных подспорий, поездки на место предполагаемого розыска, писание в самый сжатый срок стихов для песнопений в честь святомученика, наконец, только что пережитое сильнейшее волнение необыкновенной, поистине чудной ночи, с её мраком, холодом, резкими сменами ветров, каким-то ликующим сиянием светил, чередованием в душе каждого из них неуверенности и надежды, смятения и радостной оторопи, и торжествующий вопль, хриплый, как голос самого раннего петуха, «О Господи!.. Отцы, братья!..» – всё-всё это настолько переполняло его, что невыносимо было и дальше удерживать в себе…
Пройдёт немногим более ста лет. Из кафедрального собора Херсона-Корсуня отбудет на Русь, в Киев, часть мощей святого Климента. Отбудет как самая первая святыня для только что народившейся Русской церкви. Этими мощами укрепятся алтарь и главный престол Десятинной церкви, самой тогда большой и «украсно украшенной» в городе и в целой державе князя Владимира. По высшей справедливости особое почитание памяти Климента на Руси утвердится одновременно с почитанием двух братьев родом из Солуни.
…Беспокойные валы морские, бугрящиеся под берегом. На самой его кромке замерли в напряжённом ожидании люди. Чуть впереди всех – двое. Крепкие, не старые видом мужи. Но оба уже с сильной проседью в густых кудрях и бородах. Это они – Мефодий и Константин-Кирилл. Самое раннее из их сохранившихся изображений. Древний миниатюрист-книжник решительно сблизил пространства, поместив за спинами собравшихся город с крепостными башнями и стенами. И крышу базилики, в которую отсюда отнесут ковчег с мощами. Но это ещё будет. А сейчас – великое напряжённое чаяние, горящие свечи, накренённые на ветру огни факелов. И посреди крутобоких волн – скалоподобный камень-ковчег, явленный из пучины на великую радость тем, кто не ослаб в вере.








