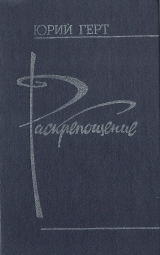
Текст книги "Раскрепощение"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
И через два дня снова кладет мне на стол короткую информацию.
Но однажды...
Я теперь уже не помню, с чем именно это было связано, что, собственно, так повлияло на Политанского,– да это и не важно, в конце концов. Может быть, наш разговор под дождем, может быть, насмешливые взгляды Наденьки, может быть, вся атмосфера нашей редакции, в том числе и два выбитых Мишиных зуба,– тогда Политанский особенно явно почувствовал, что нельзя и дальше оставаться как бы вместе с нами – и отделываться информашками на подверстку и застенчиво-сладостными улыбочками из угла дивана.
А случилось вот что.
Некоторую часть своего рабочего (да и не только рабочего) времени Миша Курганов посвящал прогулкам вдоль двора, на который выходили задние двери одного из крупнейших в городе магазинов. Кроме грузовых машин, сюда часто подъезжали «Москвичи» и «Волги». Пока Миша разговаривал с шоферами и угощал их отличными болгарскими сигаретами «Дерби», в машины крупными партиями грузили дефицитные продукты. Когда «Волги» и «Москвичи» элегантно разворачивались, Миша провожал их долгим взглядом и запоминал номер. Вскоре от дежурства во дворе Миша перешел к более интимному знакомству садминистрацией магазина и ее широкой и разнообразной деятельностью. Он убедился, что номерные знаки – только деталь, частность, хотя и бросающаяся и глаза. То, что в глаза не бросалось, а совсем наоборот,– находилось где-то между пятью и десятью годами тюремного заключения, если верить уголовному кодексу, который Миша Курганов из профессионального любопытства не преминул полистать. Однако директор магазина был уверен в себе и в своей популярности среди номерных знаков, поэтому, тронутый видом Мишиной шинели образца восемнадцатого года, он, разумеется, с глазу на глаз – ласково и в то же время деловито предложил Мише взятку, предложил так, что Курганов только спустя час после беседы сообразил, о чем, собственно, велась речь. Однако для неотразимого фельетона ему не хватало кое-каких фактов, и он как раз об этих фактах размышлял, когда поздним вечером какие-то странные личности, то ли в самом деле пьяные, то ли притворявшиеся пьяными, подкараулив его у самого дома, выбили ему два зуба и вдобавок порвали знаменитую комиссарскую шинель. Миша не заметил в темноте нападавших, но запомнил, что деловитый и заботливый директор популярного магазина между прочим намекал на какие-то неприятности, которые иной раз случаются с молодыми фельетонистами.
На другой день трубный клич «К оружию!» грянул над редакцией. Телефонные трубки касались рычажков, чтобы сейчас же взлететь к чьим-нибудь губам. Двери хлопали, едва не срывая косяки. Мы стягивали силы «легкой кавалерии», поднимали ОБХСС, дружинников, общественных контролеров. Миша Курганов плевал розовой слюной и высвистывал «Марсельезу».
Среди всего этого шума, звона и рыка потерянно слонялся Политанский. Он все порывался сходить в аптеку за кровоостанавливающей ватой и раздобыл где-то – специально для Курганова – две пачки невиданных японских сигарет. В этот день он принес информацию о лекции на тему «В человеке должно быть все прекрасно», состоявшейся в каком-то клубе, но даже не протянул мне, а сунул в ящик стола, бормотнув: «Как-нибудь потом вы посмотрите...» Он пытался выразить сочувствие потерпевшему и принять участие в грозной суете, но всем только мешал, и все-таки не уходил, испуганно и робко появляясь то в машбюро, то в кабинете редактора, где по всем правилам военного искусства разрабатывался план разведки боем и следующего за ней генерального сражения.
Мне, как и всем, было не до него – ни в тот день, ни назавтра...
А потом он пришел к нам опять и с медлительностью, в которой ощущалась некоторая торжественность, достал из портфеля лист бумаги стандартного формата и молча положил передо мной.
Он бы не был, однако, Политанским, если бы утерпел, пока я дочитаю до конца. Поерзав на стуле, он сказал, едва я пробежал несколько строк:
– Видите, я все-таки решился.
Да, он действительно решился.
То есть, если бы я не знал Политанского, я и внимания бы не обратил на эту заметку – ежедневно мы получали десятки подобных,– но в том-то и дело, что я знал Политанского, знал, чего она стоила ему.
В заметке не было ни слова о директоре Дома культуры. В ней просто говорилось, что кружковцы – ребята с завода горно-шахтного оборудования – поставили своими силами пьесу, и вот теперь у них нет ни декораций, ни костюмов. И все. Конечно, даже не косвенный, а прямой упрек дирекции тут содержался, но столь робкий, столь нерешительный, что гневной инвективой здесь и не пахло. И все-таки... Все-таки!..
Я вычеркнул три первых абзаца, в которых толковалось о значении самодеятельности вообще, придумал хлесткий заголовок и положил материал на машинку.
Политанский разгуливал по редакции в тот день почти не сутулясь, разговаривал со значительным и несколько таинственным видом, и на него посматривали удивленно, а когда он выходил в соседнюю комнату – посмеивались и острили. Он и вправду был немного смешон, особенно, когда, остановившись около Курганова, дописывавшего фельетон, советовал, поднимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть через плечо:
– Вы их покрепче, Миша, покрепче! Вы их разделайте как следует!.. Подумайте, бесстыдство какое!
Он постоял перед Наденькой, помолчал, и когда она, нетерпеливо дернув плечиком, посмотрела на него, заложил руки за спину и сказал:
– Вот так, милая Надюша, вот так!
– Что с ним творится? С нашим Политанским? – встревоженно спросила она, поймав меня в коридоре.
– Надо верить в людей, старушка! – ответил я злорадно.– Надо верить!
Когда принесли отпечатанную на машинке заметку, Политанский прочитал ее раза три с первой строчки до последней.
– Вам нравится, как написано? – спросил он.
– Гораздо лучше, чем все, что вы приносили раньше.
– Да,– сказал Политанский.– Да. Я и сам это чувствую.– Он нахмурился.– Знаете, что он мне ответил, когда я ему сказал, что нам требуются костюмы и декорации? Он мне сказал: «Не морочьте мне голову всякими пустяками!» И это после того, как мы полгода работали, и ребята прибегали на репетиции прямо со смены, даже не успев поесть... Вы понимаете?.. И он говорит: «Не морочьте мне голову всякими пустяками!». Ведь это же безобразие? Ну, как вы думаете, это не безобразие?
– Я думаю, что это безобразие.
– Вот именно! И он – знаете, на что он надеется? Он надеется, что Политанский все стерпит! Что Политанский и его ребята все стерпят, а он по-прежнему будет себе крутить танцы и перевыполнять план! Вы понимаете?
«Политанский негодует» – вот как назвал бы я этот день. Даже прилизанные его волоски как-то поднялись хохолком на затылке, и было оскорбленное что-то, взъерошенное и серьезное в его фигурке, и только заметив посмеивающиеся взгляды вокруг, он на секунду подбирался, как вспугнутая улитка, и тут же снова – и еще громче и сердитей – начинал негодовать, и голосок его, и без того тонкий, резал всем уши.
Правда, его несколько покоробил заголовок, он долго не сводил с него глаз, и я ощущал, какая жестокая борьба разгорается в нем в ту минуту – жесточайшая!
Ведь в самом деле, я превосходно понимал, как, может быть, воспримут эту маленькую заметку там, в небольшом коллективе, где он работал. Как, может быть, его директор, хам и хапуга, но – перевыполнение плана! – на хорошем счету у начальства, как он обрушится на него, обвинит в доносительстве, наушничестве, подрыве авторитета и черт знает в чем еще,– или даже не обвинит, а – еще хуже – начнет строить всякие козни, мстить мелко и умело, а потом не столь уж трудно будет изобрести предлог и подвести его под, скажем, сокращение штатов; как вся жизнь его может перевернуться опять – и из-за чего? На сей раз из-за заметки, которую написал он сам... Ведь вот на что он шел и понимал, на что идет, и я понимал тоже, и даже не на другой день, когда он появился, чтобы забрать свою заметку, а в тот самый раз, когда он только принес ее, когда перечитывал ее вновь и вновь и все застревал на заголовке и слегка поеживался весь, поеживался и мутнел глазами,– а тот раз уже мне захотелось отдать ему заметку обратно.
Но я слишком верил в газету. Я верил в газету, и мне все мерещился тот Политанский, который вошел в нашу редакцию два месяца назад,– жалкий, маленький, невзрачный человечек, пришибленный, раздавленный своей немощью, слабостью, ничтожностью,– он мерещился мне рядом с тем Политанским, которого я теперь видел,– и я сказал ему что-то про заголовок, и он согласился со мной даже без всякого спора, согласился, почти устыдившись накативших внезапно на него сомнений, и только спросил:
– А когда она появится, моя заметка?
– В воскресенье,– сказал я.– Через три дня.
Собственно, вот с этого-то места и должен был я
начать свой рассказ. О том, как он появился у нас в первый из трех дней, встревоженный, озирающийся, весь налитый беспокойством, и от каждого слова, от каждого взгляда весь он вздрагивал, как будто по раскрытой, сочащейся сукровицей ране внезапно проводили наждаком.
– Я хочу попросить у вас обратно мою заметку,– очень тихо проговорил он, глядя куда-то вбок.
– Зачем? – сказал я.– Что случилось?
– А если меня уволят?..– сказал Политанский совсем тихо.
– И прекрасно,– сказал я.
Он посмотрел на меня тупым, затравленным взглядом.
– Вы смеетесь надо мной,– без всякого выражения сказал он.
– Наоборот. Если директор задумает вам мстить, он выдаст себя с головой. Тогда-то и вмешается наша газета.
– Не надо,– сказал он устало.– Ничего не надо. Лучше просто верните мою заметку.
– Стыдитесь, Политанский! – закричал я, вскакивая со стула.– Стыдитесь!..
– Да,– сказал Политанский,– я вас понимаю, и мне стыдно. Но и вы меня тоже поймите. Я сегодня не спал всю ночь. Сначала я заснул, а потом будто меня разбудил кто-то – потом я проснулся и до утра не смыкал глаз.
Я ничего не могу делать из-за этой заметки. Я очень прошу вас – верните мне ее.
– Да что вы такое, в конце-то концов, написали? Что вашему кружку нужны декорации и костюмы? Ну разве вы не понимаете, что это пустяк...
– Все равно,– сказал Политанский,—верните, не мучьте меня...
– Конечно,– вмешалась Надя,– верните заметку товарищу Политанскому, как-нибудь уж мы обойдемся и без этой заметки.
– Правильно,– сказал Политанский,– правильно, Наденька. А я вам принесу что-нибудь другое... Для замены...
Но Миша Курганов свистнул сквозь прореху во рту, и Политанский замолк.
Он все-таки не взял обратно заметку в тот день. Когда он уже держал ее в своих руках, и мы, уже не обращая на него внимания, как бы не замечая его, заговорили о наших делах,– он вдруг сказал, обращаясь ко всем сразу:
– Так вы думаете, это не будет иметь дурных последствий?
– Будет,– сказал Миша.– Будет обязательно. Директор даст вам то, что вы просите. Это и будет самым дурным последствием вашей заметки. Но лучше возьмите ее. И пусть ребята играют без костюмов и декораций.
Политанский помолчал, колеблясь, и неуверенно положил заметку на мой стол.
Когда на другое утро я подходил к редакции, он уже стоял у двери, дожидаясь. Лицо его не то что пожелтело,– оно потемнело, землистый покойницкий оттенок лежал на его щеках, нос заострился, глаза глубоко запали. Молча прошел он следом за мною в нашу комнату и, не садясь, глухо сказал:
– Я прошу вас ни о чем не говорить, не уговаривайте – верните мою заметку.
– Она уже заслана в типографию,– сказал я.– Поздно. Я не могу вам ее вернуть.
– Все равно,– сказал он.– вы не хотите мне ее вернуть.
– Да,– сказал я,– не хочу.
– Отдайте мою заметку,– сказал он, тяжело дыша.
– Не отдам,– сказал я.
– Как это – не отдадите?..
– А вот так: не отдам – и все. Возьму – и не отдам. Понимаете? Не отдам!
Он опешил.
– Послушайте,– забормотал он,– послушайте... Вы мне... Я вам... Вы должны мне вернуть... Или обещать...
– Я обещаю, что не верну вам этой заметки.
– Послушайте...– сказал Он. Голос у него вздрагивал.– Послушайте...
Я был жесток в ту минуту. Мне хотелось привести его в ярость. В ярости человек забывает о себе. Обо всех «зачем» и «что получится». Я хотел, чтобы он хоть раз ощутил вкус этого чувства. Оно требует повторения.
Но я увидел Политанского в таком состоянии лишь на следующий день, в последний из трех, в день субботний.
Меня вызвал к себе наш редактор.
В кабинете сидел Политанский.
Теперь он был бледен, глаза его сверкали злым, колючим огнем. Он поглаживал по голове маленькой своей лапкой, хоть волосы у него и без того лежали гладко, волосок к волоску. Но по этому движению, по дрожанию его кисти я видел, как он возбужден.
– Слушайте,– сказал редактор,– я ничего не понимаю... Товарищ жалуется, что вы его заставляете... Издеваетесь над ним... Что он не хочет...
– Да, не хочу! – крикнул Политанский, соскакивая с кресла.– Я честный человек, и вы не имеете права...
Он покраснел. Кулаки грозно сжались. Но в глазах – я это отчетливо видел – корчился страх.
Он ушел из редакции с заметкой в портфеле. Но в его походке не было торжества. Он уходил, сутулясь больше обычного, быстрым, крадущимся шагом, спрятав голову в плечи,– я наблюдал за ним сквозь окно, когда он пересекал двор, заплывший грязью,– я видел его тогда в последний раз. Больше он никогда не появлялся в редакции.
– Уполз обратно в свою Политанию,– сказала Надя.
...Я ни разу не встречал его в городе, хотя, наверное, он здесь жил, ходил по тем же тротуарам, мимо тех же домов, Я не видел его ни разу все эти годы, но почему-то не могу забыть о нем, почему-то иногда мне нет-нет, да и покажется, что вот он мелькнул где-то на улице, в толпе... Что вот он рядом, совсем рядом... Может быть, во мне самом.

II
ВОПРОС ВОПРОСОВ
Заканчивалась эпоха шестидесятых годов. После капризной оттепели наступало Великое Оледенение – время застоя. О Хрущеве в официальной прессе не упоминалось. О XX съезде цедили сквозь зубы. Твардовский вел арьергардные бои. Приезжавшие к нам в Алма-Ату москвичи говорили, что его уже сняли или вот-вот снимут.
Застойные времена лишают энергии действия, но способствуют энергии мысли. Споры физиков и лириков о ветке сирени отошли в прошлое: те и другие размышляли
о народе, его роли в истории. Еще не был выдворен из страны Солженицын, Сахаров не упрятан в Горький. Литераторы и ученые обращались к съезду партии, к съезду писателей, к новому главе партии и государства, доказывая необходимость свободы слова, соблюдения законов, записанных в конституции, предостерегая от реставрации сталинщины. Листочки самиздата, пятые и десятые копии, кружили над страной, как хлопья снега, иные, подхваченные ветром, достигали Алма-Аты. Отзвуки столичных споров («Ты проснешься ль, исполненный сил?..») докатывались до наших мест.
Мы были далеко от Москвы и несколько южнее, там уже наступили холода – у нас еще грело солнышко, синело небо. В «Просторе», на удивление всем, продолжали печатать Платонова, Пастернака, Мандельштама, Домбровского, Казакова. Но те же предчувствия волновали нас, тот же тяжкий, горький, хотя и полный затаенной надежды вопрос: «Ты проснешься ль?..»
Однажды из командировки вернулся в редакцию «Простора» сотрудник журнала писатель Н.
– Там,– сказал он и неопределенно взмахнул рукой,– там все эти наши споры-разговоры никому не нужны. Все эти наши мудрствования, интеллигентские охи-ахи, все эти исторические параллели и меридианы, вся эта литература. Твардовский или Кочетов, Солженицын или Софронов, культ-раскульт... Там об этом не думают. Там – живут. Строят дома, добывают руду, варят сталь. Зарабатывают, и неплохо зарабатывают. Обзаводятся квартирами. В отпуск едут на собственных машинах. Здоровая, нормальная жизнь!.. А наши проблемы, которые мы здесь толчем, как воду в ступе... Им все это до лампочки. Они живут, понимаешь?..
Я его понял, но я ему не поверил. И подумал, что наш спор не будет иметь смысла, пока я сам не отправлюсь туда, в ту самую сторону, куда неопределенно махнул он рукой. Для меня эта сторона – и вполне определенно – означала: Темиртау. Там я часто бывал, когда работал в молодежной газете (от Караганды до Темиртау всего сорок километров), меня многое связывало с этим городом...
Листая старый «Простор», я наткнулся на очерк, написанный после возникшего в редакции спора. В нем нет особенной глубины, но нет и фальши. Я решил предложить его вниманию читателей как свидетельство о том времени.
ПОЕЗДКА НА ГАЗОБЕТОННЫЙ
Это, пожалуй, не очерк – так, заметки, наброски для очерка. Я провел на заводе всего две недели – и уехал с досадой на столь малый отпущенный мне срок и с надеждой спустя недолгое время вернуться сюда опять, но уже спокойно, без спешки, без счета на дни, а иногда и часы..
И однако, кажется мне, даже и эти отрывочные заметки способны представить некоторый интерес. Хотя бы как детали, подробности многообразной жизни. Там, в Темиртау, в заводских цехах, в самые неожиданные моменты, мне много раз вспоминалась одна и та же фраза, которая не тогда и не там звучала бы как прописная банальность: «Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни...».
Вот об этом «древе жизни» мне и хочется рассказать.
1
Но прежде всего – сам газобетонный, по которому в день моего приезда провел меня, директор, в особенности формовочный цех, самая сердцевина завода.
Это светлый, огромный, какой-то, я бы сказал, праздничный цех – так он ярок, мажорен по краскам; так полон слаженного движения многих людей, так– при всей грандиозности пространства – одухотворены его пропорции: они не гнетут, не подавляют, а, напротив, сообщают чувство свободы, легкости. Это чувство, наверное, связано и с высоким остекленным, пронизанным солнцем сводом, и с уютным, в трогательных побегах травки, уголком, где за модерновой деревянной стойкой можно выпить газировки, но, главное, это ощущение идет от бодрого трудового ритма, от кажущейся легкости всего процесса, в котором участвуют люди и механизмы.
Вот по проложенным в центре цеха рельсам катится , тележка с бетоном с бетономешалкой. Нажатие кнопки – и из широкого, похожего на хобот рукава начинает хлестать серая струя, заполняя плоские, с низкими бортами формы. Это раствор – вода, цемент, песок, известь и – алюминиевая пудра, которая здесь играет роль дрожжей. Алюминий – газообразователь. Горячая газобетонная масса стынет, вязнет, бродит в формах, тем временем происходит реакция, в результате которой выделяется водород. Он образует мельчайшие пузырьки, пузырьки – ячейки, поры. Потому-то газобетон в три раза уступает по удельному весу обычному бетону.
Газобетонная масса от четырех до шести часов вспучивается, «вызревает» в формах, уподобляясь тесту в противне перед тем, как его поставят в печь. Над бортами формы взбухает корка – «горбуша», как ее тут называют. Горбушу эту надо снять, срезать. Кран своими лапами-клешнями подхватывает форму и переносит к резательной машине. Горбуша удалена. Теперь следует один из наиболее трудоемких процессов – поверхность будущей, пока еще сырой панели «железнят», то есть затирают мастерком, создавая тем самым ровный, гладкий, а главное – прочный слой. Затем формы ставят на тележку одну поверх другой и загоняют в длиннейшие автоклавы тележка за тележкой, «в затылок». Здесь газобетон «подходит», сохнет семнадцать часов при температуре в двести градусов и давлении в десять атмосфер. После этого – панель готова, еще не остыв, она поступает в транспортный цех, а оттуда – на Магнитку, для которой завод поставляет свою продукцию, на строительство совхозов, школ и промышленных объектов в разных городах республики.
Любой труд создает впечатление легкости, простоты, изящества, когда сложность его укрыта от посторонних глаз хорошо отлаженным, как бы самим по себе развивающимся процессом. Технология изготовления газобетона кажется весьма несложной – и однако газобетон капризен, прихотлив и требует постоянного внимания, чуткости, чуть ли не ласки. Сквозняк в цеху – и утрачено качество материала: температура массы, разлитой по формам, снизилась на два-три градуса. Незначительно изменена дозировка, где-то на складах примешался цемент низшей марки – пошел брак. Немного сдвинута металлическая арматура, небрежно заделано мастикой отверстие – и панель расколота... Оборудование польское – плохо с запчастями, за границей их можно приобрести не всегда – надо выходить из положения собственными силами... Завод спроектирован добрый десяток лет назад – потребности изменились, назначение расширилось – производство не должно отставать от времени... А сама технология – во всем ли она совершенна? Вот пожилая работница, та, что железнит поверхность панели: лицо ее в поту, она всю смену гнется над панелью, в ее руках – примитивный мастерок...
Кто же они, какие они – те люди, без которых вся заводская техника – мертва, груба, незряча?
Я заговорил с арматурщиком – потным, жарким, веселым кавказцем. Он сказал: «Хорошо зарабатываю. Куплю «Москвича», уеду в Ереван».
Я подошел к молоденькой крановщице – крепкой, ладной девушке в синем тренировочном костюме. Она сказала: «Я тут недавно, год. После десятого. В институт?.. Не знаю, может быть, поступлю в медицинский. Но это потом – а пока мне здесь нравится».
– Что?
– Да все!..
На людном пятачке – свежий номер заводского «Прожектора». Возле него мимоходом задерживаются, пересмеиваясь, подталкивая друг друга.
«Бригадир Т. совершил в мае прогул. Вот во что ему этот прогул обошелся:
Пропил совесть.
Снят с бригадиров.
За два дня прогула по 6 руб. 40 коп.– 12 руб. 80 коп.
Плюс 25 процентов премии за май – 32 руб. 60 коп.
Плюс 10 процентов коэффициента – 4 руб. 94 коп».
Всего лишился за май – 49 руб. 94 коп.»
Это – подпись под уничтожающей и, кстати, мастерски нарисованной карикатурой: «Душегуб семьи».
И тут же – крупно, красными, в ладонь, буквами;
«Руководство комбината поздравляет и крепко жмет
руки товарищам из арматурного цеха – Федоровой Нине и Молчановой Вере, выполняющим ежедневно задание на 200 процентов.
Вы – настоящие маяки!
У вас – золотые руки!»
2
С Александром Трепачуком я познакомился нечаянно, так сказать – попутно.
В тот день у меня была намечена встреча с заводским изобретателем Юрой Фадькиным, и вот, во время обеденного перерыва, мы сидели в беседке перед мехцехом и «наводили мосты» для первого знакомства. Тезка мой, отлично сложенный, яснолицый, голубоглазый парень, отвечал коротко, четко, предварительно как бы обдумывая каждое слово, а иной раз и усмехаясь про себя – такого скоро не разговоришь. И вдруг, во время нашей напряженной и не очень чтобы клеящейся беседы, к нам подошел, выйдя из цеха несколько наигранно-развинченной походкой, долговязый юнец и присел, точнее – развалился рядом, вытянув длинные ноги и опершись лопатками о край обнесенного скамьями стола.
Он послушал-послушал нас, а потом, пыхнув сигаретой, задиристо сказал: – В гробу я видел этот завод! – И загнул.
Я спросил:
– Почему?
– А так! – ответил он зло и беспечно.– Уеду! Надоело все! – И снова загнул. После этого он заговорил о каком-то руднике за Братском, откуда недавно вернулся его знакомый: там и деньги, якобы, лопатой гребут, и условия жизни такие, что долго выдержать невозможно. Я так и не понял, что его привлекает – заработки или вот эти самые невозможные условия, да и разбираться, переключаться на эту тему сейчас мне не хотелось: текучесть на Магнитке большая, уезжают, и бог с ними, меня интересовали не бегуны, а «костяк». Не понравилась мне и бесцеремонность парня, я попросил Фадькина провести меня в цех. Когда мы отошли, Фадькин сказал:
– А вы зря... Вам интересно бы с ним поговорить. Саша Трепачук – очень хороший токарь...– Он что-то еще хотел добавить, но, видимо, более весомых слов не нашел. А тоном это было сказано и серьезным, и укоризненным – я даже почувствовал обиду за товарища, с которым, как оказалось, Фадькин работает в одном цехе.
В тот же день я разыскал Трепачука и пригласил его к себе в гостиницу. Он этого не ждал, смутился – должно быть, за давешний свой тон,– а, главное, удивился. И обещал прийти. Дальше удивляться была моя очередь.
Трепачук пришел вечером, точно в семь, как мы и договорились. Он был не то чтобы просто аккуратно, нарядно одет – вылощен, начиная от блистающих глянцем носков туфель и кончая элегантной черной бабочкой на свежайшем нейлоне. А узенькие бачки, косой, тщательно расчесанный пробор и очки в четырехугольной оправе придавали ему хорошо известный по кинофильмам вид современного эдакого физика-лирика, который с одинаковой уверенностью говорит о чем-нибудь синхрофазотроном и цитирует Андрея Вознесенского...
Мы говорили долго, о разном, то возражая, споря, то соглашаясь друг с другом, говорили, так сказать, на равных, без обиняков, и великолепно обошлись без бутылки вина, которую, по долгу гостеприимства, я хотел, да так и не успел приготовить к Сашиному приходу.
Итак, Александр Трепачук. Ему 18, еще чуть-чуть – и 19 лет. Он из той семьи, которую – по нынешней терминологии – принято именовать «неблагополучной». Мать – рабочая, почти в одиночку воспитавшая троих детей. Старший Сашин брат – монтажник, сейчас заканчивает 4й курс втуза при Большом заводе, сестренка в восьмом. Сам же он, так же, как и брат, давно работает на заводе. Здесь, на газобетонном, он получил специальность токаря, начав, разумеется, с ученика. И закончил вечернюю школу. Первые годы работал с увлечением, все было в новинку, теперь свободно справляется с тем, что поручают ему, токарю пятого разряда. Настолько свободно, что работа перестала радовать трудностями и, главное, новизной. Фактические знания, полученные в школе, для этой работы никак не используются. Возможно, на каком-нибудь большом механическом заводе было бы иначе, но на газобетонном цех выполняет, в сущности, подсобную работу. «Хорошо еще,– говорит он,– производство не серийное, а там, где точат одну и ту же деталь... Не знаю, привыкают, наверное. Но это уж не работа...»
Он импульсивен, порывист, легко вспыхивает, воспламеняется и гаснет. Интерес к делу – внутренний, личный, без такого интереса любое дело для него не дело, а привычка. В ответ на мой вопрос он довольно вяло перечисляет свои рационализаторские предложения и вдруг с возбуждением начинает рассказывать, как было задумал переоборудовать свой станок...
Однажды ему захотелось – именно захотелось, то под влиянием примера старших, то ли от желания испытать себя,– но захотелось Саше Трепачуку стать изобретателем, Все прочие дела полетели в сторону – он набрал в библиотеке литературы, обложился справочниками, книгами, сидел вечера – думал... Тут Саше пришла в голову мысль о более совершенном устройстве станка, на котором он работал. Он ухватился за свою идею, но при этом не сообразил, что для цеха в таком, более совершенном станке нет надобности. Так в самом начале вышла осечка.
После школы Саша поступил во втуз, тот самый, где учится его брат. Но не доучился и до конца первого курса – бросил, почувствовал – не то. А что – «то»?.. Вот этого как раз он и не знает.
Я подумал,– какой сложной, напряженной жизнью жил этот парнишка с ранних лет; как в то время, когда его сверстники часто не столько учатся, сколько «посещают» школу и в остальное время бьют баклуши – как Саша Трепачук по утрам, не отоспавшись, мчался на завод к станку; а по вечерам бежал в школу, как хотелось при этом – и надо, надо было найти время и для книг, и для кино, и для какой-нибудь девчонки, чтобы проводить ее воскресным вечером домой...
В сущности, он еще мальчишка, да какой! Посмеиваясь, рассказывает, как недавно прочитал в какой-то статье, что после еды у человека значительно повышается трудоспособность. И тут же – а было это после обеда в столовой – почувствовал в себе прилив таких сил, что побежал в цех и принялся орудовать у станка. Но нетерпение сыграло с ним плохую шутку: сорвался ключ, в кровь разбил пальцы... (И правда – на руке у него сбитые, потемневшие ногти). Да, мальчишка! Поминутно вскакивая с кресла, он описывает, как в прошлом году отправился с приятелями на рыбалку, а на водохранилище разыгралась буря,– бури бывают здесь необычайно свирепыми! – и как они едва спаслись. Ему доставляет удовольствие – вновь, хотя бы на словах – пережить прежнюю опасность, прежний натиск стихии, отчаянную, смертельную борьбу!
И в этом все дело, думается мне. Те, сказанные в начале нашего знакомства, слова были пустяком, эмоциональным всплеском, не больше. Он говорит о заводе благодарно, как о «своем», как о составной и существеннейшей части своей жизни. И на заводе – с кем бы ни приходилось мне впоследствии говорить – всякий находил для Саши Трепачука только самые добрые, сердечные слова. Так что – дело не в заводе самом по себе, и не в заработке. Мне видится причина в ином.
Темиртау еще каких-нибудь лет десять назад был одним из самых притягательных мест для ищущего, молодого беспокойства по неизведанному, особенному, непохожему. Теперь это устоявшийся, живущий обычной, определившейся жизнью город, он вступил в возраст зрелости, возмужания. И уже не сюда, а отсюда влечет Сашу Трепачука,– куда? – он сам того еще точно не знает, но влечет неудержимо. Может быть, влекут те самые рассказы о палатках, о ржавой воде, о первых фундаментах посреди ковыльной степи, которыми уснащают свои воспоминания вовсе не старые еще местные старожилы.
Здесь мало кто вспоминает прошлую зиму без крепкого словца, мало кто, но только не Саша Трепачук. «Стоящая зима была, минус 32°, да с ветерком... Два раза нос отмораживал: белый почти был... И в цеху – холодина, вода в ведре замерзала... А работать надо, давай-давай... Стоящая зима!.. Вообще – я это не люблю: Крым, Кавказ, пальмы... Зима бы, да снегу побольше... Уеду на Север!»
Но, помимо затрепанного, а, тем не менее, и ныне и присно здравствующего слова «романтика» – в тревожном, ищущем настроении Саши Трепачука мне слышалось и иное...
– Девчонки?.. Да всякие есть... Есть такие, что кадрят... Меняют, значит, одного на другого... Не пойму – зачем, что им нужно, чего добиваются?..
Однажды у нас знакомые жили... Молодая еще пара... Жили месяца два – и ни разу, чтобы подошли друг к другу, приласкались что ли, поцеловались там... Вроде – и не любовь, а так, формально все, по обязанности... По-моему, и это не лучше...
Поступил я во втуз. Там у меня в приемной комиссии спрашивают, что я в кино видел, а я только что на «Фантомаса» сходил. Ну, я и отвечаю. Мне говорят, и такие голоса, глаза такие нехорошие, подозрительные: «Так вот какие, значит, фильмы тебе нравятся?..» Я говорю: «А что? Пойдет после работы на такой фильм человек, отдохнет, посмеется – что плохого? А если вы о настоящих, о серьезных фильмах, так мне «Коммунист» нравится...» Усмехнулись, не поверили. Я после того три дня как оплеванный ходил. Почему не поверили? Ведь я правду сказал!.. Они что – дураки?..








