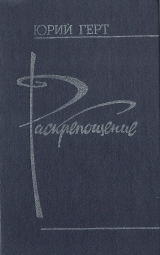
Текст книги "Раскрепощение"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Я слушаю Алексея, лидера молодых неформалов,– он говорит с нами прямо, открыто, но, возможно, мы в душе для него – чужое поколение, истины, обретенные в конце восьмидесятых, представляются ему новым словом, с которым он и его сверстники выходят в мир... А мне, ради более близкого знакомства, хочется подарить Алексею мой роман, который написан двадцать пять лет назад, только вот беда – осталась у меня дома всего пара-другая экземпляров... А жаль... И жаль, что сейчас мне на три с лишним десятка лет больше, чем этому славному парню...
Мы уходим и уносим папку с документацией «Спасения»: газетные статьи, вырезки, отчеты, протоколы собраний. Ковалев королевски щедр, одаряя меня ксероксами и четвертыми-пятыми экземплярами, мне интересно вникнуть во все не спеша... К тому же, может быть, мы еще встретимся. Летом Алексей работает в археологических экспедициях в Центральной Азии, в прошлом году он опубликовал три научные статьи, выступал с докладами в Московском и Ленинградском отделениях Института археологии АН СССР... Так вот: если экспедиция окажется неподалеку, будем ждать его в гости – в Алма-Ате.
Стояло лето 1987 года.
Миновало всего шесть месяцев после того, как в «России» начали демонстрировать «Покаяние».
За следующие полгода были полностью реабилитированы жертвы сталинских политических процессов 60-х, 40-х, 50-х годов. Реабилитированы жертвы процессов над «Промпартией», Чаяновым и его сподвижниками. Воскресали преданные забвению имена, воскресала страна. Возрождалась задавленная, задушенная инициатива снизу, идущая навстречу многосторонним инициативам сверху – в области мировой политики, идеологии, экономики.
Но...
Спустя год после нашего знакомства с Алексеем Ковалевым, романтиком-реалистом эпохи перестройки, в «Известиях» было напечатано:
«Сотрудники Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР собрались 11 июля 1988 года, чтобы обсудить тревожную ситуацию, сложившуюся в Ленинграде в связи с действиями объединения, называющего себя русский национально-патриотический фронт «Память».
Члены этого объединения собираются каждый четверг недалеко от Ленинградского университета и ведут шовинистическую, по сути дела, антисоциалистическую пропаганду, оскорбляющую честь и достоинство советских людей. Собрания проводятся в обстановке истерического нагнетания ненависти к нерусским национальностям. Попытки дискутировать с активистами «Памяти» немедленно пресекаются.
Фронт «Память» извращает историю нашей страны, приписывая евреям, латышам и другим «инородцам» основную вину за необоснованные репрессии 20-30-х годов, за нарушения законности во времена коллективизации, за разрушения памятников русской культуры.
Фронт «Память» в лице своих ленинградских активистов публично оправдывает покрывшие себя позором организации «союз русского народа» и «черную сотню». В высказываниях идеологов фронта «Память» воскрешаются теории чистоты нации, осуждаются межнациональные браки.
Выступления идеологов «Памяти» нередко напоминают лозунги нацизма. Предпринимаются попытки морального давления на советских граждан-евреев, в первую очередь деятелей культуры, искусства и просвещения, а также активных деятелей перестройки других национальностей. Для этого печатаются и оглашаются пофамильные списки, иногда с угрожающим добавлением: «Адреса их нам известны». В воззваниях и устных выступлениях звучат откровенные призывы к насилию – «врагов надо знать в лицо», «пора переходить к партизанским действиям».
Для обоснования этой травли используются все те же сфабрикованные царской охранкой так называемые «протоколы сионских мудрецов» – фальшивка, в свое время подхваченная в фашистской Германии...
Мы СССР, необходимым обратиться к Генеральному прокурору СССР. Все выступавшие на собрании готовы подтвердить высказанное свидетельскими показаниями... Мы требуем внести ясность в вопрос, почему партийные и советские органы Ленинграда не выражают публично своего отношения к деятельности фронта «Память»...
О. Большаков, Е. Богословский, О. Берлев, М. Дандамаев, И. Дьяконов, А. Периханян, М. Пиотровский, доктора исторических наук,
З. Ворожейкина, В. Горегляд, Л. Меньшиков, М. Никитина, В. Лившиц, доктора филологических наук... И другие – всего 59 подписей.
(«Известия», 14 августа 1988 г., «Нечистая игра на чистых чувствах».)
4
Эйфории не было...
Еще и потому, что все это происходило после Карабаха, после Сумгаита... Здесь были пока только слова, но там уже пролилась кровь...
И тем же летом, в июле, мы стояли на Комсомольской набережной в Риге, поблизости от Домского собора. Отмечался День провозглашения Латвийской ССР. С праздничной трибуны выступали партийные деятели, участники недавней XIX Всесоюзной партконференции, рабочие, Вия Артмане, представитель движения «зеленых»... Набережная, заполненная народом, слушала – одним аплодируя, других – аплодисментами же – просила замолкнуть... Было много флагов, знамен – красных, с привычными лозунгами, и черных, где по-латышски и по-русски можно было прочесть непривычное: «1940 год – начало сталинизма в Латвии», «1940 год – нет хлеба и работы, 1988 год – нет воздуха и воды!» и даже «Знай, что в поселке родном кто-то грустит о тебе...»
Шли споры – в газетах, на улицах, на площади перед памятником Свободы: кто виноват в репрессиях, обрушившихся на Латвию в 41-м? И в скверной нынешней экологической обстановке? И в том, что в магазинах сахар – по талонам?..
Немолодая женщина, просто и строго одетая, с горьким раздражением сказала, вместе с нами выходя из кафе:
– Подумать только, не сталинщина, значит, виновата, а мы, русские... Я живу тут с двенадцати лет, больше двадцати в школе работаю, детишек учу, и вот – на тебе: «мигрантка»...
Карабах, Сумгаит, Ленинград, Рига... Мне вспомнились наши, алма-атинские, события в декабре 1986 года.
Нет, не национальные чувства сами по себе – такие трепетные, легко возбудимые, коренящиеся где-то в подкорке... Не национальные чувства, на которых играли не только в эпоху сталинщины («разделяй и властвуй!»),.. Не национальное достоинство, которое должно быть восстановлено вслед за восстановлением достоинства каждой личности... Не только это определяет нынешнюю тревожную, грозную, быть может даже – угрожающую ситуацию, а – силы, которые жаждут сорвать перестройку, иначе обнажатся преступления перед народом, за которые придется отвечать...
Для этих зловещих, накрепко связанных с нашим трагическим прошлым сил – как и раньше – все средства хороши...
5
Жертвы воскресают, но сцену истории еще не покинули их палачи...
РЫЦАРЬ
Что вначале – курица или яйцо? Что важнее: личность или среда? Что первичней: нравственность или экономика?,.
На эти вопросы можно никак не отвечать, полагая слово «или» в данном случае слишком категоричным. А можно попытаться – и тогда заведомо ясно, как ответит на последние два вопроса, к примеру, экономист и как – Литератор, Хотя оба, видимо, согласятся, что жизнь достаточно многообразна, чтобы в ней отыскалось место и для той, и для этой истины. Каждый из нас мастерит лодочку по своим силам и вкусу, и тысячи таких лодочек плывут по реке, у которой есть берега, но нет ни конца, ни начала...
Тем не менее, я – литератор. Не политик. Не социолог. Не специалист в области истории или демократии. Проблемы национальные и межнациональные, между тем, имея истоком присущие всем эмоции, для позитивного решения требуют широкой компетентности в самых различных вопросах. Я же скажу лишь единственное: первое условие, без которого любая компетентность – ничто, это – искреннее, нелицемерное стремление к добру. К тому, чтобы каждому было хорошо, но не за счет другого. Это трудно. Это требует нового подхода. Нового мышления. Новых чувств. Много десятилетий понадобилось нам для того, чтобы прийти к идее о приоритете общечеловеческих ценностей. К тому, что рабочий и буржуа, крестьянин и бизнесмен – прежде всего люди, а потом уже все остальное. И сколько еще лет должно пройти, чтобы прежде всего каждый увидел, почувствовал в другом – не русского, не калмыка, не француза или еврея, а – человека?.. Но только тогда погаснут страсти, способные выжечь в человеке все человеческое, увидеть в добром соседе затаившегося врага, раздуть тлеющий в душе огонек в пламя, не знающее ни жалости, ни пощады.
Впрочем, надо ли ждать, пока наступит это время?.. Может быть, следует посмотреть позорче вокруг?.. Или обернуться назад?.. Мы говорим – новое мышление. Но разве возникло оно сегодня, сейчас? Разве генеалогия его не ведет в давнее прошлое? И не имеется у него своих пророков, побиваемых, естественное дело, камнями?.. Новизна – в одном: теперь не пророков, которым к камням не привыкать, а себя самих, до единого, мы погубим, если не совершим громадного, но неизбежного усилия и не почувствуем себя – все до единого – прежде всего людьми...
Немало имен хранит память каждого, но среди них есть одно... Это как любовь: она воздает должное многим, но выбирает единственного или единственную. Таким «единственным» с давней поры стал для меня Короленко.
Школа, разумеется, тут была ни при чем: Короленко мы в ней «не проходили». Но и свое многотрудное дело по отвращению детей от классики она по отношению к Владимиру Галактионовичу ограничила лишь повторением до пошлости доведенной фразы: «Человек рождается для счастья, как птица для полета». Это уже много позже я прочитал рассказ, в котором фразу эту, с усердием вставляемую нами в школьные сочинения, оказалось, пишет от рождения обделенный счастьем человек, безрукий урод, пишет зажатым в пальцах ноги пером – на потеху толпе, одаряющей за это его пятаками и гривенниками... Рассказ «Парадокс», трагичнейший в нашей литературе, при первом же чтении ожег меня, как удар хлыста, благотворный рубец от него остался на всю жизнь...
Пришел «Новый мир» с публикацией писем Короленко Луначарскому. Мелкий, убористый шрифт, почти петит, не так-то легко теперь его мне читать... Но я помню тонкую, просвечивающую папиросную бумагу, машинопись – густую, через один интервал; у меня в распоряжении были день или два, поэтому «Письма» я прочитал наскоро, бегло, перепечатать и оставить у себя копию не хватило времени – осталось общее впечатление, память о «недозволенном», потаенном Короленко – и маленькое, крошечное, однако же – сомнение: может, подделка?..
Но через недолгое время после того – поездка в Полтаву, по гоголевским местам: Диканька, Великие Сорочинцы, Миргород, Васильевка... И посредине этого фантастического мира с лукаво подмигивающим Рудым Паньком – ласковая, женственная Полтава, с прозрачной, медленно текущей Ворсклой, с остовами полусожженных еще в войну домов, с памятником в честь победы Петра над шведами... А на тихой, зеленой улочке – дом-музей Короленко. Тенистый дворик, в комнатах – навощенный пол, уютная старая мебель, приветливые экскурсоводши с карими улыбчивыми глазами и быстрой-быстрой речью. Но когда после осмотра застекленных, расположенных вдоль стен витрин, рождаются вопросы, произносимые, видно, здесь не в первый раз, милые карие глаза тускнеют, в них проступает жестяный блеск. Да и зачем смущать этих славных, смугло-румяных (от смущения или веселого полтавского солнца?..) женщин расспросами о тех же письмах к Луначарскому или, скажем, о деле Бейлиса?..
И все же, уходя, тянет оглянуться, будто и впрямь позади, на ступеньке крыльца, озаренный розовым закатом, сидит, задумавшись глубоко, усталый, больной человек, с широкой, побитой проседью бородой, и только угольно-черные зрачки горят под нависающим лбом...
А потом, спустя лет шесть, в Караганде – внезапная ниточка, паутинка, которая тянется к тому дому, тому крылечку... Я давно знал – а выходит, и не знал!..– близкую знакомую Веры Григорьевны Недовесовой – тоже врача, хирурга Нину Федоровну Ходню. Всегда подтянутая, суховатая, не допускавшая к себе в душу постороннего любопытства, она разделила судьбу мужа, немца, высланного в начале войны в Казахстан. Первоклассный издательский редактор, после разнообразных злоключений он допущен был преподавать литературу в одной из карагандинских школ. Ему писали, за него хлопотали Паустовский, Всеволод Иванов, Тихонов... Он умер, бывшие ученики до сих пор с трепетом произносят дорогое для них имя... Нина Федоровна после смерти мужа навсегда осталась в Караганде.
И вот однажды она заговорила о Полтаве, где жила девочкой, поблизости от дома Короленко, и вместе с друзьями частенько навещала этот дом. На веранде или в саду собиралась молодежь, пили чай, играли на пианино, танцевали, но более всего – слушали повеселевшего от множества юных лиц хозяина. И так ярко рисовалась мне Нина Федоровна – в ту пору совершенно гоголевская, лет шестнадцати-семнадцати красавица хохлушка, с огневыми черными очами и толстой, ниже пояса, косой, внимающая, подперев подбородок с ямочкой посредине двумя кулачками, знаменитому на всю Россию писателю, недавнему властителю дум. Ему вскоре предстояло умереть, ей же – отсюда, из этого дома, где и познакомилась она с будущим мужем – выйти в жизнь, долгую, немыслимыми – а в общем-то распространенными – судьбами занесшую ее впоследствии в Караганду...
Тонкая, совершенно ничтожная ниточка, но бесценная, поскольку связует несвязуемое, соединяет несоединимое во времени и пространстве... И однажды, в середине семидесятых, в пору последовательного изничтожения любого инакомыслия, в пору законопачивания каждой щелки, сквозь которую мог просочиться живой воздух, в пору изгнаний-выселок, исключений, административных (впрочем, не только...) мер и, соответственно, рабьего языка, эзоповских выкрутасов и освященного нашим ко всему привычным литературоведением «подтекста», прочитал я один из первых рассказов Короленко, написанный в 1880 году, молодым человеком 27-ми лет. За его плечами числилось уже исключение из Петровской земледельческой академии за протест против жандармских порядков, и первый арест, и первая высылка, и снова арест и высылка в Пермь – ну прямо молодой Домбровский, поскольку впереди у одного еще маячила Якутия, у другого Колыма,– так вот: «Яшка», из ранних короленковских рассказов. Начинался он словами: «Нас ввели в коридор одной из сибирских тюрем, длинный, узкий и мрачный...» и далее в нем высвечивалась фигура заключенного, Яшки, который днем ли, ночью – стучит и стучит в дверь своей одиночки. Кто он, за что сидит, верны ли обвинения, которые на него возлагают – никто не может ответить. Арестанты его называют: «стукальщик». «Скажи мне, Яков, зачем ты стучишь? – спросил я...– Обличаю начальников,– пояснил он,– начальников неправедных обличаю.– Какая же от этого польза? – Польза? Есть польза...– Да какая же? В чем? – Есть польза,– повторил он упрямо». Кончается грустный рассказ этот тем, что Якова увозят в сумасшедший дом, по-нашему – в «психушку».
Тогда, читая рассказ, я чуял, как мурашки ползут у меня по спине струйкой, мне было страшно: я читал не о Яшке, читал – обо всей нашей тогдашней литературе.
Дистанции, даже небольшой, не осталось: не сто лет назад, казалось мне, написан рассказ, а – сегодня, сейчас. И так же, почти без всякой дистанции, ложится любой факт в жизни Короленко. Начиная с рождения в 1853 году, т.е. за восемь лет до отмены крепостного права. А оно ведь не отпало, как струпья от затянувшейся на теле раны – мы и сами свидетели его живучести, будь то наши привычки, психология, иные из воззрений и принятых форм государственной жизни (паспортный режим, прописка, спецпривилегии, барское отношение к «низшим», благоговение перед креслом, какой бы человек его ни занимал, и т.д.). И не отсюда ли, не с рождения ли Владимира Галактионовича – всем существом его рожденный протест против любого рабства, любого гнета, какими бы материями его не оправдывать – идейными, экономическими, национальными. Но могло ли в самом ужасающем сне привидеться Владимиру Галактионовичу столь абсолютное воплощение непримиримо ненавидимого им зла, как человек, умерший ровно сто лет спустя после его, Короленко, рождения?..
Читая сочинения Короленко, вдруг задумываешься – отчего в его жизни такую роль играл суд? И суд – в прямом смысле, и проблемы права, юридической и нравственной справедливости?.. Вот он в печати гневно обвиняет карателей, учинивших расправу над крестьянами Полтавской губернии (20 убитых и раненых), за что привлекается к суду. Вот выступает против бесчеловечных порядков в псковской каторжной тюрьме. Вот печатает очерки, направленные против применения смертной казни в России («...всячески во время чтения старался, но не мог удержать не слезы, а рыдания,– писал Короленко Лев Толстой.– Не нахожу слов, чтобы выразить всю мою благодарность и любовь за эту и по выражению, и по мысли, и, главное, по чувству превосходную статью. Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров»). Он предстает перед судом – за публикацию (уже после смерти Толстого) «Записок Федора Кузьмича» в журнале «Русское Богатство». Он выступает на процессе по делу мултанцев с блестящей речью, а за статьи, посвященные процессу Бейлиса, против писателя заводят следственное дело, прекращенное лишь после Февральской революции...
Отец Короленко был уездным судьей: не отсюда ли у сына устойчивый, постоянный интерес к праву?.. Карьеры уездный судья не сделал: двадцать лет служил в одной и той же должности. Взяток не брал, подарков «борзыми щенками» или чем-либо покрупней – тоже: попросту выталкивал за дверь дароносителей. Ни дачек, ни банковских счетов, ни дорогостоящих «коллекций» не нажил он и в наследство детям не оставил: умер в 1869 году, а Владимир Короленко, два года спустя поступивший в Петербургский технологический институт, из-за отсутствия средств не смог продолжить учебу.
«Чувство справедливости» приводило Короленко к поступкам странным и – с точки зрения нынешнего нашего благоразумия – малообъяснимым. Когда представился выбор: подмахнуть на бумажном листе свою подпись или же направиться на пять лет в Восточную Сибирь, Владимир Галактионович предпочел второе. А ведь речь шла вовсе не о том, чтобы дать на кого-то ложные показания, изувечить кому-то, может быть, вчерашнему боевому товарищу и единомышленнику жизнь... Нет! После убийства Александра II правительство предложило политическим ссыльным присягнуть новому царю: «Обещаюсь и клянусь о ущербе его величества интересе и убытке, как скоро в том уведаю, не только благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать»... Иными словами предлагалось... как бы это выразиться половчее... стать доносчиком – «как скоро в том уведаю». Вопрос был, очевидно, скорее формальный, нежели практический. Кроме того —
Ученый, сверстник Галилея,
Был Галилея не глупее,
Он знал, что вертится земля,
Но у него была семья...
И у Короленко тоже была «семья», но он сделал свой выбор. Как сделал его впоследствии, когда звание почетного академика и понятие чести оказались для него в неразрешимом конфликте. Между прочим, в последнее время в нашем литературном обиходе к слову «честь» упорно тяготеет «дворянская». Что до Короленко, то в его привычках, образе жизни, пристрастиях очевиден совершенно естественный, неподдельный демократизм – так же, как и у отца, который к своему дворянству («род наш шел от какого-то миргородского казачьего полковника, получившего от польских королей гербовое дворянство»,– писал Короленко в «Истории моего современника») относился «с оттенком насмешки» и «восстановить свои потомственно-дворянские права никогда не стремился». Так что для Короленко, как и для мещанина Чехова, который вместе с ним заявил о выходе из Академии, когда Николай II отменил выборы в Академию третьего мещанина – Максима Горького,– для Владимира Галактионовича понятие чести было чисто нравственным, без голубого оттенка... Суть же дела заключалась в том, что сообщение об отмене выборов, напечатанное в «Правительственном вестнике», исходило от Академии наук – той самой, которая накануне проголосовала за избрание... Соучаствовать в замешанной на холуйстве подлости Короленко не хотел: «Я вижу себя вынужденным сложить с себя нравственную ответственность за объявление, оглашенное от имени Академии, в единственной доступной мне форме, т.е. вместе со званием почетного академика». Резонанс в обществе был огромный. Полиция отменила чествование Короленко в его пятидесятилетие. Но когда в конце семидесятых наша видавшая виды Академия наук СССР отказалась исключить из своего состава Сахарова – кто знает, не сыграло ли в этом, помимо прочего, свою роль и то представление о чести, которое в 1903 году отстаивал Короленко?..
Все это важно сказать, поскольку лишь взятый в целом характер Короленко способен объяснить, почему так тревожили его, как сказали бы мы теперь, национальные проблемы, откуда брались и его страстность, и щепетильность, и готовность пойти на любой риск, только бы отстоять истину, защитить гонимых... Два процесса, в свое время занимавших всю Россию, нерасторжимы с его именем: дело мултанцев и дело Бейлиса.
Отчего же уголовная история, случившаяся в 1892 году где-то в захолустном углу Российской империи, в тех местах, куда Короленко препровожден был когда-то в качестве ссыльного, сделалась важнейшим общественным событием? Отчего убийство бродяжки-нищего послужило причиной дела, которое тянулось четыре года, трижды рассматривалось в суде, дважды возвращалось Сенатом для нового рассмотрения, вызвало волну обсуждений в печати?.. На эти вопросы очень точно отвечал А. Ф. Кони: «Судебным расследованием устанавливается здесь не одна лишь виновность тех или иных определенных лиц, фигурирующих в качестве подсудимых, а констатируется известное бытовое явление, произносится суд над целой народностью или целым общественным слоем и создается прецедент, могущий иметь на будущее время значение судебной виновности той или иной группы населения».
Речь, таким образом, шла не просто об убитом, и не просто о том, действительно ли виноваты в его убийстве десять представших перед судом человек: мало ли какие зверства случались в разные времена, вызывая чувство ужаса и жажду справедливого наказания! Особенностью преступления в селе Старый Мултан было то, что все обвиняемые – удмурты (вотяки, как тогда их называли), а убийство, им приписываемое,– не обычное убийство, с целью, положим, ограбления, а – жертвоприношение языческим богам, точнее богу Курбону. То есть убийство это – ритуальное, обрядовое, такой обряд якобы у вотяков-удмуртов существует исстари...
Шел страшный 1892 год. В России голодало более двадцати губерний. Бедствиям, охватившим русское крестьянство в Нижегородской губернии, посвятил цикл горьких, скорбных, яростных очерков Короленко, напечатав их сначала в журнале «Русское богатство», а потом, после долгой маяты с цензурой, опубликовав отдельным изданием. И в это безмерно тяжкое для народа время в селе Старый Мултан происходит убийство русского нищего крестьянами-вотяками. Хорошо отработанный способ возбудить темные страсти и направить их по выгодному для правительства руслу! Крестьян-вотяков судят и семерых осуждают на каторгу...
«Данный судебный приговор есть приговор над целой народностью, состоящей из нескольких сотен тысяч людей, живущих в вятском крае, бок о бок с русским народом и тою же земледельческой жизнию...– пишет Короленко.– Постарайтесь представить себя по возможности ясно в роли вотяка-крестьянина, соседа русской деревни, в роли вотяка-учителя, наконец, в роли священника из вятского края,– и вы сразу почувствуете все ужасное значение этого приговора...»
Однако защищающий удмуртов адвокат посылает в Сенат кассационный протест – и дело, как сказали бы мы сейчас, возвращается «на пересуд». Короленко едет в Ела-б угу, на вторичное слушание» в качестве корреспондента, и вместе с двумя коллегами-журналистами ведет запись происходящего в зале. «Пересуд» завершается новым обвинительным приговором.
«...Здесь, в дальнем углу, приносилось настоящее жертвоприношение невинных людей – шайкой полицейских разбойников под предводительством тов. прокурора и с благословения Сарапульского окр. суда,– писал Короленко, вернувшись с процесса.– Следствие совершенно фальсифицировано, над подсудимыми и свидетелями совершались пытки. И все-таки вотяки осуждены вторично, и, вероятно, последует и третье осуждение, если не удастся добиться расследования действий полиции и разоблачить подложность следственного материала. Я поклялся на сей счет чем-то вроде аннибаловой клятвы и теперь ничем не могу заниматься и ни о чем больше думать».
Короленко из номера в номер печатает в «Русских ведомостях» отчет о процессе в Елабуге, Тщательно анализирует аргументацию обвинения, детально разбирает противоречащие друг другу показания. Не довольствуясь личными наблюдениями периода ссылки в Глазов и Вятку, Короленко погружается в историю языческих обрядов, историю удмуртов и доказывает, что «дело» выдумано от начала и до конца, вплоть до «бога Курбона»: нет и не было такого бога, само слово «курбон» в переводе означает: «молитва»... Очерки Короленко читает вся Россия. У одних они вызывают сочувствие, у других – озлобление. Официозные газеты упрекают Короленко в идеализации вотяков и явной тенденциозности – так сказать, отсутствии «культуры полемики»״. Между тем писатель выступает с докладом о мултановцах перед учеными мужами Петербургского антропологического общества, переполненный зал ему восторженно аплодирует. Сенат же вторично рассматривает «дело» и вновь отменяет приговор...
Третий процесс – в городке Мамадыше Казанской губернии. На сей раз Короленко решает на нем не только присутствовать, но и выступить с речью. На процессе, продолжавшемся восемь дней, он выступал дважды. «Почти все присутствующие плакали»,– писала «Самарская газета».
Увлекшись фигурами монументальными, исторического масштаба, мы невольно забываем, что и они были люди, просто люди, может быть, люди прежде всего... Короленко – тоже: «...и у него была семья». А в семье – маленькая больная дочь. О чем думал он, когда ехал на суд, спасать семерых лично ему не знакомых людей, которым опять – в третий раз – грозила каторга? Что чувствовал при этом?... Что пережил, когда во время процесса пришло известие, что девочка умерла?..
«4 июня решился мултанский процесс. Я уже боялся, почти знал, что моей девочки нет на свете, но радость оправдания была так сильна, хлынула в мою душу такой волной, что для другого ощущения на это время не было места. Правда, эта смесь стоила мне после очень многого. Мне кажется, что я за это время потерял несколько лет жизни»,– писал Короленко в своем дневнике.
На третий раз дело мултанцев было выиграно: присяжные признали обвиняемых невиновными.
Короленко, а с ним и вся передовая, гуманная часть общества вышли из долгой борьбы победителями. Однако победа касалась не только ни в чем не повинных удмуртов. И смысл ее не ограничивался снятием страшного обвинения со всего народа, поскольку каждый удмурт-вотяк уже в силу своей национальности оказывался под подозрение м... Короленко и Кони (см. выше) как бы предвидели в будущем возможность обвинять и наказывать целые народы, огулом, не маскируя произвола даже подобием соблюдения правовых норм, т.е. без всякого суда... Но даже и в этом еще не в с я суть.
Одной из важнейших реформ, принятых после отмены крепостничества, было введение в России суда присяжных. Фальсификация следствия, пристрастность судей, давление власти – все это имело место, но в какой-то момент судьбу процесса решали присяжные – и только они.
Кто же были присяжные на процессе в Мамадыше? «Два интеллигентных человека и десять мужиков»,– писал Короленко. И в другом месте: «Десять мужиков, мещанин и дворянин». Русские люди, которым на протяжении пяти лет внушался зловещий «образ врага». Для достижения намеченного эффекта применялись весьма сильно действующие средства: показания якобы – свидетелей, судмедэкспертиза, описание обезглавленного, лишенного внутренностей тела и т.д. И вот они – на скамье подсудимых, семеро «не наших», «чужих», и по-русски-то говорящих невнятно, и понимающих далеко не все и с трудом... Дважды приговор назначал им каторгу – чего ж еще?..
Но «лица, бывшие на последнем разбирательстве, отзываются с глубоким уважением о том неослабевавшем внимании, с каким в течение семи с половиной дней» присяжные «следили за всеми изгибами запутанного дела, за всеми тонкостями этнографической экспертизы, за всеми аргументами обвинения и защиты...» И «присяжные вышли с честью из тяжелого испытания. Живым чутьем они различили, наконец, истину под грудой односторонне набросанных деталей»,– подводил Короленко итог процесса. Нетрудно заметить в его словах радость – не только за оправданных удмуртов, но и – быть может, не меньшую – за их оправдавших русских людей, сумевших разобраться в запутанном деле и не дать сбить себя с толку.
Вмешавшись в «мултанское дело», Короленко боролся за чистоту народного сознания, освобождение от предрассудков, за то, чтобы не дать разгореться национальной вражде. И тут его роль была куда благородней, патриотичней, чем у организаторов «мултанского дела», при каждом случае распинавшихся в любви к России и русскому народу.
Спустя много лет Короленко возвращается к суду в Мамадыше и описывает одного из присяжных – «деревенского мельника, внушительную славянскую фигуру, с белокурыми волосами, по-славянски подстриженными на лбу, и с голубыми глазами... Крепкая, почти каменная фигура, с очевидно знакомым мнением, с суровым взглядом на защитников, с глубоким предубеждением против вотяков...» Короленко рассказывает, что, выступая в суде, все время наблюдал за этим человеком: «Мне казалось, что если мне удастся сдвинуть эту каменную фигуру, с нею вместе сдвинется и вся остальная деревня».
И вот – присяжные сказали свое слово, процесс закончился, Короленко с адвокатом Н. П. Карабчевским из окна домика, в котором оба остановились, видят проходящего мимо мельника-присяжного и заговаривают с ним. «Он крепкой походкой медведя перевалился через немощеную улицу и подошел к нашему окну. Сняв шапку и отвесив глубокий поклон, он подал затем в окно свою широкую руку и сказал:
– Ну, спасибо, господа. Вот я поеду к себе в деревню, расскажу. Ведь я, признаться сказать, ехал сюда, чтобы осудить вотяков. О-о-осудить и кончено. Из деревни наши провожали. Соседи и говорят: «Смотри, брат, не упусти вотских. Пусть не пьют кровь».
Он широким размашистым жестом провел по груди в расстегнутом кафтане и закончил:








