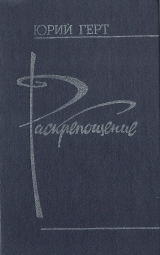
Текст книги "Раскрепощение"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Мы с Федей очень привязались друг к другу. Жаль было расставаться с ним. Выдержала я его до полного выздоровления. Рассказывала ему сказки, учила стихам. К моему огорчению, с ним пришлось расстаться, и больше я о нем ничего не знаю, а очень жаль. Надеюсь, что мать его нашла, если выжила...
Я ни у кого не бывала и ко мне никто не приходил и не звонил по телефону. Не только знакомые, но и родные боялись общаться со мною. И вот однажды возвращаюсь с работы, а дома всюду стоят в вазах цветы. По словам няни, приходило много молодых людей и девушек, принесли цветы, сказали, что придут вечером. Действительно, вечером явилось восемь моих бывших студентов, ныне врачей. Все они из разных городов приехали в отпуск. Узнали о моих бедах, решили навестить. Пришли с конфетами, тортом.
Прежде всего я спросила, не боятся ли они контакта со мной, как наши астраханские знакомые. Они не боялись!
Мы провели чудесный вечер. Я попросила каждого рассказать о его первом дне работы. Было много забавного, курьезного, но и первых огорчений хватало. И парни, и девушки уверяли, что скоро все несчастья кончатся и у нас опять будет счастливая семья. Спасибо им великое за этот вечер!
К годовщине со дня ареста мужа я начала подумывать, что меня не арестуют, и выписала дочку домой. Дочь приехала незадолго до начала учебного года. Пошла в школу 1 сентября и вернулась в слезах. Оказывается, с нею никто не хотел сидеть за одной партой, так как у нее отец – враг народа. Я вынуждена была обратиться к директору, завучу школы и, наконец, к классному руководителю. Та специально ходила к одной из матерей, и она разрешила дочке сидеть с Тамарой.
Но недолго Тамара пользовалась правом сидеть за одной партой с девочкой. В середине сентября 1938 года меня вызвали в НКВД, предупредив, что долго не задержат и я смогу вернуться на дежурство. Я поставила в известность главного врача. Он пообещал, что если я через два часа не вернусь, заменит меня сам.
Следователь, очень вежливый, задал мне несколько ничего не значащих вопросов и дал подписать протокол.
В нем было записано, что я вышла замуж, а затем уже познакомилась со своим мужем. Я внесла поправку, что все-таки сначала познакомилась, а потом вышла замуж.
Поправку следователь внес и меня отпустил. На следующий день я рассказала об этом вызове моему соседу – старому юристу. Ом мне объяснил, что это сделано для возможности меня судить. «Ждите ареста».
Однажды паша няня пошла платить деньги за квартиру, и вернулась очень хмурая. Вечером плакала, но ничего не говорила. Только на следующий день рассказала, что на улице к мой подошла хорошо одетая женщина и сказала, что если она живет у Недовесовой, то должна знать, что Недовесову скоро арестуют, поэтому лучше Марии Васильевне (няне) заранее перейти от ее хозяйки на работу к ней. Няня горько заплакала и ушла, покачав отрицательно головой. Тогда я поняла, что напрасно выписала дочь, напрасно подвергла ее таким переживаниям и что арест неизбежен. Я даже купила себе сатиновых дешевых, очень скромных платьев специально для тюрьмы. Позже и в тюрьме, и в лагере они пригодились.
Работала я в полную силу, хотя четыре месяца страдала жестокой бессонницей. Потом начала спать, но стала падать. Падала я на асфальтированных гладких тротуарах. Падала, вставала и шла дальше. Начала быстро седеть, и скоро появилась справа на голове седая прядь.
Одинокая жизнь продолжалась, но скрашивала ее дочка. Она дружила много лет с Ирочкой Бочковской, которая была старше Тамары на два года. Родители Иры не возражали против их дружбы и отпускали Ирочку к нам. Я много читала им вслух. Помню, как я читала Гете «Страдания молодого Вертера», понимая, что сами они эту книгу не будут читать. Вертер нередко горько плакал из-за своих сердечных страданий, и девчонки громко смеялись над бедным Вертером. В вечер ареста я тоже что-то им читала, Ирочка ушла от нас уже при следователе. Это случилось 26 октября 1938 года, через 14 месяцев после ареста мужа. За мной пришли человек в штатском и представитель домкома. Велели собираться в дальнюю дорогу. Тамара, уже изучившая Конституцию СССР, спросила, имеется ли ордер на арест. Человек в штатском ответил, что все у него есть, а она, чем разговаривать, лучше пусть поможет матери собраться. Он назвал свою фамилию, по я, к стыду своему, не могу ее вспомнить. Если он жив (он был моложе меня), пусть будет всегда здоров и благополучен. Он очень помог мне в моей лагерной жизни!
Он заявил, что сам будет диктовать, что мне взять с собой. Называл, какие вещи и сколько их нужно. Я уложила четыре смены постельного и нательного белья, шерстяное одеяло, подушку, даже думку, зимнее пальто, обувь, два шерстяных платья, четыре летних. Я спросила, зачем летние платья – дело-то идет к зиме. Он ответил: «за зимой наступают весна и лето». Тогда только я поняла, что ухожу из дома на годы. Он спросил, найдется ли у меня 500 рублей в купюрах по 100 рублей. Деньги были, но более мелкие. Послала няню разменять. Он долго их мял свернул каждую бумажку в трубочку, отдал няне и по просил зашить в разных местах мехового воротника зимнего пальто. Два чемодана с вещами поставил в передней. Велел уложить с собой какую-нибудь домашнюю еду. Это объяснил он, для моих будущих соседок по камере, они будут довольны. Няня упаковала домашние котлеты, пирог и печенье. Он вел меня пешком, «чтобы не пугать соседе тюремной машиной». Перед уходом я написала текст телеграммы сестре с просьбой приехать за Тамарой. По дороге я спросила, надолго ли я ухожу? Он ответил: «точно не знаю, но, думаю, что лет на пять». Прощаясь со мной, пожелал мне крепкого здоровья и посоветовал помнить, что и плохому бывает конец.
Началась тюремная жизнь
Это была временная, дополнительная тюрьма из-за переполнения основной. Располагалась она в обычном двух-этажном доме в тихом районе города. Сколько здесь был камер, не знаю. Видела я только одну большую комнату – камеру, куда меня поместили, и еще медпункт.
Встретила меня в тюрьме Валентина Николаевна старшая медсестра терапевтической клиники, где я работала на протяжении пятнадцати лет. Здесь она совмещала ночные дежурства.
Валентина Николаевна заплакала, увидев меня. Никто меня не обыскивал, а Валентина Николаевна снабдила ватой и бинтами и обещала помогать всем чем сможет. Она рассказывала, что недавно сюда привезли жен знамениты военных преступников – Тухачевскую, Уборевич, Якира, Гамарник, Путну и других. Через несколько дней их увезли неизвестно куда. Позже я встретилась с ними в Темлаге (Темниковские лагеря) . Помню, что вскоре после того, как этих военных объявили изменниками родины, семьи привезли в Астрахань. Городское начальство встретило их даже с некоторым почетом. Поселили в благоустроенных квартирах. Детей определили в школы. Все они были старшеклассниками. Через некоторое время детей обвинили в организации подпольных контрреволюционных кружком. Их арестовали одновременно с матерями, но отправили в разные места.
Поступила я в камеру – большую комнату с обычными окнами, правда, зарешеченными, и со множеством кроватей. Когда надзорная, приведшая меня, сказала, что новенькую зовут Недовесова, то со всех сторон закричали:
– «Вас уже два месяца каждый день вызывают на проверке. Где вы прятались?» – «Дома и на работе», – ответила я к общему удивлению.
Нашлись знакомые – жена профессора-венеролога, партийца с большим стажем, кажется, с 1905 года. Она была очень пожилой женщиной, но еще бодрой. Встретила я здесь и мать одноклассника моей Тамары. Женщины давно перестали плакать. Много беседовали друг с другом. Мне предстояло рассказать о событиях последнего времени.
Мой наставник был прав – домашний харч с удовольствием съели. Съели и предупредили, что не надо повторять их ошибки. Тюремную пищу надо есть с первого дня, т.к. передач от родных нет, есть все равно придется, так что уж лучше начинать сразу.
Эта тюрьма не была отгорожена от обычных домов, из открытых окон к нам доносилась музыка. Тогда были очень модны пластинки «Утомленное солнце нежно с морем прощалось» и «Все хорошо, прекрасная маркиза». Мы слушали их много раз ежедневно.
Передачи и свидания не разрешались. Два дня я представляла собою информбюро. На третий день нас повезли в баню, в основную тюрьму. Выдали каждой по маленькому куску мыла, мочалкой служили носовые платки. Вместо тазов стояли деревянные шайки, очень тяжелые. Вода горячая была без ограничений. Домой нас везли мимо моей квартиры. На окнах висели те же занавески, внешне сохранился прежний вид. Я тогда не знала, что на другой день после моего ареста там произвели тщательный обыск, изъяли мой гимназический дневник, который я вела в возрасте 14—15 лет. Дочке разрешили отобрать пять медицинских книг по ее усмотрению. Я очень потом сожалела, что в их число не попали сочинения Гиппократа. Все мое имущество вывезли как бесхозное. Еще при мне в городе был открыт магазин, где продавалось очень многое из подобного «бесхозного» имущества. В городе этот магазин называли магазином чужих слез. Продавалось там все очень дешево.
Через несколько дней после бани нас, тридцать пять астраханок, повезли в этап. Ехали поездом в Саратов. В Саратове нас выстроили на вокзале в шеренгу и под охраной с собаками повели пешком в тюрьму. Поместили в большой камере, на втором этаже, где отбывали бытовички, в основном воровки. Деньги у нас отобрали, потом выдавали на покупки в ларьке. Кровати пришлось сдвинуть по две, чтобы спать втроем.
Получилось так, что в камере на одной стороне жили чесеировки (члены семей репрессированных), а на другой – бытовички.
Среди бытовичек была девушка лет 14, приговоренная к десятилетнему заключению в тюрьме, без прогулок, без права перевода в лагерь, где жизнь легче, чем в тюрьме. Все бытовички, как одна, ухаживали за девочкой. Они делали ей замысловатые прически, красили щеки красными бумажками от конфет. Ей оставляли, что повкусней. Мыли в бане. У нас просили покупать в ларьке для нее конфеты, варенье, булочки. Не учили только ничему полезному. Наша сторона камеры начала учить ее вязать. Мы собрали для нее чулки, рубашки, носовые платки. Девочка была детдомовкой. Какой-то мальчишка подговорил ее порвать портрет Сталина. Она изорвала портрет в клочки да еще потоптала ногами, И получила такую ужасную меру наказания, несмотря на несовершеннолетие. Девочка была всегда заторможенная. У меня создалось впечатление, что ее надо бы показать психиатру, но добиться этого мы не могли.
В тюрьме не полагалось иметь ничего режущего, колющего, даже шпилек для волос. Однажды через окно с третьего этажа к нам в консервной банке спустили записку – камеру предупреждали о том, что будет обыск.
Записку прислала известная на всю тюрьму заключенная. Она была дочерью очень сурового прокурора, много лет работавшего в Саратове. Студентка стала «законной» воровкой. Участвовала в грабительских налетах, побегах из тюрьмы. В общем, папе своему доставляла одну только «радость»... По слухам, прокурор вынужден был уехать из Саратова. Дочь его была сущим наказанием для администрации тюрьмы. У нее с нашими «вожаками» была прочная связь. Узнав, что в нашей камере есть врач, она обращалась ко мне за медицинскими советами. Получив письменный ответ, всегда благодарила запиской. Записки ее были грамотны. Про нее рассказывали, что она красива.
Лично меня обыск мог лишить только шпилек, несколько штук еще сохранилось. Обыск проводился превентивно – надвигалось 7 ноября. Как только раздались шаги, приближающиеся к нашей камере, «главная» отобрала у меня шпильки. Едва «гости» вошли, она с удивительной ловкостью опустила шпильки одному из них в карман, так же ловко вынула их при его уходе из камеры и подала мне, сказав при этом: «Вот так!»
Однажды староста нашей комнаты, кассир по профессии, осужденная за растрату, услышав за дверью шаги, тихо постучала в дверь и что-то в глазок сказала. Тут же к ней подбежала «главная» камеры и начала ее бить. Староста только закрывала руками лицо, не кричала. Кричать и стучать стали мы, чесеировки. Пришла «надзорка», старосту увели. И пригрозили всем штрафизолятором. Старосту по тюремным правилам избирала камера. Мы молчали. Бытовички совещались довольно долго и предложили старостой стать мне. Я очень удивилась и категорически отказалась. Спросили – почему? «Так ведь вы парашу выносить не будете, полы мыть не станете, слушаться меня вас не заставишь».– «Так и будет, слушаться не станем».– «Ну, а я старостой не стану». На том дело и кончилось.
Я все думала – почему выбор пал на меня? По их словам, они меня «зауважали», так как я не боялась с ними якшаться. Оказывала медицинскую помощь, быстро купировала истерический припадок одной из них. Много рассказывала о медицине. Старосту выбрали из них.
7-8 ноября отношение к нам резко изменилось. Бытовички не стеснялись называть нас врагами народа, кричали, что советским людям (им) противно жить с нами в одной камере и т.п. Наслушались мы немало в эти дни.
Темлаг
Из Саратова нас везли поездом в Мордовию, в Темниковские исправительные трудовые лагеря (Темлаг). Доехали мы до крупной станции Потьма (в Мордовии). Дальше следовали по лагерной узкоколейке. Помню станцию, на стене которой красовалась надпись ЯВАС. Мы задумались – кто кого? За что? Оказалось, просто мордовское название станции. Проехали станцию «Перековка».
Наконец добрались до станции «Амор». Здесь нас высадили.
Встретили нас торжественно – конвой, собаки и одна телега с лошадью для перевоза багажа. Построили парами и повели пешком по тропе через лес. Среди нас были две пожилые женщины, причем одна из них страдала болезнью Паркинсона. Успеть за нами они никак не могли и все время отставали от шеренги. Я подошла к старшему конвоя и попросила посадить этих двух женщин на телегу. Он закричал: «Может быть, и тебя посадить? Устала?» Потом поинтересовался, кто я. Узнав, что врач, спросил, почему одна женщина еле передвигает ноги, я сказала, что это такая болезнь. Конвоир распорядился посадить женщин на телегу.
Шли мы около двух часов и наконец подошли к высокому бревенчатому забору с воротами, сторожевой вышкой и часовым на вышке. Над воротами висел написанный на кумаче плакат-приветствие «добро пожаловать». Вся колонна замерла. Каждый думал: за что такое издевательство? Я спросила старшего: это приветствие предназначено для нас? Он смутился и ответил, что так в начале ноября встречали сотрудников, праздновали годовщину Октября в пустом новом бараке, который теперь предназначался нам.
Нас ввели во двор, впустили в барак, появилась пожилая женщина, отрекомендовалась старостой барака. Предупредила, что сейчас будет обыск. Если есть деньги, надо их отдать, так как в лагере все будут выдавать по талонам. За деньги здесь ничего не купишь. Мои деньги я еще в тюрьме переложила в подушку. Делавшего у меня обыск предупредила, что в подушке у меня лежат пять бумажек по сто рублей, он их нашел, отдал мне, предупредив, что придет кассир и под расписку примет у всех деньги.
Как только охрана ушла, пришли какие-то военные, называли каждую по фамилии, объясняли, что осуждены , мы особым совещанием НКВД как члены семей изменников Родины сроком... Сроки были разные – мало кто получил по 3 года, больше – по 5 лет (как и я), а основная масса – по 8 лет. Таким образом, только по прибытии в Темлаг мы узнали, за что и на сколько мы приговорены.
Барак, предназначенных для жилья, был только что отстроен, в нем еще пахло деревом. По обе стены громоздились двухэтажные нары. Каждая на четыре человека.
Поперек они делились подголовниками на две нары. Мне досталось место на втором этаже рядом с учительницей Якиманской. Ноги упирались в оконную раму. Зимой по утрам в ногах постели лежал снег. Жило в бараке около трехсот женщин. Барак заселялся постепенно.
Последними привезли около тридцати грузинок из Тбилисской тюрьмы. У всех волосы были сбриты. Содержались они в тюрьме больше года, без передач. В большинстве это были молодые, очень голодные женщины. Свою пайку хлеба они тут же съедали и весь следующий день голодали. Некоторые астраханки отдавали им хлеб, так как еще не испытывали голода. Грузинки каждый вечер подходили к нам, и мы делились с ними.
На другой день нашей жизни в лагере я вышла во двор и была поражена открывшимся зрелищем. День стоял ясный, морозный. Во дворе было много женщин – и как диковинно выглядела их одежда! Одни гуляли в каракулевых и котиковых манто и в тюремных буцах на ногах. Другие расхаживали в вечерних туфлях на высоких каблуках и в лагерных телогрейках. Многие были в приличных пальто и тюремных байковых ушанках. Все это на фоне ясного дня казалось до того фантастичным, что походило на какую-то странную киносъемку или отделение психиатрической больницы.
Окружал Темлаг со всех сторон густой лес. Даже вышек других отделений не было видно. Когда мы приехали в Темлаг, кроме бараков и кухни, здесь не было еще ничего выстроено. Кухню обслуживали наши женщины. Уже при нас построили, баню и прачечную, этим комплексом заведовала Ядвига Пауль, жена бывшего начальника личной охраны Сталина. Она много рассказывала о Сталине и о том, как Сталин застрелил свою жену Надежду Аллилуеву.
Книг, газет у нас не было, и вдруг однажды их принесли целую груду. Староста объявила, что газеты теперь будут доставлять ежедневно. И действительно, мы получали все газеты, выходящие в СССР на русском, армянском, еврейском и других языках. Книги в основном были политические, устаревшие. Жены некоторых авторов этих книг сидели вместе с нами. Сколько было слез, когда подавали жене книгу ее репрессированного мужа. Объявились добровольцы, читавшие ежевечерне центральные газеты вслух. Большинство читало вслух плохо, как-то я попробовала – и с того вечера стала «штатным» чтецом, должно быть, сказалась привычка читать лекции студентам. Одновременно с этим разрешили петь в бараках. Предложили даже организовать хор. Никто не хотел записываться. Пришел уговаривать сам уполномоченный (высшее над нами начальство), Сказал, что из формуляров известно – среди нас есть профессиональные певицы и драматические актрисы. В чем дело? Ему объяснили, что недавно за пение даже вполголоса угрожали штрафизолятором. Он объяснил, что концерты разрешены свыше. Первый настоящий концерт остался надолго в памяти всех женщин. Один из бараков превратили в зрительный зал. Кто-то из ВОХР одолжил аккордеон, так что пели под аккомпанемент. Выступали: колоратурное сопрано миланской школы, прима московской оперетты и драматические актрисы Московского Художественного и Ленинградского Большого драматического. Ленинградка прочитала сцену прихода Анны Карениной к сыну Сереже. Зал потихоньку плакал. Артистка театра Вахтангова читала Михалкова «Мамы всякие нужны». Артистка Малого театра – отрывок из «Без вины виноватые». С того времени концерты устраивались регулярно.
Через некоторое время я получила посылку от сестры. Она работала врачом, ее вызывали к следователю НКВД. В те дни был арестован наш брат, вызванный из-за рубежа. Сестра полагала, что и она, как брат, от следователя не вернется. Но следователь продержал ее несколько минут и отпустил. На ее вопрос, можно ли послать мне в лагерь посылку, он ответил положительно. Сестра послала конфеты, сухари, сыр и два гребешка – редкий и частый, должно быть, боялась наличия паразитов. На бумажках от конфет с внутренней стороны сестра написала, что дочь моя в Москве, здорова, учится в школе, и что об Илье, нашем брате, ничего не известно. Он был репрессирован в июле 1938 года. Его вызвали из-за рубежа, где он работал, якобы для доклада наркому. Приехал в Москву. Доложил о прибытии. Вызвали, указав время, к назначенному часу явился «на доклад», парадно одетый, при всех своих регалиях. Больше его не видели. (В 1955 году появилась возможность запрашивать о судьбе репрессированных. Посылала в Москву запрос из Караганды, где проживала. Довольно быстро получила ответ, что мой брат умер от воспаления легких в местах заключения Карагандинской области. Многие наши женщины получали извещения, что их мужья умерли там, откуда шел запрос).
Вскоре разрешили писать письма детям, находившимся в детских домах. Но, во-первых, женщины в большинстве не знали, где их дети, а во-вторых, писать было нечем и не на чем. Буквально вымаливали в ларьке кусочек хотя бы оберточной бумаги, некоторым удавалось найти листочки из тетрадей, оставленных вохровцами «по рассеянности» в бараках. Письма писали очень коротко, но подробно – адрес предполагаемого нахождения детей и сверху крупно – детский дом. Письма складывали треугольником, отправляли без марки – где ее было купить. И все-таки, как правило, письма доходили.
Моя приятельница по бараку Елена Самойловна Затонская получила первую посылку из Киева от дочери. В посылке были сухари и шпиг, очень прочесноченный. Так даже из других бараков приходили понюхать сало, потому что оно «пахло колбасой».
Елена Самойловна была замечательным человеком, образованная, по профессии врач. Она страдала туберкулезом позвоночника. Ее муж был наркомом просвещения и членом Политбюро Украины. Дочь-студентка была невестой военнослужащего. При начавшихся арестах в Киеве этот молодой человек добился назначения в какой-то отдаленный район, спешно женился на дочери Затонских и, возможно, этим спас себя и свою жену.
О сыне Елена Самойловна говорила как о серьезном литературоведе, хотя ему еще не было 16 лет. Она уверяла, что ее Дима обязательно будет литературоведом, т.к. и сейчас у него обширные познания по русской и советской литературе и его суждения по отдельным произведениям всегда подтверждаются крупными знатоками. Действительно, ныне Дмитрий Затонский один из крупных литературоведов и критиков Украины. В 1974 году летом, во время моего пребывания в Клеве, мне очень хотелось узнать о судьбе Е. С. Затонской, и я собиралась позвонить ее сыну. Моя хорошая знакомая, так называемая «однополчанка» по лагерю, рассказала, что она говорила на эту тему с Затонским, зная его с детства. Он отвечал весьма сухо и сдержанно – мать вернулась из лагеря с явно нарушенной психикой и дожила свой век в психиатрической больнице. Как громом поразило это меня. Более уравновешенного, мудрого, доброго человека я не встречала. Я знала, что душевных заболеваний в ее семье не было. Была Елена Самойловна великолепным рассказчиком. Много рассказывала об А. С. Макаренко которому ее муж как нарком просвещения помогал в работе.
Очень забавно она рассказывала о Столярском, ученики которого на одном из международных конкурсов стали лауреатами – это были Ойстрах, Гилельс и кто-то еще. Столярский – еврей, по-русски говорил плохо. Рассказывая, как его школу хвалили за границей, где проходил конкурс он сказал: «Это был террор». Все засмеялись. «Нет, был настоящий фураж». Хохот стал общим. Наконец он заявил: «Это был настоящий фурор школы имени меня». Школа действительно называлась именем Столярского. Елена Самойловна очень красочно это рассказывала.
Астраханки жили в общем бараке. Среди нас была очень пожилая женщина, фельдшерица по образованию, жена профессора-венеролога Астраханского медицинского института. Фельдшерицы старой школы были образованными людьми. Она много лет работала самостоятельно, заменяя врача, в разных местах Сибири и Урала, среди уральских казаков. Эта Анастасия Яковлевна была на нашем участке признанным толкователем снов. Каждое утро у ее нар собиралась кучка женщин, просящих разъяснить значение сна. Приходили женщины и необразованные, и весьма эрудированные. Все были в постоянной тревоге и нуждались в успокоении. Она не спеша, подумав, давала благоприятное объяснение любому сну, и женщины уходили от нее успокоенными. Мне Анастасия Яковлевна много рассказывала о своих наблюдениях над родом человеческим.
Один рассказ был очень интересен. Около ста лет назад уральские казаки при первых родах жены «рожали» вместе с женами. Муж корчился, стонал, только не кричал, и наконец объявлял: «все, родили». В это время входила одна из близких ему женщин и сообщала, что жена его разродилась. Она сама несколько раз наблюдала подобные «роды» мужей. Об этом обычае уральских казаков я нигде не читала и не слыхала.
Среди женщин нередко вспыхивали ссоры. Очевидно, для того, чтобы их усмирить, начальство дало работу. На носилках из зоны по графику женщины носили землю и сваливали ее за забором. Работали часа два в день. Через несколько дней выяснилось, что носили мы одну и ту же землю туда и сюда. Женщины сообразили, что они фактически «решетом воду носят», и сказали об этом охране. «Земляные работы» прекратились.
В январе 1939 года уполномоченный нашего участка вызвал меня. Расспросил о моем врачебном стаже, моей бывшей работе и предложил проводить ежедневные занятия с врачами нашего участка (их было 42 на 1000 женщин) на медицинские темы. Сообщил, что, по его сведениям, есть врачи более квалифицированные и опытные, нежели я, но они не работают уже около двух лет и кое-что позабыли, а у меня все еще свежо в памяти. Я поинтересовалась – где можно достать литературу. Он улыбнулся и ответил, что все книги, нужные мне, должны быть у меня в голове. В этот же день старосты всех бараков объявили об обязательной явке врачей завтра в шесть часов вечера в пятый барак. Собрались врачи почти всех специальностей, но преобладали терапевты.
На первом занятии разбирали различные пневмонии, их течение, осложнения и лечение. Семинар длился десять дней. Высказывались многие врачи. Дополняли мое сообщение, выступали со своими наблюдениями. Семинаров по болезням сердца провели несколько. На занятия приходили охотно и выступали также охотно. Было ясно, что занятия имеют успех. А у меня появились заботы и немалые – готовиться к занятиям, вспоминать все известное, систематизировать и стараться поинтереснее изложить.
Почти одновременно с нашими семинарами во всех женских отделениях открыли пошивочно-вышивальный комбинат по пошиву мужских верхних рубашек с украинской вышивкой, женских крепдешиновых сорочек с вышивкой рококо и платьев из маркизета. Четыре отделения занимались вышивкой, одно из пяти отделений шило из полуфабрикатов вещи.
Нашему девятому участку рисунки для мужских рубашек присылали из пятого участка. Для работы был специально построен новый барак, большой, очень светлый. Когда барак выстроили, врачей пригласили его осмотреть. Все в один голос сказали, что это госпиталь. Впоследствии, во время Отечественной войны он действительно был использован под госпиталь.
Бригадиры на нашем участке были строгие, норму давали немалую, но женщины так истомились от безделья, что стали значительно перевыполнять ее. Некоторые давали четыреста процентов, и быстро наступила расплата – зрение у многих начало портиться.
Вышивали мужские, рубашки из льняного полотна в мелкую клетку без канвы. Очень любили вышивальщицы бригадира по вышивке рококо – Веру Валентиновну. Напутает что-то в вышивке мастерица, бежит к бригадиру. Плачет: «Все распускать?». Вера Валентиновна всегда успокаивала, говорила: «Надо помнить, что утюг многое решает», брала вышитую вещь, сама разглаживала, и все приходило в норму в большинстве случаев, только как исключение приходилось распарывать испорченное место. Бригадиром по украинской вышивке была женщина суровая, вышивальщицы ее очень боялись.
Состав наших женщин был разнообразен – и жены элиты того времени, и жены машинистов паровозов, и т.п. На нашем участке жили жены Тухачевского, Уборевича, Гейлита и других полководцев, жены наркомов, членов ЦК партии, дипломатов, торг– и полпредов. Особенно меня поразило присутствие в нашем лагере жены и дочери героя «Железного потока» Серафимовича – Ковтюха, жены писателя Киршона. Я дружила с двумя Мариями – Марией Николаевной и Марией Ивановной. Обе были из Уральского городка Кыштыма, где их мужья работали железнодорожными машинистами. Они очень скучали по своим семьям, но и гордились вниманием, которое им уделило НКВД. «Подумай, Григорьевна,– говорили они мне,– провезли нас по всей России бесплатно. Мы дома тоже имели право на бесплатный проезд, но никогда им не пользовались, дальше своего городка никуда не ездили. Кормят опять же бесплатно. Спим на белых простынях, на подушках белые наволочки, а дома-то кроме пестрого ситца никогда ни наволочек, ни простыней не имели. Сколько народу здесь повидали – и француженок, и жидовок, даже япошку видели. Вот еще бы «троцкистку» поглядеть – тогда и помирать можно». На нашем участке проживала старушка Седова, родственница Троцкого. Как-то я показала ее моим Мариям. Теперь, по их словам, и умирать можно, все повидали.
Среди женщин многие лично знали Марию Ильиничну Ульянову и знали, что в 1937 года она находилась под домашним арестом. Много горевали и плакали, узнав о гибели В. П. Чкалова. На нашем участке находилась Мария Эразмовна Малецкая, родная сестра жены Чкалова Ольги Эразмовны, мы с ней поддерживали, дружеские отношения. Она рассказывала мне, что незадолго до ареста мужа, видного работника Ленсовета, она, ожидая возможного ареста, поехала в Москву к Чкаловым с просьбой взять их сына к себе. Мальчику было около десяти лет, он учился в Ленинграде в музыкальной школе для одаренных детей. С какой же горечью она говорила, что король воздуха, знаменитый Чкалов не нашел возможности приютить у себя ребенка. После разрешения переписки Мария Эразмовна узнала, что ее сын находится в детском доме.
О дальнейшей судьбе ребенка я не знаю.
Даже в те суровые времена не все действовали подобно знаменитому Чкалову – Серго Орджоникидзе взял к себе детей арестованного Пятакова, не побоялся!
Сплошные стенания, рыдания, вопли неслись с грузинской стороны барака, когда из газет мы узнали о назначении Берии наркомом внутренних дел, о переводе его в Москву. Грузинки кричали, что теперь половина московских женщин испытают их, грузинок, долю, что нет на свете человека более жестокого, чем Берия.
Как-то среди нас появилась Наталия Сац – руководитель Московского детского музыкального театра. Ее тоже постигла наша участь, но она была в каком-то другом легере. Должно быть, в Мариинских лагерях. Нам было известно, что существуют лагеря чесеир в Мордовии (Темлаг), Казахстане (Акмолинск), где-то в Сибири. Пробыла Н. Сац очень недолго на нашем участке, буквально несколько дней, и исчезла. В свое время, еще в бытность мою на воле, я сама в газетах читала, что руководитель Московского детского театра Наталия Сац на протяжении многих лет вела вражескую работу в детском театре.








