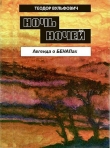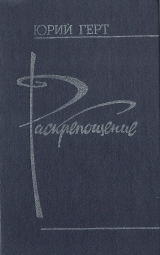
Текст книги "Раскрепощение"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Annotation

I
ДИНЬ-БОМ
СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ
ЗАПИСКИ ВРАЧА
Перед арестом
Началась тюремная жизнь
Темлаг
Сегежлаг
Карлаг
В Сарепте
Долинка
Караганда
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ «ЗАПИСОК ВРАЧА»
ПРИЧАСТНОСТЬ
ВРЕМЯ И ЛЮДИ
ПОЛИТАНСКИЙ
II
ВОПРОС ВОПРОСОВ
ПОЕЗДКА НА ГАЗОБЕТОННЫЙ
МЫ ЗНАЛИ, НА ЧТО ИДЕМ...
ШУХОВ
ДОМБРОВСКИЙ
ХУДЕНКО
III
ВОСКРЕШЕНИЕ
РЫЦАРЬ
ПОЕЗД ИДЕТ В ПРАГУ
notes
1
2

I
ДИНЬ-БОМ
В сущности, Караганда возникла в моей жизни задолго до того, как я ее увидел. Я и думать не думал в те времена, что увижу ее когда-нибудь, что она станет главным городом в моей судьбе. Не думал... Но где-то в душе, в темной, потаенной ее глубине уже позвякивало, позванивало это слово.
Впервые, не останавливая внимания, оно обнаружилось в потрепанном, замусоленном учебнике географии для четвертого класса, на карте полезных ископаемых, рядом с черным, означающим уголь квадратиком. Подобных квадратиков на карте было много, и все одинаковые. Но тогда же к нам пришло письмо, его принесли в конверте, грубо слепленном из синей тетрадной обложки, в обратном адресе стояло: Караганда... Вот когда это слово ожило, звякнуло для меня впервые.
Но все было смутно, все было запутанно и туманно в этом слове с черным квадратиком внутри. Хотя бы то, что за ним стояло второе слово: Долинка... Мы с мамой вертели конверт и так и сяк, вникая в неразборчивую, стремительную скоропись. До́линка?.. Или, может, Доли́нка?.. Но как их соединить – черный антрацитовый кубик и зеленую, благоуханную, в холодных росяных брызгах долинку?.. И еще – тонкий, пронзающий небо флагшток, полотняные палатки, серебристые звуки горна, то есть лагерь, к которому примагничено было: пионерский?.. И как связано все это было с тетей Верой, сестрой моего отца, которую до войны еще арестовали, отправили в лагерь в Сегеже, в Карелии, а с началом войны перевезли в Караганду, и тоже в лагерь... Все, все было темно, непонятно, и само угрюмое, железное, гремучее слово Караганда мерещилось мне как бы обтянутым черной каймой.
Но было в нем, в этом слове, и нечто совсем иное... Однажды, несколько лет спустя, из него, как из грачиного гнездышка птенчик, выпорхнула почтовая открытка, написанная мелким и четким, буковка к буковке, девичьим почерком, затем еще и еще. И вот я читал, не веря себе, своим глазам:
Пиши, я отвечу тебе
Мятежным порывом метели,
И солнечным светом в окне,
И звоном апрельской капели...
Стихи казались мне прекрасными. С ними я засыпал, с ними просыпался. Они утешали меня после неудачных контрольных по тригонометрии и вселяли надежду, что в мире я не одинок.
Наш «роман в письмах» продолжался около года. Ее звали Ника. Это было ее полное, не усеченное имя, на греческий лад – Ника, Победа... Когда ее мать «взяли» – так же, как тетю Веру,– еще до войны Ника оказалась в детдоме, там она росла, пока ей не разрешили переехать к матери, к тому времени отсидевшей свои пять лет,– в Долинский лагерь. В девятом классе я уже понимал, что лагеря бывают не только пионерские. «Отверженные» Гюго, Козетта, Караганда и Ника, дочь лагерной подруги тети Веры,– все сплелось в одну многоцветную нить, один ее конец сжимала моя рука, другой тянулся в далекую, почти фантастическую даль – Караганду...
Письма, казалось мне, приходят откуда-то из межпланетного пространства, это где-то там, между Юпитером и Сатурном, парит беломраморная Ника... И туда, в межпланетное пространство, чтобы еще больше сблизить наши сердца, я отослал самое лучшее из всего, что у меня было,– «Илиаду» Гомера в переводе Гнедича (антикварное издание) и «Анти-Дюринг» Энгельса в черном переплете, напоминающем комиссарские кожанки 20-х годов.
Не знаю, как Гомер, но «Анти-Дюринг» и комиссарские кожанки там, в Долинке, ожидаемого восторга не вызвали, возникло охлаждение, потом разрыв... Зато у меня нашлись единомышленники – не в межпланетном пространств, а в нашей же богоспасаемой Астрахани, такие же школьники, как я. Нашим лозунгом было – «Революция продолжается!». Деникина и Врангеля нам заменяли мещане и обыватели, которыми, как оказалось, кишел наш город, а школы, где мы учились, особенно. Вскоре все мы оказались в довольно сумрачном, растянувшемся на полквартала здании, перед следователями МГБ, не желавшими верить, что нас всего-навсего пятеро, трое ребят и две девушки. Предполагалось, что за нами скрыта подпольная, антисоветская организация, что ею руководят матерые враги народа, возможно, связанные с иностранной разведкой. Но на столе у «моего» следователя лежало единственное доказательство нашей подпольной деятельности – ученическая тетрадка за 12 копеек, пышно именуемая нами журналом.
Однако шел 1947 год, и следователь не был простаком: наша пятерка в его неулыбчивых устах превратилась в «организацию», наши встречи – в «сходки», наш журнал – в «антисоветское издание». Тем не менее все это выглядело как шутка, пока мне не был задан вопрос, какие связи я поддерживаю с Карагандой?.. Кем она мне приходится – Вера Григорьевна Недовесова?.. Каково содержание нашей переписки?.. Все наши письма были ему знакомы, и «роман в письмах» – тоже. А когда, помимо тетушки, выяснилось, что и ее брат, мой дядя, также – враг народа, арестованный в том же 1937 году, сделалось вовсе не до шуток...
Дело наше, правда, по тем временам кончилось ничем – всего-то комсомольским выговором и лишением медали – у меня, примерно такой же карой – у моих четверых друзей, но именно там, в длинном, похожем на пенал кабинете следователя, слово «Караганда» отчетливо звякнуло у меня где-то под самым ухом...
В те годы часто, много, взахлеб пели русские народные песни, среди них – с каким-то особенным, горько-восторженным чувством – каторжные: «Бродягу», «Славное море, священный Байкал». И была еще одна, которую мне, мальчику, доводилось иной раз слышать во время взрослых застолий, когда собирались в основном люди пожилые или совсем старики, седоголовые, с византийскими темными лицами, с протяжными, скрипучими голосами:
Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль...
Так они пели. А дальше... Дальше начиналось самое главное:
Динь-бом, динь-бом —
Слышен звон кандальный,
Динъ-бом, динь-бом—
Путь сибирский дальний,
Динь-бом, динь-бом —
Слышно там и тут:
«Нашего товарища на каторгу
ведут...»
Я тогда не знал, что слова этой благодарно подхваченной народом песни написал в прошлом еще веке граф Алексей Константинович Толстой. А и знал бы – что с того?.. У меня и сейчас, как тогда, дрожь пробегает по телу, и я будто вновь слышу эти хриплые голоса, это мерное, колокольное «динь-бом», этот стон, прорвавшийся в последних словах... А тогда мерещились мне ровная, бесконечная степь, хлопья снега, засыпающего дорогу, и вереница идущих по ней – затылок в затылок – понурых кандальников. Когда они поднимают головы и оборачиваются, я вижу знакомые лица. Знакомые-незнакомые, как сквозь густую, в несколько слоев, кисею.
Этих лиц, знакомых-незнакомых, становилось все больше. Об одних я слышал, другие видел сам. Пока я учился в Вологде, из нашего института исчезли трое или четверо студентов, которых я знал. Как-то раз, студентом же, я приехал в Москву, пришел переночевать к приятелю – и еще из прихожей увидел в комнате сидевшего спиной ко мне человека, он поднялся мне навстречу, едва я переступил порог, схватил меня за руку и странно хихикнул. Сначала хихикнул, потом заплакал, тусклый огонек мерцал в его пустых, широко раскрытых глазах, из уголка скошенного рта ползла слюна... «Это мой отец, – сказал приятель, он приехал оттуда...».
После института я работал учителем в маленьком рудничном поселке в Заполярье, на Кольском полуострове. Здесь я увидел раскулаченных, переселенцев, отбывших срок, шел пятьдесят четвертый год. Они не любили рассказывать о своем прошлом. В армии, после отбоя, мы с Олегом Воронцовым, тоже учителем и моим товарищем по службе (где ты сейчас, Олег?.. Ау, откликнись!..), сходились возле черной, еще не выстывшей печки, сладко пихнувшей подсыхающими валенками и портянками, и под громкое храпение батальона, разместившегося на двухъярусных койках, говорили о главном (это мы чувствовали), быть может – о самом главном... Олег рассказывал о своем отце, который работал секретарем райкома партии, потом его арестовали, началась война – он ушел на фронт и погиб в штрафбате. Арест его был тайной для Олега... И таинственной была история, которую рассказал ему я. После школы я некоторое время жил в Москве, у своей тетушки, сестры Веры Григорьевны Недовесовой. Однажды, довольно поздно вечером, когда мы вернулись из театра, соседка по коммунальной квартире сообщила шепотом, что пока нас не было, в дверь позвонили, она открыла и увидела на площадке не то бродягу, не то нищего, замерзшего, в каких-то обносках. Он сказал, что в Москве проездом, добирается домой, что в лагере отбывал срок вместе с Ильей Гертом (где-то, как она поняла, на Колыме...), что Илья умирает – у него больное сердце, он весь отек, не поднимается с нар – и просил разыскать сестру, назвал адрес... Это была первая за десять лет весточка от моего дяди – одного из тех, в черных кожанках комиссаров двадцатых годов, которыми бредила наша юность. Волго-Каспийская военная флотилия, Раскольников, II армия, басмачи, академия РККА, работа в разведке... И вот – эти нары, раздутые ноги-колоды, Колыма.
Соседка привела гостя к себе в комнату (шел 1947 год...), накормила, обогрела чайком – и он ушел, уехал на Казанский вокзал, чтобы продолжить свой путь, задерживаться в Москве он не мог... Мы с тетушкой тут же отправились на Казанский, бродили по его громадным, забитым народом залам, присматривались... Дали объявление по радио, на которое посланец Колымы не мог не отозваться, не подойти к назначенному месту встречи – справочному бюро... Мы вернулись домой под утро. Ниточка, тоньше паутинки, оборвалась, даже не давшись в руки.
Вот и все...
Нет, не все. В армии, в школе, в студенческие годы и я, и Олег повидали и натерпелись много такого, о чем необходимо было рассказать друг другу, обсудить, найти выход.
Храпела, посапывала, бормотала во сне казарма, спали сержанты, нас никто не слышал, от круглых, обшитых жестью боков печи веяло еще не выстывшим теплом и, казалось, надеждой. Неясной, тусклой, как огонек в ночной казарме,– с жизнью, начинавшейся за высоченным забором нашего городка, соединяли нас только письма, в которых уже теплилось чуждо, непривычно звучавшее слово «реабилитация...».
Однажды, будучи в увольнении, я зашел в редакцию журнала «На рубеже», где до того с удивившей меня доброжелательностью приняли, а затем напечатали мою первую повесть. После казармы, плаца, марш-бросков редкие посещения редакции бывали для меня отдушиной. Я добирался до нее хитрыми окольными путями, поскольку в будние дни увольнения для солдат строго запрещались, и на каждом углу тебя мог сцапать патруль, чтобы препроводить на гарнизонную гауптвахту. Но время от времени я все-таки отлучался из части, как бы без ведома начальства, на свой страх и риск. Таким вот образом в будний серенький денек затяжной карельской весны я добрался до тихого двухэтажного дома на улице Энгельса, где на первом этаже располагалась редакция, и с облегчением юркнул в парадное.
Здесь, в двух или трех тесноватых комнатах, находилось несколько человек, авторы, заскочившие по делу или без дела, работники журнала. Я едва успел поздороваться, сбросить шинель, как распахнулась дверь редакторского кабинета, на пороге показался Дмитрий Яковлевич Гусаров.
– Прошу всех пройти ко мне,– проговорил он, помолчав и, видно, приняв какое-то решение.
Не понимая, что случилось, но чувствуя, что – случилось, случилось-таки...– я вместе со всеми прошел в кабинет и оказался за длинным, под зеленым сукном столом.
– На двадцатом съезде партии, на закрытом заседании Никита Сергеевич Хрущев выступил с докладом,– сказал Гусаров.– Текст доклада принесли мне под расписку, через два часа я должен его вернуть, а пока я хочу познакомить вас с ним, потому что он всех касается...
Стоит ли говорить, что пока он читал тоненькую брошюрку, с крестьянской тщательностью выговаривая каждое слово, никто не обронил ни звука. И что бы ни узнал, ни прочел и ни услышал я впоследствии о Сталине, ничто не могло сравниться с впечатлением, пережитым тогда в кабинете Гусарова. Потом были подробности, детали, словно выхватываемые из темных углов и закоулков лучом фонарика. Пронзительные, ужасающие детали, но—детали, детали... А доклад был – как вспышка многоветвистой, расколовшей небо молнии, на мгновение озарившей мертвым голубым светом все гигантское, от горизонта до горизонта, пространство, всю могильно оцепеневшую страну с холодным, неживым блеском озер и рек, с вереницами крестов, уходящих из конца в конец, – страну, где мы жили... «Динь-бом,– слышалось отовсюду,– динь-бом, динь-бом...».
Короткая была вспышка, но до того яркая, что картина эта впечаталась в память, врезалась в сердце – на всю жизнь.
Ошеломленные выходили мы из кабинета. Первым оправился поэт Марат Тарасов. Крутанув полненькими бедрами, с наигранной беспечностью он произнес:
– Это политика. И стихов не касается.
Мне запомнились его слова...
А спустя неделю я слушал доклад Хрущева второй раз – в казарме, где собрался наш батальон. Я сидел со своими батарейцами – двухметровым верзилой Яшиным, слесарем из Электростали, с пудовыми кулаками, пускавшим иной раз их в ход... С милым, добрым, ласковым Гургуцей, татарином из-под Казани, от невинной шутки впадавшим в ярость... Тут же сидели наш умный, сдержанный, всегда тактичный комсорг Круглов, горняк из Мончегорска, и хозяйственный, лукаво-простодушный мужичок Глега, «западник», ставивший свою подпись печатными буквами, и незадолго до армии отсидевший срок Егоров, которого как-то едва не забили насмерть за украденную у соседа по койке пятерку... Все, вся страна собралась, казалось, в нашей казарме – и слушала, слушала, не дыша.
И снова, как в редакции, во все, что мы слышали, и верилось, и не верилось – тягостно, страшно было в это поверить. Ведь не о Сталине шла тут, по сути, речь, хотя и о нем, конечно. Но все-таки – больше о нас самих.
О том, как были мы глупы, слепы, с каким восторгом и упоением отдавались обману. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе...». Не верили себе... Вот что было главным.
Вспоминались мне при этом Вологда, наш институт, студенты – большей частью из деревень, из колхозов, где за трудодень выдавали в лучшем случае 50 граммов зерна, где вместо электричества жгли керосин, а то и лучину, и мылись в русской печи... Пятого марта 1953 года у этих ребят я не видел на глазах слез, не слышал горестных вздохов, и тогда это, помню, очень меня смущало... Но теперь, помимо всего прочего – у меня рождалось какое-то чувство своей собственной вины... Смутной вины, в которой еще предстояло разобраться...
Память всегда сберегает лишь обрывки, островки прошлого. И сейчас ясно видится мне ротная наша каптерка, лотки для мин, противогазные сумки, солдатские чемоданчики с кое-каким барахлишком, прикопленным к демобилизации... Банники, ветошь, оружейное масло из запасов старшины... Яркое утреннее солнце озарило полутемную обычно каптерку, в которую я забежал зачем-то и на несколько минут оказался в одиночестве, немыслимом в солдатской жизни, где если не казарма, то – строй, плац, полигон... И в эту минуту одиночества, ясности, тишины – ясная, отчетливая мысль, как отблеск той молнии: ведь и я сам виноват... Причастен к той общей и страшной вине – перед теми... Которые, подозревал ты, в чем-то да виноваты... Поскольку не может быть – чтобы так вот просто, безо вся кой вины... Ты ведь и себя готов был признать виноватым – тогда, перед следователем. Не признал, но готов был еще немного – и признать... Но понять, почувствовать свою вину – значит, понять ,почувствовать, какими они были... И как случилось то, что с ними случилось?..
Я видел в тот миг силуэт выгнувшейся широкой дугой земли, видел силуэты бредущих вереницей по этой дуге людей, среди них был и мой дядя Илья, и его сестра, и отец Олега, и Эйхе, о котором так страшно рассказано в докладе Хрущева, и Алеша Сванидзе, и безумный отец моего московского приятеля, и многие, многие...
Демобилизовавшись, я попытался устроиться в какой-нибудь газете – не вышло, можно было вернуться на Кольский полуостров, к себе в школу, куда меня звали, но мне хотелось простора, независимости, хотелось понять, что меняется в жизни, во мне самом... Среди широких, но весьма неопределенных возможностей, которые мне открывались, внезапно возникла одна обозначенная в телеграмме, полученной в ответ на мое письмо: Есть вакансии двух газетах приезжай тетя Вера.
Телеграмма была из Караганды.
СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ
Денег на самолет у меня, разумеется, не хватило, в Караганду я ехал поездом и, глядя в окно на сиротливые, крытые соломой российские деревушки, на угрюмые уральские леса, на вылинявшую за зиму степь в грязно-белых заплатах снега, думал: что за край, что за город– там, впереди?.. И все мне мерещились – колючая проволока между накрепко врытыми столбами, вереницы людей в телогрейках, глиняные мазанки... Сколько я ни тужился, ничего другого мое убогое воображение не рождало.
И вот наш состав остановился перед карагандинским вокзалом, я вышел на перрон – и не увидел ни колючей проволоки, ни телогреек. То есть, если здесь и были люди в телогрейках, то их было не больше, чем в любом другом месте. Вокруг кипела толпа, толкалась чемоданами и тюками, порой слышалась незнакомая речь, кое-где мелькали рыжие лисьи треухи, кимешеки... И мартовское солнце светило так ярко, так весело и мощно, как по ту сторону Уральского хребта не светит – ни весной, ни в какое иное время года.
Встретить меня приехал муж моей сестры – Юра Левидов. Тяжеловато, по-медвежьи сложенный и по-медвежьи же ловкий, он пристроил мой чемодан к мотоциклетной коляске, усадил меня, сел сам – и мы помчались, веером взметая по обе стороны густую, тяжелую, золотую от солнца грязь. Вокзал стоял посреди все той же линялой степи. Дорога соединяла его с городом, который начинался внезапно – глыбой Дворца горняков, каменным утесом на плоском берегу серого степного океана. Мы пронеслись мимо гранитных дворцовых ступеней, мимо колонн с фигурами алебастровых ангелов, на фоне синего, без пятнышка облаков, неба – дальше вместо мазанок в линию вытянулись пятиэтажные, респектабельные, благородного охристо-желтого цвета дома, с широкими проездами, балконами, чугунной оградой... Внутри одного из просторных дворов на скрещении асфальтовых дорожек особняком стоял трехэтажный дом. Здесь, на третьем этаже, в большой, солнечной квартире с высокими потолками жила тетя Вера – Вера Григорьевна Недовесова, с дочерью Тамарой, зятем и двумя маленькими внуками. Она встретила меня на пороге – большая, улыбающаяся, заполнившая своим телом и улыбкой, казалось, весь дверной проем. Мы обнялись. Мы не виделись двадцать лет.
Тогда, в тридцать седьмом, незадолго до ее ареста, мы с отцом приезжали погостить в Астрахань – из Крыма, где в то время жили. Мне было шесть лет. И откуда было знать, где и когда встретимся мы снова? Откуда было знать, что с братом, моим отцом, ей уже не встретиться никогда?..
Вот она и смотрела на меня, в первые дни особенно, будто сличала фотографии, вздыхая: до чего похож!..
Именно здесь, в Караганде, после жизни в студенческом общежитии, в казарме, в холостяцкой конуре, на меня вновь пахнуло забытым хлебным запахом дома.
На другой день осуществилась моя фантастическая, представлявшаяся несбыточной, мечта: меня зачислили в штат комсомольской газеты.
Привыкнув за три месяца жизни «на гражданке» к вежливым отказам, я готов был к тому же и теперь, сидя в кабинете редактора «Комсомольца Караганды» и обреченно наблюдая, как редактор, намертво стиснув между коричневых от никотина зубов погасшую трубку, листает и мнет, будто испытывает на прочность, единственный у меня номер петрозаводского журнала с моей повестью.
Помяв, потискав журнал, он велел секретарше пригласить Дикельбойма. В кабинет вошел человек средних лет, с горячими молодыми глазами и коротко постриженной седой головой. Сутулый, в каком-то буром, поношенном пиджаке, он двигался стремительными, неслышными шаги ми и походил на беспокойно разгуливающую по тесной клетке пантеру.
– Лева,– осторожно сказал редактор,– тут писатель... Хочет у нас работать.
– Писатель? – хищно повел горбатым носом Дикельбойм. – Не всякий, кто сочиняет романы, может написать информацию. Вы можете написать информацию? – Он обжег меня пылающим взглядом.
– Не знаю,– признался я.
– Видите! А в газете вам придется писать информации, а не романы! —Он прошелся шагом от угла до угла, остановился передо мной, примерился – и нанес новый удар:
– Вы сможете не спать целый месяц, работая над статьей, чтобы после того, как ее напечатают, одну ночь не спал весь город?..
– Я попробую,– сказал я.
– Не знаю.– Дикельбойм хмыкнул, подергал узким плечом.– Не знаю, Геннадий... Надо подумать.– И вышел.
Редактор пососал трубку, прислушиваясь, как в ней булькает, и поднял на меня желтые, как у малярика, глаза, ставшие вдруг мечтательными.
– Слушай,– сказал он,– а как тебе стихи?.. Хочешь, я почитаю?.. Ночью в типографии написал, не знаю, что получилось...
Но тут зазвонил телефон. Редактору напомнили, что до начали областного совещания рабселькоров осталось полчаса, что на нем должна присутствовать вся редакция.
– Ну, вот,– сказал редактор,– так всегда...– И досадливо смахнул со стола в ящик листы со стихами.– Собирайся, поехали. Подвернется живой материал – сделаешь зарисовку в номер.
– Так ведь я...
– Сейчас я тебя познакомлю со всеми... Заявление напишешь потом.
Так началась моя редакционная жизнь. Через несколько дней поблизости от редакции, в Михайловке, я снял комнату и сообщил об этом телеграммой жене. Мы были знакомы лет семь, но жили в разных городах, переписывались, пожениться решили перед моим отъездом в Караганду и зарегистрировались в Москве, в Химках, в самый день отъезда. Попеременно глядя то на мою армейскую гимнастерку и сапоги, то на железнодорожный билет с датой и номером уходящего вечером поезда, заведующая загсом сжалилась и, пренебрегая строгими формальностями, украсила жирными штампами наши девственные паспорта. Караганда, комната в частном секторе, первые номера «Комсомольца» с моими зарисовками и репортажами, а главное – необозримое, полное надежд будущее – я не сомневался, что ради этого можно бросить Москву. Через день я получил от жены ответную телеграмму, через две недели мы с Юрой встречали ее на вокзале, мотоцикл без труда подхватил и понес, прыгая на ухабах, нас троих...
То было удивительное время – шло лето 1957 года. Страна, как Шильонский узник, вырвалась из подземелья на свободу. Голова кружилась от свежего воздуха, глаза жмурились от яркого света – казалось, нестерпимого, хотя то был всего лишь свет нормального, привычного для всего живого дня. В Москве прошумел, просверкал всеми цветами радуги Всемирный фестиваль – и наш редактор Геннадий Иванов ему вдогонку, вернувшись из столицы, разразился тремя газетными подвалами под заголовком: «С распахнутым сердцем». Слово «целина» не сходило с газетных полос по всему Союзу, а мы в Караганде чувствовали себя причастными если не к штурму Берлина, то к событиям, равным ему по значению. Толя Галиев, остривший в редакции с утра до вечера по поводу и без повода, а остальное время усердно сочинявший сценарий за сценарием для будущего комического киношедевра, отправился в командировку, застрял в студенческом отряде на уборке, вернулся, на две недели «ушел в подполье» и когда, наконец, заявился в редакцию, его единственный глаз впервые смотрел не нагло и насмешливо, а смущенно, виновато: он написал юмористическую повесть о целине, но не привез ни одной информации... Толю едва не выперли из редакции, а повесть спустя полгода напечатали в журнале «Советский Казахстан» – все, что писалось о целине, шло нарасхват.
Со всей страны в Темиртау шли эшелоны – демобилизованные солдаты, вчерашние школьники, белорусские и молдавские крестьяне, московские метростроевцы ехали по комсомольским путевкам возводить первую домну на Казахстанской Магнитке. С нею связано было одно из первых моих редакционных заданий, я выполнил его в кратчайший срок и вернулся с таким чувством, как если бы фронтовым корреспондентом принял участие в разведке боем.
Бруно Ясенский и Бабель, «Испанский дневник» Кольцова и Xэмингуэй, его «Старик и море», и «Три товарища» Ремарка, и «Штандарт млодых», польская молодежная газета, из которой Геннадий Иванов, мыча и запинаясь, переводил на ходу статьи во время редакционных летучек – все это было воздухом, которым дышали наши легкие.
Но в нем была не только бодрящая свежесть – была и горькая, хорошо различимая гарь, и запах гниения, и едкий, раздирающий горло туман... Речь Хрущева на XX сьезде партии откликнулась на Западе венгерскими событиями и танками на улицах Будапешта. Вскоре после этого, приветствуя Чжоуэньлая, Хрущев произнес: «Дай бег нам всем быть такими же марксистами-ленинцами, как Сталин...» Вслед за вполне понятными после разоблачения величайшего Гения Всех Времен и Народов рукоплесканиями в честь романа Дудинцева «Не хлебом единым», после захлебывающихся от восторга рецензий по литературе прошелся хорошо знакомый с прежних времен, тяжелый коток, отлично приспособленный для того, чтобы на месте только -только начавших набирать силу зеленых всходов оставить мертвую, залитую черным гудроном полосу. Симонов, будучи редактором «Нового мира» напечатавший Дудинцева, каялся в допущенной ошибке. Пропаганда, слегка пожурив недавних «лакировщиков», с привычной страстью принялась грызть нынешних «очернителей». Погрозив пальчиком догматикам-сталинистам, она тут же яростно набросилась на ревизионистов – сначала югославских, с которыми вроде бы после смерти Вождя помирились и даже облобызались, а затем – и наших, отечественных. Какая-то сложная, драматичная борьба происходила «наверху», мы о ней лишь догадывались, но что такое – разгромленная «антипартийная группа» во главе с Молотовым и Маленковым, чего она добивалась – этого мы толком не знали и знать не могли. После прогремевшего на весь мир доклада Хрущева в 1956 году правда о Сталине, о прошлом страны выдавалась гомеопатическими дозами, дразнившими аппетит, но не способными его насытить. Тем меньше могли мы разобраться в том, что происходит вокруг, и старались верить лишь собственным глазам и фактам.
А факты были таковы. В нашей газете развернулась дискуссия о том, как вывести комсомол из состояния столбняка, раскрепостить молодую энергию, взломать канцелярщину и бюрократизм... Но нас тут же одернули, обвинили... Теперь уже не припомнить, в чем именно, да это и не важно, важно, что обвинили. Газета напечатала материал: «Анастасия Петровна хочет жить по-человечески» – о матери-героине, которая вместе с мужем и десятью детьми жила в единственной комнатенке, сырой, с протекающей крышей – в шахтерском Старом городе. На бюро обкома «Комсомолец Караганды» обличили в демагогии, редактору впаяли выговор. Правда, газету нашу, и в частности, тот номер, читали вслух, толпясь у киосков «Союзпечати», а спустя какое-то время Анастасия Петровна – крупная, гренадерского роста женщина – пришла к нам вместе с невысоким, застенчиво выглядывающим из-за ее могучей спины мужем пригласить редакцию на новоселье... Это радовало, но не прибавляло ясности, не смиряло гнездящейся в сердце тревоги...
Между прочим, об Анастасии Петровне в нашей газете написал Дикельбойм. Поэтому на новоселье, дабы не ввергать хозяев в непомерные расходы, мы делегировали двоих – его и, понятно, Геннадия Иванова. На новоселье Лева изрядно выпил и потом с неделю ходил, держась ладонью за правый бок: у него была больная печень. Он и умер лет через десять – «от печени». «У меня – пэ-чень»,– говорил он посмеиваясь. Заболела она у него еще в трудармии, когда Лева, в латаной-перелатаной фуфаечке и пропускавших воду бахилах, перекрученных проволокой, рубал уголек в карагандинской шахте. Он был из семьи бессарабских евреев-коммунистов, отведавших прелестей румынской сигуранцы и с надеждой взиравших на Советский Союз. После возвращения Бессарабии СССР в 1940 году и начала войны Леву призвали в трудармию. Там случился конфликт: командир отделения обозвал его жидом, и Лева, оскорбленный не столько за себя, сколько за пролетариев всех стран, бросился на него с кулаками. Возникло «дело», командир отделения доказывал, что Лева румынский и одновременно немецкий шпион, по законам военного времени за это полагался расстрел, в ожидании его Лева поседел. Но его не расстреляли, а отправили в Караганду. Он рвался на фронт, но оказался в забое, по сути – на положении зэка...
Чиня шахту, так сказать, «на ощупь», Лева заведовал в редакции отделом рабочей молодежи. Газета была его страстью; опыт жизни не пригасил его фантазии. Себя он считал человеком трезвой практической мысли, презирая всякое подобие «лирики», но, на мой взгляд, был романтиком чистой воды. Как-то раз он рассказал мне свою историю. «Может быть, тебе на что-нибудь когда-нибудь пригодится»,– заключил он, чтобы как-то мотивировать внезапный порыв откровенности.
Своего квартирного хозяина мы называли «старым добряком». По нашим тогдашним меркам он в самом деле был староват – ему было лет сорок пять – пятьдесят. А уж «добряк»... Рожа у него была круглая, красная, веки набрякшие, белки глаз – розовые, особенно по утрам, с перепою. Глазки – маленькие, светлые, злобные, и сапоги гармошкой. У него было трое детей, которых, напившись, колотил он зверски, первую жену свел в могилу, взял вторую, красивую, статную, с широкими бровями вразлет на милом, добром лице. На ней лежало все хозяйство, бесконечные обиды и побои сносила она безропотно – и терпела, терпела, жалко ей было бросать неродных детей... Дети ее держали, да и страх – не было у нее ни единой близкой души, куда ей было идти?..
Я ненавидел нашего «старого добряка» – за всегда испуганных детишек, при появлении отца норовивших забиться в любую щелку, за кроткую, всегда покорную красавицу Полину, на которую он, распалясь, кидался с ножом; за то, как измывался он над своими квартирантами. Помимо нас у «добряка» снимал глинобитную пристройку и Толя Галиев с женой Таней, недавно приехавшей из Китая, у нее экзотичной была не только биография, внешность тоже – толстые, будто налитые вишневым жаром губы негритянки, которыми постоянно восторгался Толя, огромные синие глаза и талия стрекозы... После того, как наш славный «добряк» потребовал, чтоб квартиранты свое белье стирали во дворе и я однажды застал жену за этим занятием на продиравшем до костей ветру, перемешанном с осенним дождем, я решил: довольно, хватит... Вскоре мы распрощались с нашим «добряком»,– и мы, и Галиевы, но там, в доме, где мы выдержали только полгода, все осталось по-прежнему... Пьянки, драки, вопли детей... И еще – песни, похожие на тоскливое волчье вытье. Пенье это, особенно поздним вечером или ночью, сводило с ума, хотелось заткнуть уши и бежать куда глаза глядят – от не задерживающей звуков тонкой двери, за которой, навалясь на стол, одиноко сидит старый– а на деле совсем еще не старый, а в самом соку, самой силе человек – и, обхватив руками голову, слепо уставясь на недопитый стакан водки – не поет – воет...