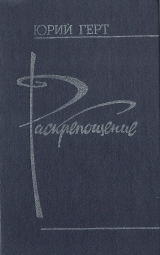
Текст книги "Раскрепощение"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
И в этом была вся сложность: для «старика» единственным критерием было «талантливо» – «не талантливо». Этого-то и не хотели понять и принять наши многочисленные опекуны.
«Напрасно в дни Великого Совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста...»
– писал Пастернак. Вот что было понято, усвоено: «она опасна...» Но начинается все с Гумилева и Ахматовой, с Зощенко и Пастернака, а кончается...
Неким Начальником Творчества, пользуясь выражением Наума Коржавина (не стану называть имени этого человека, ибо «имя им – Легион») был заведен такой порядок: нашему журналу полагалось на его высочайшее рассмотрение представлять план каждого номера, дабы «как бы чего не вышло». Однажды Галина Васильевна Черноголовина, оберегая Ивана Петровича от этой унизительной процедуры, принесла Начальнику план, в котором значились стихи Киплинга. Начальник подумал-подумал (тут можно представить, как лоб его прорезали морщины, взгляд ушел в себя, на переносице сомкнулись брови... Он... т.е. оно – начальство... думало!) и вот что выдало в заключение: «Не нужно печатать этого Киплинга: мало ли что он еще натворит...» Логика, ныне уже утраченная, была здесь такой: некоторые еще вчера вполне благонадежные зарубежные писатели, случалось, сегодня подавали голос, заявляли устно или письменно, что питают симпатию – к Пастернаку ли, к Солженицыну или Ахматовой, и тогда те, кто печатал их вчерашние произведения, должен был отвечать за их сегодняшние (или завтрашние) грехи. Так что всего безопаснее Киплинга тоже не печатать... И если сейчас кажется диким, что невежда, не прочитавший ни строчки Киплинга и не знавший, что умер он еще в 1936 году, мог литературой руководить, так ведь с не меньшим успехом руководили и сельским хозяйством, и наукой, и внешней политикой... Галина Васильевна не удержалась, рассказала, выступая на партийном активе, историю с Киплингом. Зал от всей души хохотал. Но расплата не заставила себя ждать: Черноголовиной вскоре пришлось покинуть журнал...
Почти фельетонная по нынешним временам ситуация выглядела на деле отнюдь не шутейно. Кто был этот Начальник Творчества. Я отчасти представлял его еще по Караганде. Там он также немало значил – в смысле руководства идеологией – но в масштабах всего лишь области. При нем за каждую мало-мальски самостоятельную инициативу нашему «Комсомольцу Караганды» давали взбучку. Когда редактор газеты Геннадий Иванов отправлялся к Начальнику искать справедливости, тот разводил руками и поднимал глаза к потолку: «Так там решили, там указали...» Посреди Караганды и после XXII съезда партии продолжал зловещим символом возвышаться памятник «вождю народов» – и мимо него по крайней мере дважды в день проходил, шагая в сторону своего кабинета, Начальник – с невозмутимым лицом, поглощенный размышлениями о Высшем, Недоступном для прочих... Памятник в конце концов сбросили, Начальника Творчества перевели в Алма-Ату, на куда более ответственную должность, и тут он занялся Киплингом... Впоследствии – «такие люди нам нужны!» – он уже заседал в Верховном Совете республики – и отнюдь не рядовым депутатом.
Кем же был его оппонент?.. Нет, не Джозеф Редьярд Киплинг, а его переводчик, препроводивший отличную киплинговскую балладу к нам в журнал, впоследствии все-таки ее напечатавший? Это был поэт Анатолий Сендык. Мы познакомились, когда во второй половине шестидесятых он с большой группой московских литераторов приехал в Алма-Ату на декаду русского искусства. В той же группе приехал Домбровский. Сендык и Домбровский были особенно дружны – помимо литературы, соединяла биография: оба вдоволь хлебнули лагерной жизни. У Сендыка случилось это так. Закончив юридический институт, он юным, идейно настроенным правоведом направлен был на следственную работу в органы МВД в конце сороковых годов, когда там процветали методы Вышинского. Сендык, знакомый с ними теоретически, столкнулся с практикой, т.е. с фабрикацией обвинения без достаточных улик, о чем и доложил по инстанции с полным соблюдением положенной формы. Его рапорт привел к неожиданному для недавнего студента результату...
Когда мы познакомились, Толя Сендык был профессиональным переводчиком высокого класса, человеком веселым, добродушным, удивительным рассказчиком. Одним из его излюбленных сюжетов был такой. Как-то в переделкинском Доме творчества к нему в номер подселили писателя, в годы сталинщины занимавшего немалый пост в лагерной охране. Они с Сендыком не пришлись друг другу по вкусу, поскольку кое-какие события в отечественной истории оценивали по разному. Сендык рассказал соседу о своем прошлом и объявил, что имеет привычку на ночь класть себе под подушку нож... Утром он проснулся в номере в полном одиночестве и был этому рад: никто не мешал ему спокойно работать.
Но это – к слову. Мне просто хотелось рассказать, что скрывалось иной раз под анекдотическим с виду пустячком... Кстати, когда Начальник поднимался со ступеньки на ступеньку к вершинам своей карьеры, Толя Сендык, участвуя в плавании по Великому Северному морскому пути, умер от сердечного приступа где-то в Карском море: он до конца жизни оставался романтиком, его манили не командные высоты, не кресла и высокие оклады, а поэзия, полярные сияния, простор...
Твардовского «убрали» (так именно тогда говорилось – «убрали») из «Нового мира» в 1969 году, Шухова из «Простора» – спустя пять лет. Эти пять лет для него были продолжением борьбы – но уже в одиночку: из рук Ивана Петровича был вырван хотя и не самый убедительный для его оппонентов, но все же – аргумент: «А Твардовский у себя в журнале печатает...» Наоборот, у противников «Простора» в ход пошла новая угроза: «Доигрались в «Новом мире»?.. И вы доиграетесь...» Что было па это ответить?..
Перед Твардовским Шухов благоговел. В его светлых, немного навыкате глазах появлялось какое-то умиленно-радостное выражение при одном упоминании о нем. Твардовский был для него примером, ободрением, образцом. Воплощением народного начала в литературе. Народным поэтом. В Твардовском чуялось ему нечто близкое, родственное – в крестьянском начале, в отношении к языку, в слиянии понятий «правда» и «искусство», в презрительном отношении к самодовлеющему эстетству. Наконец – в понимании особого значения литератора на Руси, где каждый писатель бывал традиционно еще и просветителем, и общественным деятелем, редактором или издателем – Пушкин, Толстой, Достоевский, Горький... Вероятно, принадлежностью к этой – пропущенной через судьбу Твардовского – отечественной традиции Шухов тайком гордился, причастность к ней придавала ему сил.
Мрачные времена близились, становились все гуще, плотней. Иван Петрович, не чуравшийся моды в одежде (первый в редакции надевал плащ-болонью, рубашку в цветочках, спортивно-молодежную куртку!..), не тянулся к «самиздату», в те годы ставшему как бы атрибутом оппозиционной, свободомыслящей интеллигентности, так – попадет под руку – прочитает, не попадет – не пожалеет. Но как-то раз, у себя дома, достал из стола желтоватые, сцепленные скрепкой листочки с обтерханными краями, протянул, рука его подрагивала мелко, старчески:
– Читали?.. Александр Трифоныч, «По праву памяти»... Великая вещь!.. И такие стихи от народа прятать?.. Бог этого не простит!..
Метнул короткий, гневно блеснувший взгляд куда-то в сторону. Покачал головой, большой, тяжеловатой для некрупного тела. Брови – косматые, сивые – сердито спрямились на переносье. Сидел, барабанил по зеркальной полировке стола костяшками пальцев, думал о своем, забыв обо мне...
Твардовский был ему близок во всем, и в восприятии прошлого страны, трагедии сталинщины – тоже: тут была боль почти физическая, страдание – не подсмотренное со стороны, а соединенное со страданием всего народа, сознание всеобщей беды и всеобщей вины. И оттого – не поучение, не обличение, а – сострадание, сочувствие... «Я счастлив тем, что я оттуда. Из той зимы. Из той избы. Я счастлив тем, что я не чудо особой, избранной судьбы!» – эти строки Твардовского, поставленные Иваном Петровичем эпиграфом к последней его повести «Трава в чистом поле», по сути, могли быть эпиграфом ко всей его жизни – до самого конца...
Конец, между тем, был недалек. Но прежде чем перейти к нему, хочу коснуться воспоминания неприятного, даже постыдного, но – многозначительного. В одном из номеров «Простора» были напечатаны стихи Андрея Вознесенского, который перед тем приезжал в Алма-Ату. Стихи – назывались они «Стрела Махамбета» – кому-то не понравились. Кому-то, чье мнение обладало достаточным авторитетом, но было высказано с запозданием. И вот вся редакция – от машинистки до зам. главного редактора, была отправлена на «выдирку» в типографию: из двадцати тысяч экземпляров требовалось вырвать по две страницы с напечатанными на них стихами и вклеить новые.
Стихи были отличные, крамолы не содержали никакой, но мы подчинились возмутившему нас приказу. И в типографии, освоясь постепенно с непривычным для нас делом, работали все быстрее, сноровистей, только бы закончить это унизительное занятие, выйти на свежий воздух, смыть типографскую пыль (и, казалось мне, кровь...) с вдоволь потрудившихся рук.
Да, конечно, мы оправдывали себя тем, что спасали журнал, что наше неповиновение могло стать для «Простора» катастрофой. Но, говоря словами Твардовского,– «и все же, все же, все же...»
К чему это я?..
А вот к чему.
В начале семидесятых «Простор» стремился оставаться на прежних позициях. Сменивший Галину Васильевну Черноголовину новый заместитель главного редактора Павел Косенко многое делал для того, чтобы сохранить нелегко добытый уровень. Стойко держал оборону руководивший критикой Николай Ровенский, отвечая на злобные наскоки ревнителей «интересов советского читателя», изощрявшихся в изобретении уничтожающих ярлыков. В 1972 году редакцию пригласили в Москву, где на секретариате Союза писателей обсуждалась работа журнала. Оценка была высокой, поощрительных похлопываний по плечу – хоть от-бавляй. И поскольку в обсуждении участвовали заметные в ту пору в литературе люди, а само обсуждение происходило в «каминном зале», где некогда Шухов встречался с Горьким, то все это произвело на Ивана Петровича впечатление ободряющее, прямо-таки праздничное: журнал поддержали! Его линию одобрили! Значит, и дома легче будет дышаться!..
Но по возвращении домой нас ждал сюрприз: «Литературная газета» поместила отчет о секретариате, в котором и помина не осталось от произнесенных там добрых слов!
– Это как же так?..– твердил огорченный Иван Петрович.
Над журналом собирались тучи. Наконец – грянула гроза. Как всегда – вдруг, неожиданно. И гром прогремел не из той тучи, из которой – предполагалось – мог прогреметь.
Как известно, не от хорошей жизни в свое время Некрасов печатал в задавленном цензурой «Современнике» развлекательные романы. «Простор» чем дальше, тем больше прибегал к детективам. Однажды нам прислали перевод романа Форсайта «День шакала». Детектив был известен во всем мире, перевод выполнен умело – решили печатать. И вдруг...
История с детективом, наполовину уже напечатанным, произошла тоже почти детективная. Участников ее до сих пор мучает неразрешимый вопрос, загадка, общая для всех детективов: «Кто убил?..» И поныне существуют лишь различные версии, но не доказана ни одна из них. Хотя произошло все не во мраке ночи, не в уединенном, безлюдном месте, а средь бела дня, у всех на глазах.
На ответственном совещании срочно был рассмотрен вопрос о «Просторе» и его редактор, известный в стране писатель, ученик Горького, награжденный орденами, лауреат государственной премии – отстранен от своей должности.
Никто и не подумал объяснить коллективу журнала, что случилось, что послужило поводом для столь категорического решения.
Никто не объяснил читателям, почему публикация романа оборвана посредине.
Глухо передавали, будто бы пришла телеграмма от самого Суслова... В других слухах фигурировала не телеграмма, а телефонный звонок. Вместе с тем поговаривали, что не было ни звонка, ни телеграммы, а... Короче, простор для воображения был полный. Вплоть до фантастического предположения, почерпнутого из самого «Шакала» и сообщаемого шепотом: в романе изложена технология покушения на де-Голля, а в Алма-Ату вскоре должен был приехать Брежнев...
Так и по сей день это остается «белым пятном» в истории казахстанской (а по сути – не только казахстан-кой) литературы: что послужило поводом к снятию Шухова, кто раскочегарил под ним огонь, какие сердобольные старушки («санта симцлицитас») по хворостинке, по сучочку сносили в костер, дули на угольки... Да это и не важно. Важно другое: то была расправа. И когда эта расправа вершилась, никто – ни в Москве, ни вокруг – Шухову и его журналу не помог. Из тех, кто мог и обязан был помочь – по совести, по должности...
Что происходило в то время в самой редакции?
Было отчаянье, была растерянность. Были один за другим возникавшие планы немедленных действий: письмо в ЦК! Телеграмма – в Москву! Обращение к секретариату Союза писателей! Если справедливость не будет восстановлена – тогда уход! Коллективно подаем заявления и уходим из редакции!.. Но волю к сопротивлению, к борьбе размягчали разного рода посулы: еще разберутся, решение отменят... Шухову предложат место секретаря в Союзе писателей, и журнал сохранится в прежнем качестве... Только никаких авантюр, скандалов: не нам, а Ивану Петровичу поставят их в вину, погубят «Простор» окончательно!..
Так или иначе, затевавшееся давно свершилось: в журнал был назначен новый редактор.
Шел 1974 год.
До начала перестройки оставалось еще одиннадцать лет.
ДОМБРОВСКИЙ
С Домбровским я познакомился случайно. То есть – что значит случайно? В «Новом мире», в двух номерах, только что был опубликован его «Хранитель древностей», даже на фоне тогдашних, середины шестидесятых, публикаций это оказалось первостепенным событием... И вдруг – из поездки в Москву возвращается мой карагандинский приятель, рассказывает, что там, в Москве, зашел в парикмахерскую, разговорился со своим соседом по очереди – и вдруг выяснилось: он, сосед этот,– Юрий Домбровский!.. Тот самый!.. И потом они идут к Домбровскому домой, говорят о многом, в том числе – о моем романе, только что вышедшем, и Домбровский всячески его поносит – за образ следователя из органов, прямо-таки клеймит меня последними словами...
Вот так фокус! Юрий Домбровский?.. Читал?.. И – клеймит?.. За моего следователя?.. Черт-те что! Да еще и – знакомство в парикмахерской?..
Я тогда читал только «Хранителя», не знал книг Домбровского в полном объеме, но в мощном, стопроцентном его реализме и в то время чуялись мне игривая романтическая струйка, любовь к закрученному сюжету, анекдоту, «странностям» неожиданных совпадений и совмещений. Потом я понял, что то и другое – и есть Домбровский. Все сплетено в нем, его стиле и судьбе, нерасторжимо: комната в коммунальной квартире в Большом Сухаревском – и Колыма, пьяные, неистовые дебоши – и противостояние, длившееся всю жизнь, противостояние свободной мысли – и тюремной решетки, гордости не признающего ничьей власти Мастера, Творца – и ползучего, изглоданного страхом холуйства... В этом противостоянии не было случайностей: все происходило закономерно, стоило лишь углубиться, проникнуть под обманчиво-невнятную поверхность... Так, если вдуматься, случилось и с возникшим знакомством. Тут все зависело от того, кто знакомил, и тогда при всей его случайности роль случая порядком убавляется. То есть становится ясно, что в жизни нашей вовсе не случайно так много места занимает случай.
Познакомил нас Эдуард Кесслер, горный инженер, карагандинец, высокий голубоглазый красавец с чеканным «нордическим» профилем, эдакий мягкий, застенчивый Зигфрид. Когда мы собирались дружеским кружком и распевали «Бригантину», «Товарищ Сталин, вы большой ученый...» и «Евреи, евреи, кругом одни евреи...» – он, Эдуард, пел на немецком и русском «Марш «Красного Веддинга»» – «Колонны, вставайте, шеренги смыкайте, на битву шагайте, шагайте, шагайте...» Он был старше нас всех, его несильный, рвущийся тенорок звучал для нас приветом немецких ротфронтовцев конца двадцатых – начала тридцатых грдов...
Но Эдуард Кесслер никакого прямого отношения к «Рот-Фронту» не имел, и родился он не в Берлине, а в Москве, в обычной для того времени интеллигентной семье, где соединилась немецкая и еврейская кровь, да сколько-то капель в нее подмешали еще шведы и, кажется, французы,– какое, казалось бы, это имело значение?.. И с полнейшим ощущением, что это в самом деле не имеет значения, два брата, по достижении совершеннолетия, когда положено получить паспорт, а в нем заполнить соответствующую графу,– так вот, братья, чтобы не огорчать никого из родителей, решили записаться – один немцем, второй евреем. Подбросили гривенник – орел или решка?.. Случайно выпало Эдуарду заделаться немцем. В результате чего студента полиграфического института прямо с окопных работ под Москвой в 1941-м отправили в эшелоне с немцами-трудармейцами в лагерь на Урале, откуда через несколько лет, в результате острейшей дистрофии – сорок четыре килограмма обтянутых кожей костей – его комиссовали и он очутился под Карагандой, в селе Осакаровка. Слегка оклемавшись, он просится на фронт, как это делал и находясь в трудармии, но ему отказывают. Прежняя жена, тоже московская студентка, | порывает с ним, опасаясь не столько за себя, сколько за судьбу их маленького сына... В Осакаровке же Эдуарду покровительствует одна из высланных сюда немок – необычайно красивая пианистка из Ленинграда, чей муж, полковник (по национальности, кстати, еврей) погибает во время ленинградской блокады. Пианистка в Осакаровке отнюдь не музицирует, а тонкими, гибкими музыкальными пальцами рыхлит землю, сажает и копает сахарную свеклу на колхозном поле и, будучи на двенадцать лет старше Эдуарда, выхаживает его и ставит на ноги. Когда мы познакомились (Эдуард пописывал стихи, его тянула литература), они жили уже лет пятнадцать в Караганде, в опрятном домике с заботливо взращенным садиком, где особенно запомнились мне диковинные для нашего шахтерского города рыжие тигровые лилии. Она преподавала в музучилище, он работал в Гипрошахте. Вместе с Эдуардом, на его мышиного цвета «Москвиче» первого выпуска в 1963 году мы проехали несколько тысяч километров по целине, то была веселая, насыщенная приключениями поездка... А через три или четыре года Эдуард повесился – в том же садике, в гараже, на ручке дверцы мышастого «Москвича», но это уже другая история, где все решали вроде бы тоже случайности и случайные связи между ними...
Здесь же я хочу лишь сказать, что когда Эдуард, заглянувший в Москве в парикмахерскую, сидя в очереди, оказался свидетелем разгорающегося скандала, он, естественно, не мог не вмешаться, не посочувствовать долговязому тощему человеку с копной лохматых, торчащих врастопырку волос: тот чрезвычайно нервно реагировал на чье-то хамство, а в ответ на отчетливо выраженное пожелание заткнуться в лихорадочном возбуждении понес что-то о Колыме, где ему и таким, как он, тоже пытались заткнуть рот, чтобы они не мешали разным-прочим орать «Да здравствует!..» и славить вождя... Но теперь, когда он издох, этот самый вождь, а каторжники вернулись по домам, настали новые времена!.. Однако хоть времена и в самом деле наступили новые, Эдуард за благо почел, не дожидаясь дальнейшего разворота событий с неизбежным появлением милиционера, увести лохматого на улицу, а потом, развлекая рассказами о собственных столкновениях с Законом, проводить его до самого дома, оказавшегося поблизости, а затем и зайти в дом, подняться на третий этаж по гулкой каменной лестнице с клочьями паутины под высоченными потолками и очутиться в темноватой комнате со старомодным шкафом, где, не оставляя ни малейшего пустого промежутка между собой, в полном порядке стояли продуманно подобранные справочники, словари, энциклопедические издания, преимущественно в старых, почтительно сбереженных переплетах...
Так они познакомились – вовсе не случайно, если учесть ненасыщаемую жадность Домбровского к впечатлениям жизни, неординарным характерам, прихотливым извивам человеческих судеб. А там уже само собой пошло-поехало: достаточно было Эдуарду помянуть Караганду, как за нею потянулась Алма-Ата, издательство, где недавно вышла моя книга, о ней Юрий Осипович слышал в Алма-Ате, а затем увидел в редакции «Нового мира», там готовили (да так и не дали) рецензию на нее, и вдруг – Кесслер, оказавшийся моим закадычным приятелем!.. Естественно, Домбровский заговорил о моем романе, о том, что казалось ему неверным, фальшивым, то есть о фигуре следователя... и Кесслер, вернувшись домой, все это рассказал мне. Я послал Домбровскому обиженное, злое письмо – и вскоре получил ответ. Он любопытен: все, что ни писал, ни говорил, ни делал Домбровский, в полном соответствии с его натурой, бывало резким, отчетливым, как рисунок углем.
«Уважаемый Юрий... (отчества не знаю), очень хорошо, что Вы обратились ко мне для разъяснения и исчерпывания того печального недоразумения, которое получилось в результате неточной информации нашего приятеля. Это как игра в телефон: скажи «кузен», так на другой конец придет «сазан». В общем разговоре о Вашем романе я сказал только вот что – мне не нравятся вообще в этой теме обязательные счастливые концы и раскаявшиеся следователи МГБ, эти падшие белоснежные ангелы. Если счастливый конец еще в природе времени (хотя какой к дьяволу он по-настоящему-то счастливый, если я вошел в эти каменные врата, что на Лубянке, в 23 года, а вышел в 48? Жизнь-то прошла!), то следователь «не ведавший, что творит», это нечто вроде лох-несского чудовища – надо еще подождать, пока его найдут и покажут миру, и то он будет уродом, реликтом и уникумом. Я предвижу,– сказал я тогда,– появление где-нибудь в каком-нибудь подхалимском романе будущего (вот откуда это слово) и следующей за ним фигуры – рыдающего совестливого палача, который все понимает и льет по ночам горькие слезы перед бюстом. Будут описаны его внутренние муки. Мужественные столкновения с властями. Разговоры о партийности. И, наконец, «Вождь тут ошибся» («Вседержитель мира, ты не прав»,– написал когда-то Мережковский). Заговорили потом об условиях, в которые приходится укладываться авторам вот таких книг. Я сказал, что вполне понимаю это и не жду от Вас больше, чем от себя. Ведь если я не дал (и не дам!) хэппи энд, то главы слишком уж печальные мне приходится (пока!) прятать в папки. И одну такую подглавку я и прочел. Дело шло таким образом о всем комплексе отражений, а никак не об Вашей книге, в которой есть ряд и недурных, и хороших, и даже поистине блестящих страниц. В Алма-Ате от товарищей я узнал и то, как роман проходил,– это еще больше расположило меня в Вашу пользу. Вы уж наверное знаете, что «Н. М.» хочет выступить. Постараюсь что-нибудь сделать с этой стороны, хотя, конечно, все это очень зыбко...»
Мне было тридцать три-тридцать четыре, ему – под пятьдесят или даже немногим больше, я – безвестный новичок в литературе, он – автор напечатанного в «Новом мире» романа, человек-легенда... И вот – считает долгом объясниться, снять недоразумение. Я мог быть доволен. Однако письмо производило двойственное, тревожащее, не до конца проясненное впечатление. И такое ощущение – тревожное, не проясненное до конца – оставалось у меня потом после каждого его письма (их было несколько), каждой встречи.
Я увидел Домбровского несколько лет спустя, когда перебрался в Алма-Ату, работал в «Просторе». По-моему, шла редакционная планерка, все собрались в маленьком, тесноватом кабинете у Шухова. Солнце било в высокое окно, просвечивало сквозь зеленые занавески, лоснилось на светлом полированном столе, на паркете... Вошел Домбровский – все повернулись, потянулись к нему, он пригнулся, ссутулился, обнял Шухова, они расцеловались... Несмотря на простоту наших нравов и одежды, Домбровский и между нами выглядел фрондой, вызовом – в стоптанных сандалиях на босу ногу, в распахнутой на груди рубашке, которую он поминутно заталкивал в брюки, сползавшие с впалого живота. Веселым демоном посверкивал он исподлобья глазами, из-под спутанных, кольцами свисающих волос, улыбался, радуясь – после Москвы – солнцу, теплу, Алма-Ате, размашисто хлопал по плечу, обнимал, жал руку – но при всем том было в нем еще и нечто такое, будто каждую секунду мог он, сунув руку в брючный карман, выхватить оттуда гранату и швырнуть, выдернув предохранительное кольцо...
Благодушная, несколько даже сибаритская атмосфера летней Алма-Аты с дымящимся от зноя небом, журчанием арыков, запахом шашлыка нарушалась, едва возникал Домбровский (он приезжал сюда обычно в летние месяцы). В жизни соприкасавшихся с Домбровским людей как бы менялся ритм, появлялся новый, куда более крупный масштаб. Помню, с каким безбрежным радушием встречала Алма-Ата московских литераторов, приехавших на декаду культуры: цветы, улыбки, машины как угорелые носятся в аэропорт и из аэропорта, в гостиницы, в гостевые резиденции, вино льется рекой, тосты набирают высоту... И вдруг: на приеме у директора издательства, в ответ на пышную здравицу в честь прибывшей в Казахстан Зои Кедриной – пожилая, в серебряных букольках – Юрий Домбровский ставит на стол бокал шампанского – не пригубив. И за ним ставят на стол свои полные до краев бокалы другие москвичи-литераторы. В чем дело?.. Так они демонстрируют свое отношение к Зое Кедриной, выступавшей незадолго перед тем с обвинительной речью на процессе Синявского и Даниэля. Так ли он важен, этот кабинетный протест?.. Кто знает. Ведь – «здороваемся с подлецами, раскланиваемся с полицаем»... Но от этого естественного, непроизвольного жеста, с виду такого малозначительного – опустить руку, поставить бокал на стол – так ли уж далеко до того, чтобы поставить свою подпись под письмом Брежневу – с протестом против зажима литературы, крепнущих сталинистских тенденций?.. А от этого письма – далеко ли до романа «Факультет ненужных вещей», которому отдано десять, а то и пятнадцать лет свирепой работы, и уже написаны три варианта, начат четвертый – с эпиграфом: «Новая эра отличается от старой эры главным образом тем, что плеть начинает воображать, будто она гениальна»?.. И слова-то не чьи-нибудь, а Карла Маркса, но уже сразу после них отсекается надежда на любой компромисс, перестает манить искушение гнуться перед этой плетью, бог знает что воображающей о себе, на деле же остающейся плетью – и только?..
Однажды Домбровский вместе со своей женой Кларой были у нас дома в гостях; обсуждали быстро достигавшие Алма-Аты невеселые московские новости; Юрий Осипович читал свои стихи, ныне публикуемые в журналах, я записывал их на магнитофон (к сожалению, в семидесятых, когда вновь входили в моду обыски, записи эти пришлось стереть). Особенно запомнилось мне такое стихотворение, Домбровский читал его напористо, с горько-вызывающей интонацией:
Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых навостренных топора
По всем законам лагерной науки.
Принес. Врубил, Гляжу веселым волком —
Пожалуйте! Хоть прямо, хоть проселком!..
И вот таким я воротился в мир,
Который так пленительно раскрашен...
Смотрю на вас, на тонких женщин ваших,
На гениев в трактире, на трактир —
Смотрю на старое, седое зло,
На мелкое добро грошевой сути,
Смотрю, как пьют, как заседают, крутят —
И думаю: как мне не повезло...
Да, он был в непрестанной вражде с этим миром, где «пьют... заседают... крутят...» и правит пир «старое, седое зло». И миру этому чужд был Учитель, проповедник с Факультета Ненужных Вещей, каковыми полагали талант, независимость, любовь к свободе...
Однако здесь, в Алма-Ате, существовал еще и тот особенный мир, который его тянул. Рядом с Домбровским, его глазами мне открывалась та самая, его Алма-Ата. В ней, посреди цветущих, медовых, жужжащих пчелами яблоневых садов, уходил в небо веселыми куполами и башенками переливчато-пряничный собор, в начале века воздвигнутый на сваях – вбитых в землю стволах громадных тянь-шаньских елей... В ней, в этой Алма-Ате, жил старый Иткинд, на ленивом солнцепеке поросшего травкой дворика резавший из хорошо просушенных кругляшей удивительно живые, ответно улыбающиеся людям фигуры... Здесь шумел, оглушал, пьянил яркими красками бескрайний, чуть не до гор простершийся базар, где всего много, и все за бесценок: бери, сколько душа просит, уволакивай, сколько хватит силы... Здесь пенилась, билась о круглые, влажно блестящие камни Малая Алма-Атинка, бархатно зеленели пологие спины прилавков, дымились, таяли, сверкали в знойном, безоблачном небе горные пики... По соседству с Пионерским парком, с высоченными, гладкорозовыми стволами его сосен и гомоном вокруг взлетающих вверх лодок-качелей стояло серое здание, где некогда немало дней и ночей провел Юрий Осипович, обвиняемый в заговоре против советской власти, пособничестве контрреволюционерам, причастности к вражескому подполью и т.д. Отсюда начинался его путь на Колыму. Сюда, на очную ставку с ним, привозили Ивана Петровича Шухова – чтоб подтвердил показания прочих свидетелей... Шухов не подтвердил – и тем как бы и сам включил себя в ряд подозреваемых лиц... И была в Алма-Ате гостиница, которая называлась «Алма-Ата», с длинными, низкими, охряными корпусами – здесь, на первом этаже, в узком, затененном снаружи густыми ветвями номере, останавливался Домбровский, приручив администрацию к вольному своему нраву, никакими «Правилами проживания» не предусмотренным... И этот номер, вольная эта берлога, в любое время открытая для любого желающего, тоже была частью его Алма-Аты.
Он приезжал сюда из серой, огромной водоворотной Москвы, из своего Большого Сухаревского, круто сбегавшего к цирку, из горячки цедеэловских споров, схваток между вновь набирающими силу и административную мощь сталинистами и активной, усердно служащей им камарильей, с одной стороны, и харкающими кровью бывшими лагерниками, со своими жалкими, не внушающими полного доверия справками о реабилитации, своими никому не нужными воспоминаниями, своими письмами-протестами и неизданными рукописями – с другой... Приезжал сюда, где воздух был чище (казалось ему) и легче дышалось – и тут же, роем, окружали его друзья и подонки, давнишние товарищи и столь же давние собутыльники, прежние каторжане и профессиональные сексоты, он никому не отказывал – в разговоре, в добром совете, в поддержке, заступничестве, в том, чтобы, упершись локтем в шаткий столик, звякнуть стаканом о стакан... Он приезжал – и привозил с собой рукопись «Факультета», еще один вариант, и еще один вариант, и еще один вариант – и давал прочесть, просил прочесть, настаивал – возьми, прочти!– как если бы, не печатаемый, не имевший и малой надежды напечатать главный труд, главную боль, главную радость своей жизни – «Факультет» – хотел таким вот образом доказать себе и другим: пишу – следовательно существую!..








