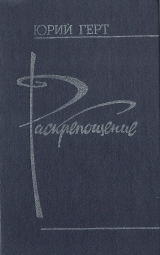
Текст книги "Раскрепощение"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Передо мной сидела женщина, невысокая, полная, с астматической одышкой, немолодая, мать двух уже двадцатипятилетних близнецов-дочерей, женщина, прожившая трудную жизнь и, несмотря ни на что, сохранившая и на удивление светлый взгляд на вещи, и дар искреннего, деятельного сочувствия людям...
Чего-чего только не было в ее жизни!.. Но люди по-разному помнят прошлое: одни видят в нем источник горьких скорбей и сожалений, другие вычленяют моменты светлые, поэтические, улыбчивые – так именно вспоминает Антонина Николаевна о своей юности на маленькой станции в семье железнодорожного рабочего, стрелочника. Тут она и «записалась в пионеры» (в те времена – акт куда ответственней и значительней, чем ныне!), и преподавала на курсах ликбеза («Внученька, крючок или петельку ставить?..»), и даже – да, да, было и такое! – уже работая учительницей в младших классах, вступила в соцсоревнование с собственным отцом. Сейчас это может показаться наивным, но тогда... Тогда каждый из них обязался добиться всесторонне высоких показателей в своей сфере, и листок с подробными условиями был вывешен для всеобщего ознакомления – за ходом дел следила вся станция. Здесь хорошо знали и дочь, и отца – скромного, честного, работящего человека. Он не отличался образованностью, но передал дочери свою любовь к литературе, музыке. Его брата – красного комиссара повесили белогвардейцы, сам же он погиб в конце тридцатых годов...
...Она плакала, вспоминая о той давней, исчезнувшей юности, но, кажется мне, где-то там, в тех отдаленных временах,– корни ее сердечной умудренности, ее чистейшего, трепетного беспокойства за судьбы, за души других людей.
Я намеренно употребил это еще недавно считавшееся несколько архаичным, а ныне все более обретающее полноправность слово – душа. Видимо, существуют, обозначаемые этим словом, такие стороны или толщи человеческой психики, которые остаются не исчерпанными – ни заботой о производстве, ни постижением точных наук, ни – тем более – клубной, скажем, работой или упражнениями в спорте... Бывает, вероятно, у каждого своя необходимость в тонком сердечном разговоре, иногда просто в человеке, который выслушает и поймет самую потаенную твою исповедь – и никаким собранием, заводским или цеховым, этого человека не заменишь. Я видел Антонину Николаевну и на оперативке у директора, и на занятиях политпросвещенческого кружка, и в цехах – но, кажется мне, одной из существеннейших, никем и ничем не дублируемых проявлений ее деятельности на газобетонном считают вот это: поговорить, посоветовать, помочь в самом трудно разрешимом... Потому и идут к ней те, кто постарше, и те, кто помоложе,– и с сомнениями, и с жалобами, и с радостями, раскрываясь в том, в чем никому другому бы не раскрылись.
О многих работниках газобетонного рассказала мне Антонина Николаевна, множество людей – и не по анкете лишь – знает она: знает их настроения, планы, бывала дома, знакома с женами, мужьями, детьми... Она же рассказала мне об Иване Васильевиче Прокофьеве, редакторе заводского «Прожектора».
Кстати говоря, о «Прожекторе» и его редакторе я слышал не только от Антонины Николаевны: дай бог любому изданию такую популярность, какой «Прожектор» пользуется на заводе. Его любят, его опасаются, при упоминании о нем начинают загадочно улыбаться: «А вы уже читали последний номер?..» И при этом чувствуется: если в ответ хотя бы несколько одобрительных слов о «Прожекторе» не скажешь – на тебя обидятся. Так что и помимо разговора с Антониной Николаевной мне было очевидно, какая роль отведена ему в заводской жизни. Но именно из беседы с ней выяснилось, что для Прокофьева заводская сатирическая газета – вовсе не просто очередная «нагрузка» или «поручение»...
Жизнь у Ивана Васильевича, пожалуй, никакими особенностями, невероятными изгибами не изобилует – вполне обыкновенная, хорошая, трудовая жизнь, которую, впрочем, как и любую другую, двумя строчками не опишешь. Пришел на завод он два года назад, начал работать электрослесарем, к обязанностям своим относился добросовестно, со старанием, под стать остальным членам бригады Гончаренко. Его приняли в партию, а потом, памятуя об увлечении, с каким выпускал он стенную газету в цехе, доверили его заботам «Прожектор».
В той части жизни, которая на предприятии или в учреждении называется общественной, случается, что безголосых обязуют ради поднятия массовой активности петь в хоре, певцов – тренироваться в беге на длинные дистанции, а стайеров – читать лекции о происхождении колец Сатурна... Здесь, к счастью, произошло наоборот, то есть именно так, как и должно быть.
Самостоятельный, независимый характер, обостренное чувство справедливости, с виду эдакое невинное лукавство, а за ним – непримиримая, бескомпромиссная враждебность к любой лжи, нечестности, к любым проявлениям эгоизма и душевного хамства – все это сумела разглядеть, разгадать в ничем внешне не примечательном человеке Антонина Николаевна, выдвигая кандидатуру Прокофьева на партбюро.
Но «Прожектор» – это не только Прокофьев, а и дружная, инициативная редколлегия – комсомольский штаб «Прожектора». И постоянные корреспондентские группы по всем цехам. И, наконец, весь завод – коллективный читатель, адресат и автор «Прожектора». Что же до самого Ивана Васильевича Прокофьева, то для него, без преувеличения, с «Прожектором» жизнь обрела новый стержень, новый смысл.
«Прокофьев,– сказал мне кто-то на заводе,– это второй директор, второй главбух, второй главный инженер...» Но так о нем заговорили далеко не сразу.
Раньше, когда только стали появляться номера с меткими, беспощадными репликами и карикатурами (в армии, кстати, Прокофьев был снайпером), тон «Прожектора» кое-кому показался слишком резким и требовательным. Но дело заключалось не в тоне самом по себе, а в том, кто и с кем разговаривал таким тоном.
Будь то оперативка или производственное совещание, будь то полученное в обычном порядке замечание или даже выговор – никто бы, возможно, не возмущался, принято к исполнению и руководству – и дело с концом. Но произошло отступление от устоявшейся субординации. Простой слесарь (это слова самого Ивана Васильевича: «Кто я, сами-то судите. Простой слесарь...»), простой слесарь Прокофьев самым вежливым образом являлся к начальнику цеха, являлся в бухгалтерию, являлся в снабженческий отдел и просил разрешения проверить поступивший сигнал, убедиться в достоверности фактов. Он был въедлив, дотошен – и в то же время спокоен и безукоризненно сдержан. Спустя несколько дней в «Прожекторе» помещали разительную карикатуру или стишок, далекий от классического совершенства. На карикатуру сбегался смотреть весь завод, а стишок гулял, перепархивал из уст в уста. Это, однако, бывал только первый этап. За выступлением «Прожектора» следовало письмо на специальном бланке с просьбой – принять меры и сообщить о результатах. И тут же – четкое, настойчивое указание срока. И подпись: «Штаб комсомольского «Прожектора».
Если меры не принимались – «Прожектор» продолжал бой. С ним – хочешь не хочешь – пришлось считаться...
Недавно Прокофьев заглянул в один из управленческих отделов. Работник этого отдела, женщина, которой незадолго перед тем пришлось испытать на себе силу «прожекторской» сатиры, тревожно подняла на Ивана Васильевича глаза:
– Что, товарищ Прокофьев, опять что-нибудь не так?..
– Нет,– успокоил ее Прокофьев,– отчего вы подумали?..
– Как же,– вздохнула она,– мне сон приснился. Будто бы белый конь, и вы, товарищ Прокофьев, на этом белом коне. И скачете прямо на меня, и я испугалась, даже бежать не могу... Проснулась, рассказываю мужу, он говорит: «Ну, значит, «Прожектор» тебе снова что-то готовит...»
Шутки шутками, но, просматривая свежий номер «Прожектора», я подумал, что он в самом деле кое-кому сможет померещиться и во сне...
В номере, помимо прочего, рапортовал начальник фор мовочного цеха, отвечая на прошлую критику: «Недоделки и котельной траншее устранены. Края траншеи отрихтованы, крышки приварены и выправлены».
Тут же, напротив того места, где вывешивается «Прожектор», рабочие устанавливали новый сатуратор. Его давно собирались привезти из Караганды, но у начальника отдела снабжения все отыскивались различные отговорки. Однако сигнал в «Прожектор» – и вот...
В тот же день завком собирал срочное совещание по поводу рабочего контроля над столовой: и здесь вмешался «Прожектор»...
Факты как будто не слишком значительные сами по себе: котельная траншея, сатуратор, столовая. Но на этих фактах создается, вырастает то, что необходимо всякому целеустремленному, здоровому коллективу: общественное мнение, без которого нет правильных взаимоотношений ни между рабочими и начальством, ни внутри самой рабочей среды.
Кстати, с критикой «начальства» обстояло даже легче, проще, чем с критикой своего же брата-рабочего. Тут бывали сложные ситуации, бывали конфликты, когда слесарю Прокофьеву и его «прожектористам» приходилось ох как туго.
Чаще всего критику «Прожектора» встречали виновато, раскаянно: «Чего там, Ваня, случился грех... За правду не обижаюсь». Но бывало – редко, но бывало! – в горячке сулились и «рожи надраить» прожектористам, и отомстить каким-нибудь способом... Хотя дальше угроз не шло. Но слышать такое от своих же товарищей – занятие не из приятных.
А как-то на собрании в одном из цехов напали на «Прожектор», в котором писалось о рабочем этого цеха: он мастерил всякие поделки, потом сбывал их, деньги выкладывал на круг... Его приятели и поднялись на защиту. Требовали новых доказательств, а главное – говорили они,– нечего совать нос в чужую жизнь, учить, лезть не в свое дело... Пить?.. Сами знаем, как и где!.. (В этот же день три работницы завода решили отметить дату рождения подруги: спустя полчаса у одной из них станком «помяло», как тут говорят, три пальца, их пришлось отрезать). Прокофьев не отступил, не уступил. Прошло немного времени – он опять подошел к рабочему, у которого нашлись заступники, показал ему новый сигнал, полученный газетой. Тот изменился в лице, взмолился: «Ваня, не надо, не пиши... Слово даю – было, но в последний раз...» Прокофьев подумал-подумал – и согласился попридержать материал:
– Однако смотри – от тебя самого все зависит...
«От тебя самого все зависит...»
Недавно мне попался сборник юридических статей, в одной я прочел: «Свыше шестидесяти пяти процентов всех опасных преступлений совершаются в состоянии опьянения». Опасных!.. А «не опасных», то есть драк, дебошей, мелких ограблений? Ответ содержался в той же статье: девяносто процентов!..
Алкоголизм... Загубленные жизни, дети-уроды, семьи, обреченные на полуголодное существование, миллионы рублей, вылетающих в трубу из-за прогулов, поломок, вялого, тупого труда – «с похмелья»...
Я разговаривал со своим знакомым, философом-правоведом, соглашался с его рассуждениями, умными, глубокими, блистательно соединявшими и практический опыт – он долго работал в милиции – и последние научные теории (речь шла о социальных корнях алкоголизма), а про себя думал: все это так, все это многое объясняет, да что же делать – немедленно, сейчас? Ведь надо же что-то делать!
Бесспорно, и тут, как во множестве других случаев, нельзя надеяться на какой-то единственный метод, на слишком прямолинейные средства. Ко вот я листал старые номера «Прожектора», в которых постоянно повторяется тема борьбы с пьянством, потом спрашивал у рабочих: есть ли результат в такого рода выступлениях? Мне отвечали всерьез, без иронических ухмылок: да, есть. Кто же хочет попасть «в карикатуру»?.. Да и вообще – кто себе враг?.. Иных ответов я не слышал. И не слышал ссылок на человеческую природу вообще, на бесполезность общественного воздействия, на исторические традиции. Мне говорили: «Да, у нас с этим стало строго. Пьют меньше, заметно...»
Мне кажется, такая борьба имеет успех там, где есть действительное общественное мнение, в таком коллективе пьянице трудно, невыносимо жить. И еще – когда есть люди, ведущие эту борьбу не от кампании к кампании, а постоянно, с пониманием значительности и всеобщности этой борьбы.
«От тебя самого все зависит»,– нет, для Ивана Васильевича это не случайные, не бездумно брошенные слова...
7
С Прокофьевым я часто виделся на заводе, но все как-то мимоходом. Сначала в парткоме, куда он заглянул после ночной смены: нужно было готовиться к итоговому политзанятию, он спешил взять необходимую литературу.
Потом мы встречались в цеху – в ту неделю Прокофьев работал в ночь, днем хлопотал по делам «Прожектора».
Поговорить же, и обстоятельно, мне хотелось, и я сам направился к Ивану Васильевичу домой в субботний вечер.
Он зашел за мной точно, минута в минуту – черный костюм, белая рубашка, несколько торжественное выражение лица: я был уже не просто приезжим журналистом, а его гостем.
Вскоре, пройдя через старый,– оказывается, и в Темиртау есть такие! – сплошь затененный раскидистыми кленами двор, поднялись по прохладной после предвечернего уличного зноя лестнице на второй этаж. Днем раньше я побывал у директора завода и теперь, сравнивая квартиры, особой разницы не заметил – та же полированная мебель, тот же шкаф с книгами, тот же не загроможденный вещами уют. Я познакомился с женой Прокофьева, Аллой Корниловной, красивой крупной женщиной, с уверенными движениями, властным голосом, приветливой улыбкой.
Третьим членом семьи Прокофьевых был Юра, десятиклассник, вернее, почти уже и не десятиклассник, ему оставалось только два-три экзамена.
– Юрий Иванович,– представился он, не моргнув глазом, отвечая на мое рукопожатие. И с этой же, самой первой, минуты между нами возникли отношения, свойственные людям давно знакомым, которые уважают друг в друге независимость мнений, а неизбежные по возрасту расхождения обоюдно смягчают юмором.
Через несколько минут я уже знал, что Юра три года назад закончил музыкальную школу, но будущее связывает не с музыкой, а с Карагандинским мединститутом, он уже побывал там в прошлое воскресенье со своим другом, и не просто побывал, а ухитрился пробраться в анатомку, это не страшно, чепуха...
Вслед за тем я узнал и кое-что о его друзьях, а именно: что две Юрины соклассницы выбрали журфак, а потому хотели бы кое о чем со мной посоветоваться: тут же раздался телефонный звонок, за ним появились и сами девушки, а немного спустя пришли двое ребят, тоже закадычные Юрины друзья.
Так что у Прокофьевых в тот вечер образовалась, надо сказать, веселенькая компания, и не было никакой возможности для обстоятельной и неторопливой беседы; тут заварился извечный нестареющий разговор о вопросах как бы и бытового, и школьного порядка, но одновременно порядка, так сказать, космического – о настоящих людях и мещанах, о добре и зле, о равнодушии и непримиримости – вопросы, которые с малым отличием волнуют шестнадцати-, семнадцатилетний народ всюду, где ни доводилось мне бывать!
Но я заметил кое-какие особенности, характерные, возможно, для таких, как Темиртау, небольших рабочих городов.
Мне особенно запомнилась одна из девушек, с белым бантиком и спиралькой русых, выпущенный на лоб волос. Где-нибудь на улице ее лицо, наверное, не привлекло бы пристального внимания, но это было одно из тех лиц, которые, загораясь, становятся прекрасными, озаренными, ум и чувство сливаются в единый живой порыв,– его не передаст никакая фотография. Звали ее Ниной. С таким именно жаром говорила она о профессии журналиста. Я попытался этот жар остудить, подчеркнув прозаическую сторону журналистской работы. Она слушала внимательно, однако вежливости в этом внимании чувствовалось больше, чем согласия. Оказалось, кое-что в этом роде она знает и сама: бывает в местной редакции, пишет, выполняя газетные задания, уже несколько лет заметки ее и даже стихотворения публикуются, а что до будущего... Да, она вовсе не прочь работать и в районной газете, ее привлекает газета сама по себе, то есть возможность с ее помощью бороться со злом, всюду отстаивать правду, справедливость!.. Так же думала и подруга Нины, Двое остальных ребят тоже вполне сознательно и трезво для своих лет судили о будущем: для одного, как и для Юры, это был мединститут, для второго – музучилище. Ни в ком не ощущалось панической тревоги в случае неудачи на конкурсе: тогда – завод, это тоже интересно, полезно, важно. Завод или стройка... Я вспомнил о разговоре на ту же тему с одной алма-атинской десятиклассницей, для которой мечта поехать после школы на стройку казалась пределом романтики. Эти ребята – в более выгодном положении, для них это не песенно-туманная даль, а естественная жизнь, они ее знают, видят вокруг, и одолевавшие многих их сверстников разочарования, крушения книжных идеалов им не грозят...
А вместе с тем – ребята как ребята: крикуны, спорщики, неуемные, категоричные!
– Вот у нас в классе... Почему, ну почему люди мирятся с подлостью?
– Честный человек – и бессилен?.. Никогда этого не может быть!
– Нужна убежденность, даже неистовость, одержимость!.. Ну, да, одержимость – не то слово, я хочу сказать – нужно иметь свои взгляды, идеи и бороться за них до конца! А у нас есть такие – им все равно, что где, как... Это – люди?
– Нет, вы скажите, скажите, что с такими делать?.. Если они говорят...
– Мещане, самые настоящие!.. Только о себе, только о себе... Ненавижу!..
А вообще-то, речь шла все об одном и том же, самом главном сейчас для ребят: об активной позиции в жизни, о том, в чем эта позиция должна выражаться – все равно, рабочий ли ты, медик или музыкант.
Диспуты такого рода, на которых мне случалось бывать, поневоле носят обычно несколько умозрительный характер – этот же импровизированный диспут отличался почти неправдоподобной конкретностью. Потому что Иван Васильевич, до поры до времени молча сидевший в кресле, вмешался в общий разговор и стал рассказывать о газобетонном, о его людях. Рассказывал неторопливо, без нажима, улыбаясь, смакуя слова и как бы представляя себе в тот момент и Фадькина, и Дитца, и Гончаренко. Потом он заговорил о «Прожекторе», но так, что и намеком не дал понять, какое сам имеет к нему отношение.
Ребята слушали. Какой-то неуловимый поворот произошел, казалось, в каждом из них. Все было как бы и знакомо – и вместе с тем ново: так, с таких позиций видели они завод впервые, и завод, и людей, среди которых прожили всю свою недолгую жизнь. Какая-то сокровенная глубина приоткрылась для них, та сложность бытия, в которой за привычным таится идеальное, за будничным – романтичное, та глубина, где происходит соединение жизни и книги, знаемого и видимого.
Наверное, этого не хотелось Ивану Васильевичу, но в конце я не утерпел, рассказал, какую роль в «Прожекторе» играет сам отец Юры... Здесь мне хочется прибегнуть к старинной формуле: «надо было видеть...» Да, надо было видеть ребят в этот вот момент! Что же касается Юры, он сидел свекольно-красный, смущенный, не зная, худа себя девать – как будто речь шла о нем самом, а не о его отце...
Иван же Васильевич, преодолевая возникшую неловкость, почесал переносицу, покашлял и пригласил всех за стол.
Редкостно хорошо было за этим столом, где разговор перескакивал с завода на учителей, со школы на Боровое, куда походом отправлялись ребята в прошлом году, с похода – на поэзию («Прислали на весь город три сборника... Пришлось все самим переписывать!»), на школьный литкружок «Лучик» – и снова на «Прожектор». Бокалы сухого вина поднимали здесь скорее чисто символически, и все было воистину молодо, весело, интересно.
Глядя на Ивана Васильевича, я вспомнил однажды сказанное им:
– Вот о чем я думаю: надо, чтобы везде был свой «Прожектор» – в учреждениях, на предприятиях... Словом, всюду... Понимаете?..
8
Однажды в голову мне пришла странная мысль: что было бы, подумал я, окажись директором завода человек, постоянно помнящий о том, что он лицо «вышестоящее» и самим своим положением обязанное всех поучать и направлять на путь истинный... Как тогда обстояло бы дело, скажем, с тем же «Прожектором»? Ведь мог бы он заподозрить, что критика такого рода подрывает его собственный авторитет. Например, мог бы он заявить, что карикатура на поваров заводской столовой в состоянии привести рабочих к неверным выводам и обобщениям по поводу всей нашей системы нарпита и, в конечном счете, сыграть на руки империалистической пропаганде. Или мог бы он умозаключить, что любые неполадки в силах устранить сама администрация собственными административными способами (умозаключить! – а там уж были бы они устранены или нет – не суть важно...) Да мало ли какие еще идеи могли бы осенить такого директора! И висела бы тогда в формовочном цехе обычная «стенгазета» с дежурной, из прошлогоднего календаря переписанной передовой и почтовым ящиком на месте последнего столбца – с призывом сочинять заметки. Но заметок никто бы не сочинял, никто бы не ждал нового номера, никто бы не говорил на заводе: «А вы еще не видали?.. Не читали?..» И, скажем, начальник цеха товарищ Генке чувствовал бы себя куда спокойней в связи с допущенным браком, и в полимерном так и стояли бы до сих пор неотремонтированными вальцы № 3, и завком не созывал бы срочного заседания по поводу непорядка в столовой... То есть не было бы какого-то очень важного для заводской жизни штриха, да и не просто штриха – не было бы очень важного воспитывающего, политического фактора, от которого в известном смысле зависит сознательность, принципиальность, непримиримость к недостаткам всего коллектива, его душевное здоровье, наступательный дух...
Но не только в директоре тут дело. А если бы парторг Антонина Николаевна Душко оказалась человеком не столь чутким, не столь здравомыслящим, не столь верящим п силы рабочего коллектива? Если бы не знала, как самое себя, этот коллектив и на месте Прокофьева очутился иной, пусть тоже добросовестный, обязательный человек, но без склонности к такому делу?.. И если бы иначе, формально, отнеслись к «Прожектору» – ведь и других забот им хватает! – заводское партбюро, парторганизация в целом?..
Но речь не только и не столько о «Прожекторе» – речь о характере, стиле всей жизни газобетонного; было бы искусственным выделять лишь одно какое-нибудь звено... И вот, в заключение этого очерка – он разросся постепенно и стал, в противоположность начальному замыслу, действительно кое-чем напоминать очерк – в заключение, мне хотелось бы рассказать о директоре завода.
...Когда-то а в общем, не в столь уж отдаленные времена – жил-был в славном городе Одессе мальчик по имени Павлик. Однажды вместе со своим пионерским отрядом он отправился в экскурсию на аэродром, и так же, как все остальные мальчишки и девчонки, идя по летному полю, крутил во все стороны своей рыжей долгошеей головой, любовался очертаниями серебристых фюзеляжей и слушал пояснения летчика, который играл роль экскурсовода. Это был военный летчик, и он, между прочим, рассказывал, что при пикировании пилот выдерживает большие перегрузки, нужна огромная воля, самообладание, чтобы не потерять управление собой и, следовательно, самолетом. И когда земля с ревом близится к самолету, и уже вот-вот... вот-вот... чтобы как раз в этот безошибочный момент плавно нажать на штурвал и вывести самолет из пике.
В этом месте рассказа военного летчика многие девочки, если не вслух, то про себя, наверное, уж ахнули от сладкой, подступающей к горлу жути, а мальчишки гордо выпрямились и всем своим видом постарались обозначить, что они бы и в такой момент не подкачали. Что же до Павлика, то он, наверное, тоже гордо выпрямился, выгнул грудь или еще как-нибудь показал, что он тоже смелый, отчаянный человек. Но это было, представляется мне не самым главным – а главное заключалось в том, что он одновременно подумал... Подумал: а нельзя ли сделать какое-нибудь приспособление, чтобы выход из пике совершался автоматически?..
Он продолжал думать об этом и на следующий день, и еще через день, и в конце концов поразился удивительно простой мысли, которая неожиданно мелькнула, вернулась, застряла у него в голове: когда стрелка высотометра падает до заданного деления, срабатывает электрический контакт, соединяющий ее с управлением самолета!.. Это был первый испытанный им восторг открытия, несравненного наслаждения пружинистой силой собственной мысли – он бросился к товарищам, к учителям, он каждому встречному готов был, наверное, объяснять, как это все легко и просто, смотрите... Оказалось, правда, что подобная схема в авиации уже существует, никакого открытия мальчик не совершил... Но это было и так и не так: одно несомненное открытие произошло – он открыл самого себя...
Другое, не менее важное, открытие случилось много лет спустя.
К тому времени Павел Ройзман успел закончить институт, увлечься химией стройматериалов и приехать в Темиртау, где планировали завод газобетона. Вместе с ним прибыло еще двадцать семь молодых инженеров. Потом почти все они вернулись назад. Он остался. Его тоже манил Приморский бульвар и золотые пляжи Каролина-Бугаза. Но он остался. Почему?
...Дома у Ройзмана, пока его сынишка пытался на кухне подружить серого воробья с австралийскими попугайчиками, а четырехмесячная дочь, лежа на тахте, осваивала туристические проспекты, недавно привезенные из Болгарии,– пока младшее поколение занималось этими серьезными делами, мы пили черный кофе из крохотных чашечек, вспоминали прошлое – и хохотали... Хохотала, собственно, Люся,– Ройзман подхохатывал, помогая жене в подробностях, а я смеялся, не всегда понимая сам отчего: просто весело было смотреть, как оба они так вот сидят – и вспоминают... Я понял только, что их знакомство произошло здесь же, на Магнитке, Павел работал мастером на строительном полигоне, а Люся – из Витебска, после школы по комсомольской путевке – крановщицей. Жила она в общежитии, куда, понятно, не пускали парней, и он частенько дежурил под окнами, дежурил терпеливо, упрямо, судя по тому, какая она и сейчас – по-девчоночьи – тоненькая, живая, яркая, с горячими, переливчатыми глазами,– за хорошенькой крановщицей ухлестывало немало ребят...
Может быть, все решила эта встреча?
Или, все-таки, главным был газобетонный, лаборатория, куда он вскоре пришел и где все надо было начинать с самого начала?.. В моем блокноте несколько страничек отведено изобретениям, которые сделаны Ройзманом и его товарищами,– кислото-, водо– и морозостойкие мастики, клеи, ныне применяющиеся в строительстве,– я не воспроизвожу эти записи, все равно они постижимы только для специалистов. Суть же в том, что дерзостная, мучительная, захватывающая радость творчества, шевельнувшаяся в нем когда-то, выход и применение нашла именно здесь.
Или то было свойственно молодости – да не только молодости! – азартное, веселое свойство: идти наперекор! То самое, что заставляет вдруг предпочесть асфальту – обрывистую тропку геолога, садам и паркам – антарктическую зимовку, а милому с детства городу на черноморском берегу – степной, раскаленный летним зноем, продутый морозными ветрами, суровый, мужественный, как присяга, Темиртау...
Не знаю, когда, как это произошло, постепенно или в какой-то особенный, трудно уловимый момент – но еще задолго до того как сделаться директором, он ощутил, что этот город – его город, завод – его завод. Что этот город, этот завод – нужны ему, а он – нужен им.
Нужен...
Завидное чувство!
... Я видел его, когда он проводил оперативку, речь шла о выполнении обязательств и о простоях в транспортном цехе, о профилактических прививках от кишечных заболеваний и тормозах на бетономешалках, о приборах для горчицы и перца в столовой и заключении предварительных договоров на рацпредложения. Здесь не было первостепенных и второстепенных вопросов – были менее сложные, их решали в течение минуты, и более сложные – они требовали размышлений, советов, спора.
Я наблюдал за ним на итоговом занятии в философском кружке: он вел заключительную беседу тонко, умно, перекидывая мостики от проблем теории к современной международной обстановке, а от нее – к конкретным заводским событиям. Вел?.. Нет, он не «вел» беседу, он учил думать, мыслить.
На заводе принято: раз в две недели руководители приходят в цеха – с политинформациями, докладами, но каждая такая встреча – это своеобразный отчет о заводских делах, свободный обмен мнений, совместный поиск.
Такие люди, как Гончаренко, Дитц, Фадькин, Прокофьев, как многие другие, на заводе внушают уважение, требуют ответственности за свои слова и поступки, они способны не только учиться, но и учить.
Как-то Ройзман сказал: «Инженеру приходится работать не только с механизмами – с людьми, он должен знать этику, педагогику, психологию, но в институтах...» В этом смысле завод стал для него шестым курсом, здесь он учился скромности, самоконтролю, человечности.
Несколько лет назад, когда пришло распоряжение о сокращении штатов, он первой уволил свою жену.
И увидев, что один из мастеров – кстати, знаток производства, но слишком резкий, грубый, бездушный в обращении – не может найти общего языка у себя в смене, Ройзман твердо заявил ему: «Вам лучше подыскать место в конструкторском бюро».
С комсомольцами он фантазирует над оформлением праздничной колонны («чтобы все видели: идет газобетонный!»), с Гончаренко и Фадькиным изобретает устройство для резки бетона, с группой московских ученых участвует в создании нового вида ячеистого бетона – жаростойкого, этот бетон уже родился в Темиртау, выдержал испытание, уже запатентован в Англии, Франции, Италии...
Кто-то из инженеров жаловался: некоторые рабочие не уважают начальство, подходишь в перерыв – а они продолжают стучать в домино...
Я каждый день видел молодого директора в цехах – перед ним никто не встает навытяжку, его внимательно слушают, ему по-деловому возражают, предлагают свое – с ним есть о чем поговорить...
И мы тоже долго разговаривали в тот вечер, за кофе, и не только за кофе. Спорили. Соглашались. Не соглашались. Разговор был о разном, в том числе и о самом главном, коренном.
Он сказал, понимающе усмехнувшись:
– В жизни – как на производстве: пока внедряется что-то новое – и брак идет, и обнаруживаются просчеты в технологии, и то там, то тут – неполадки... Это неизбежный процесс в пусковой период. А вам хочется, чтобы все сразу...
Я подумал: да, он имеет право на эти слова: вместе с заводом, вместе со всеми его людьми он переживал трудности «пускового периода», тот период уже давно кончился, теперь это передовое, отлично работающее предприятие, в значительной степени – экспериментальная база, лаборатория строительной индустрии всего Казахстана и, пожалуй, даже не одного Казахстана...








