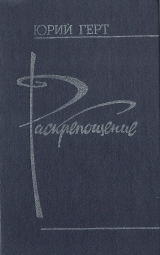
Текст книги "Раскрепощение"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Но поскольку речь зашла не только о производстве, спор наш не затихал до полночи.
Он вышел проводить меня к автобусу, вручив на прощанье автореферат своей диссертации: «У нас, инженеров, так принято...» Брошюрка была тоненькой и называлась «Стойкость ячеистых автоклавных материалов в условиях животноводческих помещений». Он сказал недовольно:
– Тема не слишком грандиозная... Да писалось-то как: сядешь к столу – Игорь на колени... Люся в то время техникум заканчивала...
Мы вышли на свежий воздух. Было темно, тихо – в Темиртау рано ложатся, рано встают.
Вот и сейчас передо мной лежит эта брошюрка, но вижу я не ее, а плиты, которые грузят в кузова автомашин в транспортном цехе: они дешевле прежних, способны выдержать высокую влажность, устоять перед воздействием углекислого газа, аммиака, их ждут совхозы – ближние, дальние... Нет, не плиты эти я вижу, а лица – Гончаренко, Дитца, Фадькина... И думаю о споре – теперь уже он кажется таким давним! – со своим приятелем, о вечере у Ройзмана – для меня прощальном. И мне заново вспоминаются слова – уже безотносительно к смыслу, который он в них вложил – о жизни, производстве...
Всякое сравнение хромает, и дело не в том, чтобы заменить одно другим, более удачным. Я хотел рассказать не о производственном процессе самом по себе, не о газобетоне, не о станках, не о болтиках и винтиках – о людях, которых нельзя уподобить не только болтикам и винтикам, но и наисовершеннейшим, наиэлектроннейшим машинам.
Но стоило ли за этим ездить в Темиртау? Разве вокруг нас – не те же люди, не та же самая жизнь?..
Июль 1969
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ ОЧЕРКА «ПОЕЗДКА НА ГАЗОБЕТОННЫЙ»
Предваряя очерк, я сказал, что побудило меня отправиться в Темиртау: спор с Н. На самом деле – не совсем так. Просто после очередной атаки на «Простор», теперь уж не вспомнить – какой и за что, столько их было!..– в редакции решили ради жаждущего нас сожрать высокого начальства обзавестись вполне благонадежным материалом, к тому же – на тему, которой начальство взыскует: о рабочем классе. Поскольку в то время о рабочих говорилось в торжественных случаях только так: «гегемон», «класс-гегемон» и всячески намекалось, что и начальство, как самое высокое, так и не самое, а и то, что пониже,– все равно, раз начальство, то и оно плоть от плоти «гегемона», то есть в ранней юности трудилось токарем (слесарем, шахтером и т. д.) на таком-то заводе (руднике, шахте, в депо), а потом именно «гегемон» определил ему, начальству, управлять страной, питаться в особых столовых и магазинах, жить в особых домах и квартирах, ездить в особые дома отдыха, лечиться в особых больницах и быть в заключение положенным в землю на особом, не всем доступном участке. И потому читать в журнале про рабочий класс, то есть как бы отчасти и про себя, начальство любило. И мы бы отвели нависшую над журналом грозу, опубликовав два-три материала, в глазах начальства оправдывающих наше существование.
Но так как, работая над очерком, я думал не столько о начальстве, сколько о споре с Н. и многом другом, вместо подтверждения своей благонадежности журнал добился новых неприятностей. Рабочему полагалось думать о производстве, не рассуждать, не рефлектировать, подобно подозрительной интеллигенции, быть всем довольным и в дни революционных и государственных праздников выпивать стопку водки – разумеется, под хорошую закусь. В очерке рассказывалось о другом... Но, разумеется, о многом я не мог и мечтать заикнуться. Например, о событиях десятилетней для того времени давности – «беспорядках», «волнениях», «бунте» и даже «восстании», как это по-разному называли в Темиртау. А значит – и о том, какой след эти события оставили в душах темиртаусцев, какое место занимали в наших разговорах на газобетонном... Потому, а также по причине дополнительных и неизбежных ограничителей тех лет, очерк вышел куда более легковесным, чем замышлялся.
И вот что еще хотелось бы оговорить. Очень толково, здраво, иной раз – поразительно метко говоря и размышляя о своей заводской жизни, люди газобетонного заметно блекли, выцветали, едва мы касались проблем государственного масштаба, недалекого прошлого страны, общественной жизни, литературы. Пресса, радио, пропагандисты делали свое дело: не давали мысли развернуться, не давали человеку ощутить себя – не только активным участником жизни завода, но – всей страны. И, конечно же, эпоха брежневского «одобряем и поддерживаем» опиралась не только на страх, непривычку к широкому общественному мышлению, но и – на отсутствие информации, книг, издававшихся в лучшем случае ничтожными тиражами, отсутствие статей и рукописных стихов, поэм, романов, гулявших в самиздате, мало кому в большинстве мест доступном. На этом тщательно взращиваемом невежестве возникали – судилища над Синявским и Даниэлем, клеветническая травля академика Сахарова и Солженицына, «тихое» удушение «Нового мира», расправы над абстракционистами, инакомыслящими...
Вот причина того, как понимали в редакции «Простора» роль своего журнала, причина ощущения своей нужности, причастности к важнейшему делу просвещения и воспитания доступного нам круга читателей: «Новый мир» тех лет имел тираж в какие-то сто с немногим тысяч, «Простор» – тем более жалкий, но вполне с ним сопоставимый: около двадцати тысяч. Но мы утешались тем, что делаем все, что можем, и – что в прошлом веке тиражи «Современника» и «Отечественных записок» значительно проигрывали в сравнении даже с нашим...
Разумеется, тут не было никакой политической оппозиции с ясной программой,– был протест против постоянного надругательства над человеческим достоинством, над литературой, над здравым смыслом. То есть – была та эмоциональная, стихийная оппозиция, в которой состояло большинство народа, по-разному ее выражая. И единение с этим большинством придавало сил «Простору» тех лет и его редактору Ивану Петровичу Шухову. В условиях строгого идеологического режима уже одно существование нашего журнала воспринималось как победа. Но были еще и малые, частные победы, редкие праздники. Они случались, когда удавалось приглушить неусыпную начальственную бдительность. Иногда наше «местное» начальство в усердии своем забегало даже дальше того, что находилось в Москве, и попадало в конфузное положение. Помню, как однажды в такой момент Иван Петрович, посмеиваясь, произнес в телефонную трубку:
– Передайте своему городовому, что на этот раз он свистнул не на том перекрестке!
Передали... «Простору» пришлось расплачиваться – за слова редактора, о которых впрямую, понятно, не говорилось, и за одну из своих публикаций, которую принялись поносить на всех перекрестках...
В такой вот момент нашей нервной, полной неожиданностей редакционной жизни я и отправился в Темиртау, на газобетонный...
МЫ ЗНАЛИ, НА ЧТО ИДЕМ...
Это строчка из письма Юрия Домбровского, которое он прислал мне в самом начале семидесятых: «Мы знали, на что идем...» А речь в письме шла об одном из многочисленных обращений в самые высокие инстанции (ЦК КПСС, правительство, съезды творческих союзов и т.д.), подписанном теми, кто не хотел, или даже и хотел бы, да не мог молчать. Их называли – «подписанты», уродливым словечком, рожденным уродливой эпохой. «Подписантов» наказывали: вычеркивали из издательских планов, запрещали печатать, упоминать их имена в прессе – иначе как в ругательном смысле. Тех, кто работал, могли выгнать с работы. Отовсюду снять, отовсюду исключить – все это делалось запросто. Разве что не сажали, но никто не знал, что произойдет завтра, что его ждет – тюрьма или психушка... Но были готовы ко всему, поскольку – «знали, на что шли...»
Юрий Домбровский был историк, «антик», умница, ему было немногим больше двадцати, когда его арестовали и выслали в первый раз, потом были лагеря в Магадане, на Колыме... Он знал, отчетливо представлял арифметически ясную бесполезность этих писем, протестов, но – не мог, не мог... Кто мог, тот молчал, но были такие, что не могли – молчать, смиряться, сгибаться дугой, холуйствовать, выслуживать орденок или местечко, предоставляя всему вокруг пропадать пропадом и лететь в тартарары... Мне хочется написать о тех, кто не мог: о Шухове, о Домбровском, о Худенко. Три человека, три пути, три судьбы. Они знали, против чего идут. Знали – ради чего. Знали, каков риск. Они все знали – и все-таки шли. В этом их сходство. Но у каждого был свой путь и свой финал.
Шухов жил и работал в существующей, узаконенной системе координат. Его назначили руководить журналом, наградили республиканской литературной премией, неоднократно издавали и переиздавали – пока не затравили вконец, не расправились, изгнав из «Простора», после чего – униженному, оскорбленному, отстраненному от любимого дела – жить ему оставалось уже недолго...
Домбровский в систему, спроектированную Сталиным, не вмещался, он был откровенно, открыто враждебен ей, она – ему. Домбровского арестовывали, ссылали, бросали в лагеря, годы и годы не печатали, он перебивался черт-те чем – переводами, случайными заработками – чтобы иметь деньги и крышу, хлеб и бумагу. «Факультет ненужных вещей» издали во Франции, хотя нужен был он в первую очередь России. Да, России – но не тем, кто ею тогда управлял. Не умея управлять, они хорошо умели расправляться. До публикации «Факультета» в собственной стране Домбровский не дожил каких-то десять лет – совершенный пустяк для истории, но не для сроков человеческой жизни...
Чего хотел Худенко? Накормить людей. Чего требовал? Единственного: чтоб ему не мешали. Ему помогли? Его посадили в тюрьму, там он и умер. Когда это случилось?.. Нет, нет, не в годы «великого перелома», и не в годы ежовщины, и не в сорок седьмом или сорок девятом году. Я был на кладбище, на его могиле, там на памятнике, который не так просто было найти, выбиты две даты: 1917 – 1974.
Вот так: 1974 год. «Это было так недавно, это было так давно». В том году Шухова лишили «Простора», «Факультет», заключенный в папку, лежал у Домбровского в самом дальнем, безнадежном ящике письменного стола, Худенко умирал в тюрьме под Алма-Атой...
Три жизни. Три факела. Три судьбы.
ШУХОВ
О Яне Гусе и Джордано Бруно мы узнаем из школьных учебников. Но кто расскажет о маленьком чиновнике, дерзнувшем – на бунт против начальства, хотя, по словам Герцена, для такого бунта требуется порой не меньше мужества, чем для того, чтобы взойти на костер?.. В Алма-Ате трепетно ловили каждый шорох, долетавший из Москвы, каждую подробность столичных баталий – и старались помочь осажденной, «новомировской» стороне, печатали «новомировских» авторов, перед которыми з хлопывались двери «больших» журналов. Но там, в Москве,– что знали там о Шухове и его «Просторе»?.. Маленький, рисковый журнал, провинциальный парадокс – и только. Его изредка снисходительно похлопывали по плечу... Оно и понятно: в Москве шло планомерное наступление на Твардовского, кольцо сжималось, падение последнего бастиона литературы было предрешено – там было не до «Простора». В Алма-Ате осада журнала развивалась по тем же правилам, только масштаб ее, разумеется, был другой... Впрочем, в одном ли масштабе дело?..
«Отставленный» от «Простора», за два года до смерти, Шухов написал мне из Прибалтики, где отдыхал летом:
«Сейчас я – в Таллине. Городе – сказочном. Неповторимом, и от его неповторимой древности веет печалью. Живу на положении высокого правительственного гостя. Люксовый номер в Резиденции. Прикрепленный автомобиль. Куды хочу – туды ворочу. Чего еще надо?! И бог с ним, с «Простором»! «Хороший был журнал,– сказал мне Арбузов,– но, видно, вы забыли про надпись в одесском трамвае: «Не высовываться. Что ты завтра будешь высовывать?»
А вообще, а вообще – сделали мы – все вместе – немалое дело, и, наши имена припоминая, нас не забудут в новых временах!»
Все есть в этих строках: и горькая обида, и самоирония, и толика греющей сердце гордости: «А вообще, а вообще...»
Да, вот так!
Я познакомился с Шуховым в 1963 году – он только-только пришел к руководству «Простором». Это он решительно сказал о моем романе: «Будем печатать!», от него спасительные для романа импульсы шли – к Шманову, Зинюку, Соловьеву. Впрочем, не он один – вся редакция тогда «болела» за роман. Но если бы не Шухов... Если бы не Шухов, многого бы не было в жизни у многих из нас, и прежде всего – не было бы «Простора»...
Спустя два года после его смерти в Алма-Ате издали большую – на двадцать пять печатных листов – книгу воспоминаний о нем: явление, при нашей неразворотливости, почти уникальное! И так живо множество людей, знавших Шухова, из самых разных мест Союза откликнулись на замысел издателей, так сердечно и разносторонне о нем писали, что – как нередко случается после смерти – личность Ивана Петровича даже в глазах близких его друзей приобрела еще больший масштаб. Но теперь, с расстояния в десять лет, он кажется уже недостаточным, тот масштаб, личность Шухова выглядит – с нынешних позиций – куда крупнее... И, если угодно, загадочней. Именно – загадочней!..
Скажем, Шухов не любил, когда при нем обрушивались на Сталина. Помню, однажды всей редакцией поехали на Коктюбе, отметить выход новой книги Галины Васильевны Черноголовиной. Купили, как водилось, шашлыков, расположились на травке, чокнулись раз-другой – и загорелось!.. В те годы на Коктюбе бывало еще малолюдно, весной склоны голубели от ирисов, летом румянились маками, внизу, до самого горизонта, распластывался в нежной сиреневой дымке город, но нам было не до природных красот. С нами был наезжавший в Алма-Ату время от времени Юрий Домбровский, с него и началось: он что-то резкое оросил о Фадееве, о его роли в избиении «космополитов» в конце сороковых, с Фадеева перескочил к «вождю всех времен», Иван Петрович возразил, Домбровский заволновался, запустил пятерню в свою черную взлохмаченную шевелюру и, перемежая речь бесконечными «видишь ты», произнес инвективу, адресованную тиранам и диктаторам всех эпох – от Нерона до Джугашвили. Он распалился не на шутку, Юрий Осипович, глаза его, под косматыми бровями, зло и вдохновенно посверкивали, рубашка выпорхнула из брюк и развевалась на ветру. Длинный, тощий, он то яростно скреб растопыренными пальцами голову, то махал руками, как птица, готовая взлететь, а Иван Петрович, маленький, багровый, насупленный, стоял перед ним почти вплотную – и ни на шаг не отступал.
– Да что вы, Юрий Осипович, такое городите! – твердил он.– Сталин, Фадеев... Что вы сами-то видели, слышали?..
– Да ведь в те самые годы, Иван Петрович, дорогой, я, видишь ты, на Колыме срок отгрохивал, где уж мне-то самому было видеть да слышать?..
– То-то вот!..
– Да бросьте вы, Иван Петрович! – напирал на редактора ввязавшийся в спор Николай Ровенский.– Кого вы защищаете? Палача, убийцу, сгубившего полстраны?..
Алексей Белянинов, Морис Симашко, я – все, кто там был – атаковали нашего «старика», так мы его, уважительно, с почти сыновней почтительностью; между собой называли. Мы были молоды, зубасты, беспощадны... Иван же Петрович – один против всех – держался неустрашимо:
– Мальчишки! – старался он нас осадить (а выходило– только раззадоривал еще пуще).– Да что вы все понимаете!..– Но кроме сердитой воркотни – ни единого аргумента. У нас же их – сотни, тысячи!.. Бедная Галина Васильевна, без вины виноватая за весь этот разгоревшийся сыр-бор, то бледнела, то пунцовела, да где было ей унять огонь!
И как мы корили себя, когда на другой день «старик» наш занемог воспалением легких, наверное, разгорячась во время вчерашнего спора, на ветерке, веющем с гор острой прохладой! Да пропади он пропадом, «Вождь и Учитель», и даже память о нем – лишь бы Иван Петрович выздоровел! Пускай только поправится, а уж мы никогда-никогда...
Он долго болел в тот раз, времени для покаяния у нас было предостаточно. Хотя и потом, когда Шухов вернулся в редакцию, споры наши продолжались, разве что не столь ожесточенные. Уже много позже я понял: цену Сталину он знал не хуже нашего, разумеется, а горячился не из одной приверженности к раритетам прошлого, психологически объяснимых у старых людей, а – оттого, что в критический для Ивана Петровича момент, в Москве, в середине тридцатых годов, когда ему, совсем еще молодому и уже прославленному писателю, грозили всяческие кары, спас его Сталин: у вождя на книжкой полке среди прочих книг стоял и роман Шухова «Ненависть», не помню, каким именно образом, но это сыграло роль в судьбе Ивана Петровича... Как известно, действительность сложнее любой схемы; растоптав жизни множества писателей, по стечению ли случайностей или по самодержавной прихоти Сталин оставил «погулять на воле» Пастернака и Булгакова. Правда, печататься они не печатались, как и Платонов, но до лагерей все-таки не дошло. Вот и Шухов – из Москвы отправлен был в свою родную Пресновку, в Северо-Казахстанскую область, и разве что писать перестал, молчал и молчал много лет, и пытался иной раз вырулить на широкий шлях социалистического (читай – сталинского) реализма, да не получалось, не создавалось ничего такого, что шло бы вровень с двумя первыми романами – «Горькой линией» и «Ненавистью»... Молчал, тосковал – вплоть до самого «Простора». Один друг юности – Павел Васильев – расстрелянный, лежал давно в сырой земле, другой – Леонид Мартынов – постоянно подвергался критическим проработкам и экзекуциям, благословивший Шухова на крестный писательский путь Максим Горький умер – весьма своевременно и при до сих пор не очень-то ясных обстоятельствах... Шухов молчал – но в душе не мог не благодарить «вождя народов»: ведь все-таки жив остался...
Так что тут никакой, по сути, загадки не было: была порядочность. Загадка заключалась в другом: отчего это где-то, с точки зрения Москвы – бог знает где, у подножия Алатау, в райском, можно сказать, краю, где – опять же с точки зрения Москвы – все только и делает, что цветет и благоухает, обнаруживается вдруг человек, отваживающийся на борьбу заведомо безнадежную, неравную? Объявляется писатель, который не желает «маршировать в едином строю» и стоять по стойке «смирно» перед всезнающим и всепоучающим?.. И при этом так преданно, так застенчиво любит главное свое дело – литературу, что стыдится громогласно, с высоких трибун, говорить о том, как стыдятся говорить о первой любви, тем паче – торговать ею?.. Вот где тайна, вот где загадка! И вот о чем – теперь, когда уже много лет как нет на свете нашего «старика» и не предвидится ему под стать замены – вот о чем я задумываюсь. Что толкнуло – подвигло его на это, поскольку знал ведь, на что идет?..
И первое, что приходит на память... Оно может показаться, впрочем, и чересчур легкомысленным кое-кому... Но первое – это каким, случалось, иной раз можно было увидеть его дома: стоит на лоснящемся, зеркально-золотистом паркете, босой, с подвернутыми штанинами, и усмехается, довольный: «Сам натирал!..» Или – как унимал, пытался унять в редакции двух наших немолодых, одинаково старательных и уважаемых, но – не ладивших между собой машинисток. «Все равно, я ухожу!» – вся в слезах, говорила одна, не слушая Ивана Петровича, исчерпавшего все аргументы. Другая твердила то же самое. «Ну, тогда и я ухожу из редакции!..» – в сердцах воскликнул он, да так, что в ту секунду и сам, и все поверили – уйдет, если не помирятся!.. Или как-то на пресс-конференции у Кунаева, где собрался во всем блеске журналистский корпус, и руководство высочайшего ранга, и вопросы наизначительнейшие, наигосударственнейшие – сколько и каких пудов или тонн не хватает, чтобы выполнить и перевыполнить, и заслужить честь, и получить награды, и занять первые места – и вдруг наивный, скоморошеский какой-то вопрос к Главному или Хозяину, как тогда говорили: «А почему армянского коньяку в продаже нет?..»
Естественный человек. В чем-то – ребенок, дитя и в старости. От любой фальши вздрагивал, как от ожога. Всю жизнь ненавидел галстуки – ходил с воротом нараспашку. С похмелья залезал в ледяную ванну, в мороз не признавал шапки. Всякого рода отличия не терпел: избегал сидеть в президиуме, отбрыкивался, отфыркивался от собственных юбилеев (другие ради них, казалось, и на свет рождаются). А поскольку вся тогдашняя жизнь была четко регламентирована (кто над кем надзирает, кто кому подчинен, кто за кого отвечает, что можно любить, что – строго запрещается, о ком и как говорить, с какой дозой хвалы и критики, когда изъявлять восторг, когда кричать «Распни его!»), поскольку ведущий моральный принцип выражался словами: «Каждый шаг в сторону считать побегом, стрелять без предупреждения!» – то чуть ли не любое слово, любой жест Шухова выглядел неприличием, вызовом, бунтом! Хотя бунтарем он – по натуре – не был. Он был естественным, не давшим себя убить или покалечить человеком. Это жизнь вокруг была неестественной...
И вторая разгадка, второй ключ. Бунтарем не был, но происхождения – казачьего. У нас часто говорят о терпении, присущем природной русской душе, о ее «притерпелости», если употребить изобретенное Евтушенко слово, ее «покорливости» (вспомним евангельское «несть власти аще от бога»), при этом одни умиляются, подобно Константину Аксакову, другие, твердя о «духовном рабстве», бледнеют от бешенства. Но разве не русские люди бежали куда глаза глядят, на самые окраины государства, лишь бы подальше от власти, которая «аще от бога», от царя-батюшки, от «отцов родных» – крепостников-помещиков? Разве не столь же природному вольнолюбию обязано своим основанием казачество – донское, уральское, кубанское, астраханское, оренбургское, семиреченское, сибирское и т.д., всего их насчитывалось одиннадцать– казачьих войск? Здесь все было иное: свобода (относительная, конечно же) от московского правительства, равенство (относительное, понятно, и все же...) земельных наделов, выборность атамана, своеобразная демократия – власть «круга» с опорой на волеизъявление всего казачьего сообщества, то есть своего рода казачья республика, если говорить об идеальном ее варианте. Но так или иначе – «вольный казак» имел свою особую, «вольную» психологию, а Шухов был из казаков «горькой линии». Отсюда его размашистость, удальство, лихость – шуховский несмиренный, непокорный норов. Отсюда и отсутствие страха перед «городовыми», прикрытое порой насмешливым мужичьим лукавством...
Но тут была не рубка лозы, не прочие молодецкие утехи... Тут были каменные чиновные лица. Наставления, исполненные державного смысла. Невозмутимость. «Мнения», сообщаемые при поднятой вверх деснице с устремленным в небо указательным пальцем. И в результате не усердной, а прямо-таки самоотверженной деятельности этих «лиц» (кто ныне их помнит, эти безликие лица?..) роман Анны Борисовны Никольской «Театр» так и не был напечатан тогда, в шестидесятых, несмотря на все усилия Шухова и редакции. Роман о сталинских лагерях, восторженно аттестованный Тихоновым, Паустовским, Всеволодом Ивановым, напечатали – в том же «Просторе» – спустя 20 (двадцать)лет, когда ни автора его, ни Ивана Петровича Шухова, ни Тихонова, ни Паустовского, ни Всеволода Иванова уже не было в живых. А «лица», те, которые бдели и запрещали? Где они – живы ли? И если живы, что шепчет им их «притерпелая» ко всему совесть?.. Думаю, они по-прежнему неколебимо уверены, что выполняли свой долг, служили народу. А роман Юрия Домбровского, наш «родной», «алма-атинский» роман «Факультет ненужных вещей», в котором главное действие развертывается в каких-нибудь пятистах метрах от здания, где находится редакция «Простора», на перекрестке улиц Калинина и Дзержинского?.. Это сейчас «Факультет» напечатан в «Новом мире», стал бестселлером, переводится на множество языков. А в те годы, когда на столе у Шухова лежала первая редакция романа,– к чему свелись попытки напечатать его?.. Ах, что там джигитовка, рубка лозы! И XX съезд позади, и мягкий, незлобивый Леонид Ильич при любом случае поминает о Ленине, предлагает учиться у него и тому, и этому, а напечатать роман, в котором рассказано, как сажали, как измывались над людьми при Сталине – нельзя! А какой скандал, какой до Москвы докатившийся грохот стоял, когда сгоряча решили было напечатать «Кремль» Всеволода Иванова!.. Но это – из серии неудач. Славных неудач, о которых не грех и вспомнить (кто-то из великих шахматистов, Ласкер или Тартаковер, говорил: «бывают поражения, которые стоят любой победы»). Были не одни неудачи, были победы!
«Тысяча дней академика Вавилова»... Всего лишь отрывок из большой, на два тома, документальной повести Марка Поповского, но, может быть, самый ударный. Вся сокрушительная мощь сталинщины, направленная на истребление науки и людей науки, была здесь изображена убедительно и неотразимо. Иван Петрович ходил гордый, смущенный, победительный: удалось, удалось! (Как меняются времена! Ныне, после дудинцевских «Белых одежд», кто только не писал о Вавилове и Лысенко! Марк Поповский за то же самое поплатился изгнанием...) А бродивший по столичным редакциям «Нестор и Кир» Юрия Казакова, один из самых значительных (и потому не печатавшихся или печатавшихся с трудом) рассказов Юрия Казакова! Ведь это там о коллективизации и «кулаках» сказано было с иной, противоположной незабвенному «Краткому курсу» точки зрения... Но в то время – с каким благочестивым ужасом выпроваживали рукопись из редакций! Иван же Петрович, в отличие от многих, не только целовал Казакова при встрече, но и – печатал, очень многим рискуя! «На добрую память о недобром времени»,– так надписал первый том своих мемуаров Илья Эренбург, даря его Шухову. Недоброе время... Как мягко сказано о годах, когда что ни день в редакцию «Простора» присылали рукописи Пастернака, Платонова, Мандельштама, Павла Васильева и еще многих, многих, в том числе Ильи Эренбурга – тоже: таков уж в те поры был расцвет советской литературы, что ни в «Новом мире», ни в «Знамени», ни в «Октябре» не отыскивалось для них места. Но не только на «варягах», как злобно шипели наши недруги, держался «Простор»: московские литераторы позволяли своими произведениями поднять уровень журнала, приобщиться к литературной жизни всей страны. Костяком «Простора» являлись удивительно свежие, «сверхта-лантливые», как говорил о них Шухов, стихи и поэмы Олжаса Сулейменова, романы Нурпеисова, романы и рассказы сверстников и друзей Ивана Петровича Габита Мусрепова и Сабита Муканова, повести Мориса Симашко, Алимжанова, Черноголовиной, Щеголихина, Белянинова, Берденникова, Буренкова. В те послехрущевские времена крепчающего административно-бюрократического контроля журналы несколько меньше, чем издательства, опекали сверху, здесь легче дышалось. Но пресс ответственности давил на главного редактора, и мощь этого пресса была такова, что он мог без труда сломать, расплющить в лепешку. Все зависело от руководившего журналом человека. И потому документальная повесть Павла Косенко о поэте Павле Васильеве может ожить только на страницах «Простора»: когда ее отдельной книгой напечатают в издательстве (год-полтора спустя), весь тираж тут же пустят под нож. Когда мою сатирическую повесть, вслед за «Простором», наберут в издательстве, дело не пойдет дальше гранок, набор рассыплют и один из Начальников Творчества объяснит мне в своем кабинете, какой вражеский подтекст он уловил в моей «Лгунье» и на какой лагерь – капиталистический или социалистический – он, этот подтекст, работает, И Морису Симашко понадобится ехать в Москву и Ленинград, чтобы заручиться разрешением напечатать в Алма-Ате роман «Маздак» из жизни среднековой Персии, который затем издадут в двух десятках стран. «Чем талантливей произведение, тем приятней с ним бороться!» – афоризм, выданный одним из тогдашних любителей такой борьбы, но, в отличие от других, способным на чувство юмора.
Шухов не был одинок. Не только превосходный писатель и смелый человек, но и наделенный талантом организатора, он сумел создать в редакции на редкость дружный коллектив. Знаток литературы, обладавший тонким и точным вкусом, светский, неистощимо остроумный Алексей Белянинов; шумный, азартный, балаганящий под своего любимого героя – бравого солдата Швейка – Морис Симашко, напечатавший свои первые повести в «Новом мире» Твардовского; критик Николай Ровенский, то яростно-едкий, то восторженно-сентиментальный, слегка играющий под мужичка-простачка; всегда прямая, отважная, любому чину режущая правду в глаза Галина Васильевна Черноголовина, зам.главного редактора; рыжий, огненный, нетерпеливый Володя Берденников, приехавший из Караганды и вместе с Сашей Самойленко – долговязым, порывистым, легко краснеющим, но с ледяным холодочком в глазах – представляющий в журнале «племя младое»; осторожный, выверяющий каждый шаг секретарь редакции Ростислав Петров; «просторовский» Робеспьер – поэт Baлерий Антонов... Каждый – личность, характер со своими шипами, углами – и всех соединял, гармонизировал Иван Петрович. В те годы каждый день в редакции для меня был праздником...
Впоследствии недруги «Простора», не умея сладить с Шуховым, объясняли его позицию тем, что «за спиной большого русского писателя...» – далее, по мере надобности, употреблялись различные формулировки. В то время гипотеза о «масонском заговоре» еще не была столь разработанной, как ныне, но одна журналистка уже тогда сообщала в компетентные алма-атинские органы, кто «засел» в республиканском театре, где не хотят ставить ее пьесы, в «Просторе», где не печатают ее беллетристические перлы... Однако в литературе шестидесятых-семидесятых (первой половины) существовали авторитеты, не допускавшие полной утраты стыда, и потому формулировки употреблялись более гибкие: «за спиной большого русского писателя» – и уже только потом: «свили гнездо», «засели» и т.п. Но нам, в «Просторе», было хорошо известно другое.
На редакционной планерке Шухов терпеливо выслушивал каждого. Слушал, барабанил по столу, посапывал широким носом, усмехался, хмурился, затем, не утерпев, сам ввязывался в общий спор и тогда уже, постукивая, в иных местах ладонью по столу, приговаривал со стариковской ворчливостью, на которую никому в голову не приходило обижаться:
– Да будет вам боронить-то!
Или:
– Помилуйте, что это за дичь вы несете!
Или:
– А вы почему сегодня отмалчиваетесь?
Иногда казалось, что он всеми недоволен, ни с кем не согласен. Иногда – что согласен и с тем, и с другим, слушает и всем кивает – и тому, и этому... А потом вдруг оборвет:
– Ну, будет. На сегодня хватит. Утро вечера мудренее.
А наутро становилось известно окончательное редакторское решение. И удивительно: в нем оказывались учтены все давешние споры, все наши мнения. Это и было как бы общее мнение – но в отсеянном, очищенном виде. А случалось, что и нет: все выслушав и все взвесив, Шухов решал на свой лад, всем вопреки. И опять-таки странность: это решение спустя время принималось как единственно верное, ни у кого не возникало желание его оспаривать. Возможно, тут основную роль играл авторитет Ивана Петровича, в журнале незыблемый. Но главное заключалось в очевидном для всех высоком нравственном чувстве, которое им руководило, в служении – не шкурному, лишь слегка замаскированному расчету, а – Литературе.








