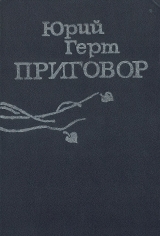
Текст книги "Приговор"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
ДЕНЬ ВТОРОЙ
1
Накануне суда Федоров задремал уже под утро, и снова ему приснился тот самый сон, который видел он в самолете – будто бы стоит он на автобусной остановке и читает объявление:
Меняю свою судьбу на вашу
Но теперь этот сон не показался ему ни нелепым, ни странным. И потом, когда они с Татьяной дожидались автобуса, чтобы ехать в суд, он подумал, что среди множества людей, которые толпились вокруг (был разгар часа пик), не нашлось бы никого, кто согласился бы поменяться с ним своей судьбой.
2
В здании горсуда, где должно было слушаться дело, начался капитальный ремонт, и судебное заседание перенесли бог знает куда, на окраину города. Не исключено, что такое решение диктовалось еще и осторожностью: не хотели привлекать к процессу излишнее внимание, в частности – будоражить и без того наэлектризованных школьников. Как бы там ни было, чтобы добраться до места, Федорову следовало вызвать служебную машину или взять такси. Если не ради себя, то ради Татьяны... Но он этого не сделал. Он бы и сам не ответил – почему.
Вместо этого в девятом часу они вышли из дома (Ленку на все лето увезла бабушка, живущая в Подмосковье), она – в строгом, глухом платье пепельного цвета, он – в не по сезону темном костюме. Накрапывал дождь, мелкий, неуверенный, готовый вот-вот оборваться. Что и случилось, едва они пересекли огромный, еще пустоватый двор и вышли к остановке. Федоров подумал: дождь, пускай и короткий,– к добру... И сам удивился – до того всерьез, с какой-то упрямой, тупой надеждой он об этом подумал. «К добру...» К какому «добру»?.. После бессонной ночи голова была тяжелой, чугунной. И мысли в ней – тяжелые, неуклюжие – катились и состукивались, как чугунные шары. Впрочем, он заметил, что и Татьяна, с посветлевшим на миг лицом, вскинула голову и посмотрела на серое, в белесой мути небо.
По пути к остановке они не обменялись ни словом. За последнее время отношения между ними напряглись, они перестали понимать друг друга... Но в то утро, казалось Федорову, они, как прежде, понимали один другого без слов.
И они прошли через двор, прошли мимо стоянки такси и теперь стояли в растянувшейся вдоль тротуара толпе. Федоровы прожили здесь немало лет, и на улице, стоило выйти, им каждый раз встречалось одно-два знакомых лица. Но не сегодня. Сегодня вокруг не было никого, кому бы он мог кивнуть, улыбнуться. Однако чувство у Федорова было такое, словно все их знают. И знают, куда, по какому случаю они едут. И только прикидываются, будто каждый поглощен собой, заботами наступившего дня ...
Он знал, что Татьяна чувствует примерно то же.
Так они стояли – женщина с неживыми, замороженными глазами и рядом, придерживая ее за локоть, мужчина с угрюмым лицом, стояли посреди напряженной, штурмующей каждый автобус толпы, где никому до них не было дела, по им казалось, что стоят они посреди пылающего костра...
3
Вначале за окнами новенького, ходко бежавшего «Икаруса» тянулись широкие центральные улицы, полные гари, машин, светофорного мигания, потом улицы сделались уже и зеленее, серебристые кроны вязов по обеим сторонам еще берегли ночную прохладу. И в набитом людьми, нестерпимо жарком автобусе тоже стало прохладней, давка мало-помалу рассосалась. Удалось даже сесть – на хрустящие, из коричневой кожи сиденья, с которых не успели снять упаковочный целлофан. Впереди, прямо перед Федоровыми, оказалась Людмила Георгиевна, учительница литературы из класса Виктора,– Федоров узнал ее по короткой мальчишеской стрижке, массивным дужкам очков, низкорослой фигурке. И она, затылком ощутив его взгляд, обернулась – и ахнула:
– Это вы?..– И всплеснула руками.– Кто бы подумал!..
Ее моложавое лицо нервно вспыхнуло, погасло, загорелось опять. Она искала и не могла найти подходящих слов.
– Кто бы подумал!..– повторила она.– Я хочу сказать, кто бы подумал, что мы встретимся – не на родительском собрании, не в кино, не в концерте, а – вот так... Вы ведь туда?..
– Да, мы в суд,– произнес Федоров, стараясь говорить обычным, будничным тоном.– А вы?
– Что за вопрос!– Полыхнув на него стеклами очков, Людмила Георгиевна потянулась к руке Татьяны, лежавшей поверх сумочки, и крепко ее стиснула.– Татьяна Андреевна, голубушка, все кончится хорошо...
– Надеюсь.– Татьяна провела копчиком языка по сухим губам.
– Вот увидите!– сказала Людмила Георгиевна.– И все мы увидим – для ребят все кончится хорошо!.. Для ребят!..– Голос ее развернулся и затрепетал, как флаг под ветром.– Но кое-кому придется ответить! Да, придется!.. Это слыханное ли дело – так опозорить школу! Всех – педагогов, директора... Всех! Всех!..– Она пристукнула кулачком по передней спинке.– И они ответят! Да-да, ответят!..– Как всегда, загораясь, она переставала следить, что происходит вокруг, и теперь ей было безразлично, что ее слышит весь автобус.– Вы ведь в курсе, Алексей Макарович, до чего они дошли?.. Что сотворили с нашим Конкиным?..
Да, Федоров знал, что Конкин, директор школы, где учился Виктор, решением гороно отстранен от своей должности. Кроме того ему объявлен выговор. Правда, когда Федоров, чувствуя себя причастным к тому, что случилось, обратился в гороно за разъяснением, поскольку подобные действия до суда были прямым нарушением правопорядка (он употребил этот термин), ему ответили, что отстранение – мера временная, как и выговор, который можно объявить, а можно и снять. Главное же, сказали ему, требовалось отреагировать на историю, которая потрясла весь город... Спорить Федоров не стал. Впервые в жизни он чувствовал, что не вправе спорить. «Это ты нас подвел,– всем своим видом говорил ему завгороно, закончив недолгую их беседу долгой паузой.– И нас, и Конкина, за которого надумал теперь заступаться...»
Досадней всего, что был это Конкин, «наш Конкин», как сказала о нем Людмила Георгиевна. В школе его иначе и не называли. Многие в городе помнили, как он начинал – энергичный, умница, с тем учительским даром, который, как говорится, «от бога». Ему не дали долго работать в школе – забрали в районо, потом в гороно, потом он заведовал школьным отделом в облисполкоме – всем представлялось, что там он на месте – всем, кроме него самого. Он все-таки сумел преодолеть инерцию увлекшего его потока, выпросил – «вырвал зубами», как он объяснял, похохатывая, новую школу и ушел в нее директором.
Несколько лет назад они познакомились: назревала очередная реформа школьного образования, Федорову хотелось поговорить с толковым директором. В тот день у него сорвалась намеченная встреча, он приехал к Конкину раньше, чем они условились, и отыскал его на школьном стадионе: Конкин играл с ребятами в волейбол. Среди рослых акселератов он был самый маленький, но мускулистый, ладно скроенный. Увлеченный игрой, он не сразу заметил Федорова, или притворился, что заметил только тогда, когда Федоров сбросил пиджак и заменил по другую сторону сетки выбывшего игрока. Посылал мяч длинным пасом, он ощутил, что еще не утратил форму... Так они минут пять или десять покидали мячик, потом наступило назначенное время, и они пожали руки друг другу, представились – уже воочию, не по телефону. Однако в кабинет не пошли, а устроились тут же на скамейке.
Заканчивалась вторая смена. Садилось солнце, стадион в его лучах был розовым – трава, дорожки, опилки на площадке для прыжков. И воздух над полем, окантованным силуэтами городских строений, тоже был розов, искрист. Федорой слышал, каких усилий стоило Конкину отстоять, оставить за школой этот пустырь – после того, как бульдозеры сковырнули здесь последнюю халупу.
И теперь маленький Конкин, в шортах, с волосатыми, пружинистыми ногами, темноволосый, с непокорным хохолком на макушке, с карими веселыми глазами, казался Федорову победителем, Гераклом, раздвинувшим громады напирающих со всех сторон домов, отвоевавшим у камня и бетона этот вольный, живой, слитый с небом простор.
Они говорили довольно долго, Федорова интересовало, почему школа у Конкина – лучшая в городе, и не по формальным показателям – процент успеваемости, количество медалистов и т. д.,– а по гамбургскому, так сказать, счету, который существовал у самих учителей. Но никаких новых методов воспитания Федорову в разговоре с Конкиным не открылось.
– Просто – надо любить детей,– сказал Конкин, видя, что Федоров ему и верит, и не верит.
– И в этом весь секрет?
– В этом.
Они еще поговорили, поспорили немножко, выясняя, что это значит – «любить детей», и он уехал. Это был, кажется, единственный разговор, случившийся между ними... Но все, что впоследствии он слышал о Конкине, располагало к нему.
И вот теперь – в своей «конкинской» школе – он больше не директор, а школа его для всех – та самая, где учеников судят за убийство...
– Они еще ответят!– твердила Людмила Георгиевна.– Улучили момент и сводят счеты. Конкин им – как бельмо па глазу!.. Да рубите мне голову, если наши ребята – преступники! – Она после каждой фразы ударяла кулачком по кожаной спинке, словно ставила восклицательный знак.– Я не адвокат, не прокурор, я учитель, и я лучше знаю своих учеников!..
Зеленые ветки, как дождь, хлестали по оконным стеклам. Народа в автобусе оставалось немного, сиденья опустели. Впереди Федоров заметил странноватого человека – в захудалого вида кургузой, будто вываренной в кубовой краске курточке, с вытянутой, как дыня, досиня выбритой головой. Было что-то и пугливо-настороженное, и озлобленное, и даже надменное в тех взглядах, которые бросал он вокруг. Федорову представилось, что он недавно из заключения, и, глядя на его лиловую голову с оттопыренными ушами, Федоров пытался вообразить Виктора – бритого, в тюремной робе, за колючей, оплетающей зону проволокой...
4
На одной из остановок в автобус – не вошли, скорее ворвались, вломились несколько ребят, громко переговариваясь и толкая друг друга. Это были одноклассники Виктора. Федоров знал только двоих — Галину Рыбальченко и Диму Смышляева, который в прошлом году приходил к ним домой, и не к Виктору, а к нему, «для важного разговора», как сообщил он предварительно по телефону... И то ли оттого, что сразу возникло столько юных, свежих лиц, и среди них – Галина в какой-то вызывающе-яркой кофточке, то ли оттого, что все это были товарищи Виктора, в автобусе стало светлее, и в маслянистом от бензина воздухе будто пахнуло озоном.
Ребята столпились было на задней площадке, но увидели Людмилу Георгиевну и секунду спустя стояли возле нее и сидевших рядом Федоровых.
– Ох, стервецы!– притворно-сердитым голосом напустилась на ребят Людмила Георгиевна,– Вы что, забыли, что завтра у вас экзамен?
– Меня вызвали, я свидетель,– тряхнула головой Галина, рассыпав по плечам волну пышных волос.
– С тобой все ясно. А эти?..
«Эти», смешавшись, молчали. Впрочем, недолго.
– А вы сами, Людмила Георгиевна?..– спросил Дима Смышляев, высокий, спортивного сложения парень с простым, открытым лицом,– Как бы вы сами, на нашем месте?..– Он смотрел на нее пристально, даже сурово. И Людмила Георгиевна только махнула рукой, а потом вдруг быстрым движением выдернула из сумки платочек и отвернулась к окну.
И как не бывало – ни улыбок, ни галдежа, с которым они ворвались в автобус... Федоров знал не всех, но его и Татьяну все знали, и каждому что-то хотелось им сказать, но что-то мешало, как мешает всегда в подобных случаях. Федоров старался не смотреть на Татьяну, он и без того понимал, что после упоминания об экзаменах, которые мог бы сдавать их сын, все внутри у нее содрогается от боли, как живая рана, если к ней притронуться.
– Все будет хорошо, Татьяна Андреевна, вот увидите!
Это сказала Галина, и ее грудной, переливчатый голос прозвучал с таким напором, как если бы она в точности знала, что так и будет.
– Да, вот увидите!– повторила она, блестя глазами.
– И я так думаю,– поддержал ее, но не сразу, а немного подумав, Дима Смышляев.– Только бы они не дали себя запутать. И сами не запутались. А то бывает, я читал...– И он стал рассказывать о деле Шеппарда, в пятидесятых годах потрясшем Америку: обвинение ни в чем не повинного человека в зверском убийстве жены спустя несколько лет сменилось его полным оправданием, однако – преступление так и осталось не раскрытым.
История считалась классической, о ней писали в пособиях по криминалистике, откуда, возможно, и почерпнул ее Дима, готовясь на юридический факультет... О нем, кажется, у них даже и заходила речь, о юридическом факультете, когда Дима явился к Федорову, хотя повод у него был совершенно другой. Поводом было письмо Римскому клубу, которое Дима не мог отослать, не имея точного адреса, и никто не в силах был ему помочь, кроме собкора центральной газеты... Пока Федоров, тут же принявшийся звонить, вызванивал в Москве искомый адрес, что оказалось не таким уж легким делом, Дима посвятил его в свою идею. А идея была такая: чтобы избежать скорого истощения земных недр и предотвратить нерациональное расходование полезных ископаемых (одна из главных проблем для человечества, о чем неустанно твердил Римский клуб), он, Дима Смышляев, предлагал немедленно создать единый для всей планеты вычислительный центр, определяющий, где, чего и сколько добывать, куда и сколько перебрасывать – нефти, каменного угля, железной руды и т. д., чтобы повсюду предупредить возникновение кризисов, безработицы и прочих зол, а также угрозы новой войны. Так выглядела его идея. И когда Федоров сказал, что дело, вероятно, не в самой идее, а в ее осуществимости... Дима тут же ему возразил: если так, что мешает ее осуществить? К всеобщей-то пользе?.. И под серьезным взглядом зеленоватых, излучающих мягкое сияние Диминых глаз Федорову вдруг сделалось стыдно – за себя, за все человечество...
Он-таки добыл с помощью десятка звонков нужный адрес. Дима ушел. «Про таких говорят – крыша набок съехала,– рассмеялся Виктор, когда Федоров спросил его о Смышляеве.– Да над ним у нас все в школе ржут! Стоило время терять...»
Сейчас неуместно было спрашивать у Димы, чем закончилась та история, да и сам Дима повзрослел, изменился за год и мог о ней забыть.
5
На последней перед тем, как им выходить, остановке в автобус поднялись трое: женщина в строгом черном платье и двое сопровождающих ее летчиков. Они не стали продвигаться в глубину салона, а остановились возле двери, женщина и ее спутники по бокам, наподобие почетного эскорта. Едва Федоров их увидел, как ему в лицо полыхнуло жаром. Если бы он даже никогда не встречал а той женщины, достаточно было ее черного платья и этих летчиков, достаточно было близости остановки, от которой через дорогу находился суд, чтобы обо всем догадаться. Но Федорову – она стояла к нему спиной – запомнилась невысокая, плотная фигура, белая шея, узел пшеничных полос на затылке...
Взгляд его тут же отпрянул, метнулся к окну. Он знал, что увидит ее, что среди предстоящего ему сегодня будет и это. Но сердце его колотилось, как будто встреча случилась неожиданно, как будто могло ее не быть. И тем не менее – вдруг он обознался?.. Но женщина обернулась и равнодушно скользнула взглядом в его сторону. Она... Стрепетова была еще бледней, чем тогда, на кладбище, и прямые, широкие брови еще строже. Ему показалось, что и она узнала его и слабо кивнула. И снова отвернулась, уставилась в узкие дверные стекла, ожидая с минуты на минуту, что дверь распахнется.
Не говоря ни слова, Татьяна вопросительно указала ему на Стрепетову, она уже обо всем догадалась и хотела лишь подтверждения. Он кивнул. И лицо ее сразу отвердело, стало холодным, жестким. Таким, какого Федоров не знал у нее прежде, до этих последних месяцев. Возможно, не укрылось от нее и то, что они со Стрепетовой безмолвно поздоровались, и к выражению осуждения, с которым она теперь неизменно к нему обращалась, в ее светло-голубых глазах прибавилась откровенная ненависть... «Ты там, ты с теми, кто против твоего сына... Ты предал его, предал меня, предал нас...»– примерно это заключалось в ее сжатых, выгнутых подковой губах, в каменном локте, который она с брезгливостью отодвинула, чтобы не соприкасаться с его локтем.
Людмила Георгиевна и ребята, понимая далеко не все, то есть понимая только, что в автобусе едет вдова убитого летчика – но и этого было достаточно – затихли, до самой остановки не произнесли ни слова и были как стайка воробышков, на которых повеяло близкой грозой.
6
...Она сказала ему, что он – чудовище. Что если его сын – чудовище, то сам он – и подавно. Он не хочет ничего сделать, чтобы спасти сына. Пальцем по желает шевельнуть. Ах, что он может?.. Сочинять статейки о Солнечном – вот что он может! И писать, писать день и ночь свой «Der Mahnruf»! Сейчас, когда речь идет о жизни сына! («Твоего, твоего сына!») Бездушный эгоист. Всю жизнь только и занимался собой, работой, мировыми проблемами! Это его вина в том, что случилось!.. Она была в ярости, в неистовстве. Он стоял к ней спиной, выкуривая сигарету за сигаретой, выдувая дым в распахнутое ночное окно. Его ошеломил этот припадок бешенства. Значит, злоба сидела в ней, копилась, как гной? Столько лет?.. Когда она ушла, он припер дверь тяжелым креслом, саданул им так, что едва не сорвал ее с петель. Он жил теперь в кабинете; кабинет и спальня разделились на две враждебные территории; каждый существовал на своей.
Все, получилось гадко, мерзко. Он до утра не мог прийти в себя. В чем-то была она права, он этого не мог не признать. В чем-то, может быть – в самом главном... И однако – что был он в силах сделать?.. Он вспомнил о Ситникове и утром позвонил, договорился о встрече.
Вадим Ситников был дрянным человеком, но Федоров, зная это, сейчас нуждался именно в нем – в его живой, практической сметке, его изворотливом уме, его посвященности... Не будучи по сути никем, занимая должность, называемую по-разному —должность референта, советника, помощника – Ситников располагал тем, что называют влиянием. Когда-то они дружили, хотя это была дружба старшего с младшим. Ситников, только что из университета, работал у него в отделе и относился к своему шефу с юношеской влюбленностью и даже восторгом. «Вы для меня – как бог, Алексей Макарович! – говорил он под пьяную лавочку, и глаза его краснели, слезы выступали на рыжих ресницах. – Ради вас, Алексей Макарович, я душу положу!..» Федоров хохотал, хлопал Ситникова по плечу, называл дураком и вез домой, в рабочее общежитие, где редакция всеми правдами-неправдами выхлопотала для нового сотрудника временную комнатенку. Он, Федоров, был в те годы широк, добродушен, весел, в редакции авторитет его был неколебим, он и лесть принимал за полулесть, оставляя вторую половину за правдой, да так оно и было. Но все это было давно.
Они встретились вечером, когда огромное здание обкома уже опустело, улыбчивые уборщицы пылесосили ковровые дорожки, протирали паркет, меняли воду в графинах... Ситников не дал ему договорить:
– Знаю,– сказал он.– Слышал.
Федоров ни на секунду не усомнился, что Ситников действительно все знает, хотя слишком уж демонстрирует это свое всезнание, свою посвященность – озабоченнохмурым выражением щекастенького, лоснящегося ранним жирком лица.
– Понимаю,– оборвал он Федорова вторично, когда тот попытался с привычной четкостью сформулировать свою мысль.– Понимаю, Алексей Макарович, и всей душой сочувствую.– Он был очень серьезен, очень важен за своим темного дерева столом, в своей отдельной, с темными панелями комнате, сообщавшейся с просторной приемной.– И не только ты – все к нам приходят. Даже когда повод куда как помельче, А тут ведь – сын, единственный сын... Верно?
– Единственный...– произнес Федоров каким-то противным, поддакивающим тоном. От него не укрылось ни это «к нам», ни то, с каким напряженным, злорадным любопытством пронзили его сжавшиеся в точку зрачки Ситникова.
– Все, все понимаю...– Он вздохнул.
– А понимаешь, тогда...– Последнее слово, которое Федоров из себя выдавил, прозвучало как нечто среднее между «помоги» и «дай воды». Ему и вправду сделалось душно, жарко, он провел пальцем между шеей и воротником рубашки, который, взмокнув, жег и давил его, как петля.
Ситников плеснул из горластого, с раздутыми боками графина, пододвинул стакан.
– Я к тебе по старой памяти за советом,– сказал Федоров, не притрагиваясь к стакану.– Нельзя ли что-нибудь сделать?.. Даром что парню шестнадцать лет и фанаберии хоть отбавляй... На самом-то деле – пацан и пацан... (Ситников не мигая слушал). И потом – ладно, допустим даже самый крайний вариант, который надо еще доказать... Все равно ведь – без злого умысла, в состоянии аффекта! Раньше с ним ничего похожего не случалось!.. Наконец, урок, из всех уроков урок – он-то уже получен?..
– Все так, Алексей Макарович, все так...– согласно покивал Ситников.– Только ведь что, говоря начистоту, в такой ситуации можно для тебя сделать?.. («Ты, для тебя» – раньше он так к нему не обращался). Я не о себе, а бы и рад, сам знаешь, да дело... Дело-то больно громкое. Это – раз. Теперь – Федоров, который отец и за сына хлопочет... Ну, репутация твоя тебе и самому известна. Прямо скажу – завидная репутация. Но при всем том, Алексей Макарович, историей этой последней ты себе ох как напортил! Я Солнечный имею в виду... Шум поднял на всю страну!.. Не спорю: основания были. Но земля-то,, на которой мы живем, которую топчем, земля-то на всех одна? И позорить ее, на посмешище выставлять не годится!.. Это не я тебе, Алексей Макарович, говорю; я, если хочешь, целиком на твоей стороне, я ведь – тоже – газетчик, журналист, и я понимаю... Но и ты пойми. Ты, когда тебя самого касается, и то, и это учесть требуешь. Так ведь и в Солнечном – там тоже смотря что и каким боком повернуть?.. К примеру, нынешний директор комбината – он-то при чем?.. Он готовый комбинат принимал, его перед фактом поставили! А кто комбинат строил? Балясников! Только теперь его не достать – в Москве, в замминистрах ходит! Да и за давностью лет – какой спрос?.. И к чему это нужно – в прошлом копаться, сор из избы выносить? Не лучше ли было направить материал в соответствующие инстанции – и все решить по-деловому?.. Так нет же!.. Вот какое мнение существует, Алексей Макарович! Не мое, но ведь тоже основательное? А теперь ты сам представь: ты ли придешь, или я по своей доброй воле приду, изложу... Да тут, Алексей Макарович, такой сыр-бор загорится – сто раз пожалеешь, что решился!.. Не поймут нас, Алексей Макарович! Не поймут. А и поймут – не помогут! А знаешь почему? А потому, что тебя, Алексей Макарович, боятся. Принципиальности, честности твоей боятся, и никто голову свою на плаху не положит в таком деле – а ну оттяпают? Ты же сам возьмешь да и оттяпаешь! В глаза никто этого тебе не скажет, но уж поверь – про себя каждый так подумает. И подумает, и тоже не скажет, и мне говорить об этом не с руки, но поскольку мы друзья, Алексей Макарович, то между нами... Ведь не раз пытались тебя с ног сбить – ты всех пересилил, устоял. Ну, а теперь так складывается, Алексей Макарович... Чуешь, что я хочу сказать?..
– Ты правильно меня пойми, Алексей Макарович,– поднялся он вслед за Федоровым,– я, может, краски сгущаю, но это чтоб ты ясно себе картину представил, я ведь твой характерец знаю, пойдешь просить, а сам дров наломаешь, только себе и сыну навредишь, поскольку повернуть по-всякому можно и давление на прокуратуру, и – я к примеру, к примеру говорю,– использование служебного положения,– сам черт не догадается, что тебе пришить захотят... Так что я ради того, чтобы ты отчет отдавал... Я не к тому... Я-то смогу...– Глаза у него были крапчатые – в мелких дрожащих крапинках. В них бился страх. Федоров плечом отодвинул, оттолкнул Ситникова, загородившего дверь, дернул за массивную витую ручку, вышел...
Тоска, отчаянье, гадливость захлестнули его.
7
Федоровы были последними среди тех, кто выходил на остановке, так и объявленной водителем по микрофону – «Суд!» – объявленной без особого выражения, как если бы то была остановка «Баня» или «Рынок». И слабый огонек неожиданно затеплился в душе у Федорова. Сам будничный тон водителя, его безразличный голос, возможно, зародил какую-то смутную надежду. И когда они пересекли дорогу и, пройдя по боковой улочке, увидели здание суда, надежда эта не исчезла – до того буднично, заурядно выглядело трехэтажное здание с бетонным козырьком над входом, с чахленькой клумбой перед ним, с решетками на окнах первого этажа, почти такими же, как те, что устанавливают в жилых домах обитатели нижних этажей... И не верилось, что за стенами этого дома будет решаться то, для чего и слова другого нет, кроме как судьба,– что здесь в ближайшие дни решится судьба их сына, судьба его товарищей, судьба их родителей, их с Татьяной собственная судьба...
Не верилось – и тут же поверилось, едва подошли они ближе – и между теми, кто стоял перед входом, на ступеньках, и теми, кто полукругом обступил клумбу с уже обвисшими, несмотря на утро, граммофончиками табака,– между теми, кто находился здесь, Федоров заметил немало знакомых. Был тут и Конкин в белой, распахнутой на груди рубашке, хорошо оттенявшей смуглость мускулистой руки, .которую он, широко улыбаясь, протянул Федорову («...маленький, несокрушимый Конкин»,– мелькнуло у Федорова газетное клише), и с ним рядом – тоненькая, миниатюрная девушка с большими, красивыми, испуганными глазами – Жанна Михайловна, классная руководительница десятого «А»; был здесь Павел Ребров – долговязый журналист из «Вечерки», сильно, сочувственно пожавший руку Федорову, и старик Вершинин с благообразной седенькой бородкой клинышком и тонким, удлиненным лицом интеллигента начала века, «присяжный поверенный», как называл его про себя Федоров: адвокат в прошлом, он был завсегдатаем на судебных процессах и писал для газет – большей частью информашки на тридцать строк. Было еще несколько человек из «журналистского корпуса», в том числе и черненькая быстроглазая Ольга Градова, владевшая бойким, острым пером, хотя, на взгляд Федорова, слишком уж бойким и острым. Были какие-то полузнакомые лица – из гороно, откуда-то еще, были совсем незнакомые, но больше всего было школьников, некоторые – с тетрадками, с учебниками в руках, чтобы прямо отсюда ехать на экзамен. Впрочем, Федоров лишь мельком огляделся по сторонам: он видел, что все повернулись и смотрят на него и Татьяну. И хотя за последнее время он успел привыкнуть к откровенному, нескрываемому интересу, который возникал к нему, где бы он ни появлялся и где его хоть немного знали,– сейчас он чувствовал себя как в перекрестии белых от напряжения лучей прожекторов. Федоров кивнул кому-то, с кем-то поздоровался и, держа Татьяну под руку, с усилием потянул за собой – на ступеньки, в черный провал раскрытой настежь двери, куда угодно – лишь бы вон из этого белого слепящего перекрестия. Но в Татьяне, в отяжелевшем ее теле он почувствовал сопротивление; она шла сквозь расступавшуюся перед ними толпу с нарочитой медлительностью и была в ее осанке какая-то горькая гордость, отвергающая любое сочувствие... У входа в суд их ждал Николаев, свежий, хорошо выбритый, в светлом костюме, с брелочком на пальце – ушастым зайчонком с ключом зажигания на зажатом в лапках колечке. Рядом, прислонясь к Николаеву остреньким плечом и словно боясь упасть без этой поддержки, стояла невзрачная маленькая женщина с нервным, заплаканным лицом,– вероятно, его жена. Ее Федоров видел впервые, что же до Николаева, то они встречались за это время еще пару раз, и с каждым разом он нравился Федорову все меньше. Но чем меньше нравился ему этот человек, тем отчетливей он сознавал, как многое в их жизни теперь связано, и связано крепко, нерасторжимо.
Однако сейчас ему приятно было увидеть Николаева – таким вот уверенным в себе, благоухающим дорогим одеколоном, с ключом от машины, непринужденно болтавшимся на пальце... У него самого внутри словно что-то распрямилось.
– А мы тоже только что,– сказал Николаев.– Если бы я знал, что вы так... Мы бы заехали за вами.– Он улыбался, вращал брелочком. Федоров что-то ему ответил, правда, с запинкой, про автобус, то есть почему они предпочли автобус, и что-то сказал Николаев, и что-то снова ответил ему Федоров, что именно – было совершенно неважно, или стало неважно – с того мгновения, как откуда-то из-за спины Николаева вынырнула Харитонова, с тщательно, в два этажа, уложенной, но уже сбившейся набекрень, как бы сдутой ветром прической и безумными, рвущимися из орбит глазами, и хрипло, вчетверть голоса зашептала:
– Привезли!.. Привезли!..
Все остальное сделалось ненужным, незначащим – после этих удушливым шепотом произнесенных слов. Скорее, скорее... Она вела, тащила их сквозь коридоры, проходные комнаты, двери с табличкой «Вход запрещен», и у Федорова была одна только мысль, один страх, от которого сжималось, падало сердце,– что они не успеют... И не было, словно бы не было – ни той страшной, поднимающей завесу ночи в комнате у сына, ни яростного, беспомощного стыда, который преследовал его – на людях и в одиночестве, днем и в ночную бессонницу... Лишь бы успеть, успеть!..
Они выбрались, выскочили во внутренний двор – неведомо какими путями, Харитонова уже здесь освоилась, вошла в доверие, разжалобила – секретаршу, вахтера, кого-то из охраны,– они оказались во внутреннем дворе, разделенном на Две части высокой оградой, и за нею увидели машину, темный, с глухими стенами коробок. Машина стояла задом к небольшой двери в здании суда, так что между дверцей, ведущей из коробка, и этой дверью оставалось расстояние метра в три-четыре, и дверца была уже отворена, распахнута наружу, и солдат из охраны уже стоял па земле... Они, все пятеро, приникли к ограде, Федоров прижался щекой к железному, горячему от солнца пруту. Пот, внезапно хлынув изо всех пор, заливал и щипал глаза.
– Опоздали...
– Их уже вывели...
– Послушайте, какое это имеет значение?..– проговорил Федоров, пытаясь приглушить, умерить бессмысленный порыв, который их увлекла Харитонова.– Ведь мы...
Он не договорил: из машины спрыгнул на землю еще один солдат и так же, как первый, занял место в промежутке между машиной и входом. Они повернулись и стали лицом к лицу. И вот уже маленькая серая тень возникла между ними...
– Витя!.. Витенька!..– тоненьким, рвущимся, незнакомым Федорову голоском выкрикнула Татьяна, Словно мыльные пузырьки сдул ветер с ее губ и понес, и они тут же лопались на лету... Но слабый этот голосок чудом каким-то – через весь двор – долетел, и тень, замедлив движение, обернулась. Федорова поразил – тоже не виданный прежде – жалобный, щенячий, застигнутый врасплох взгляд из-под косой, упавшей на лоб челки. Он видел, как Виктор отступил назад, чтобы выглянуть из-за плеча конвойного, но тот сделал упреждающий шаг и заслонил его, Виктор только вскинул руку и помахал над головой. И за ним показались – Глеб, высокий, крепкий в плечах, и узкогрудый, хлипкого сложения Валерка: они уже знали, что их выглядывают, и, выйдя из машины, подгоняемые охраной, радостно махали руками, Валерка даже сцепил обе ладони пальцами и потряс над головой, как это делают разного рода знаменитости на киноэкране.







