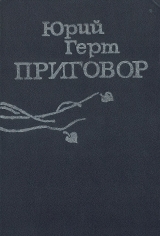
Текст книги "Приговор"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Как-то раз его остановила на улице учительница Виктора, пожилая, но по-молодому экспрессивная, из вымирающего племени энтузиастов, для которых все в жизни связано с их школой, их предметом.
– Алексей Макарович, я в шоке!– говорила она чересчур громким для ее невзрачной фигурки голосом, поминутно всплескивая руками, и не обращая внимания на то, что они стоят па углу многолюдного перекрестка, в круговерти прохожих.– Вы знаете, что написал в последнем сочинении ваш сын?.. Что Раскольников убил старуху процентщицу, убил Лизавету, ее сестру,– и правильно сделал! Представляете?..
Улица шумела, «Икарусы», желтея могучими, заляпанными весенней грязью боками, извергали гарь и чад, с крыш капало, под ногами чавкали оттаявшие озерца... Федоров слушал Людмилу Георгиевну, ему было смешно и одновременно хотелось до земли поклониться этой маленькой женщине в потертом, не модном пальто, для которой Достоевский и сочинения ее учеников куда важнее того, что ценят другие – карьеры, престижа, каких-нибудь золотых побрякушек...
– Что ты накрутил в сочинении, Витюха?– спросил он сына в тот вечер.– Ты что – сбрендил?..– Ему хотелось все обратить в шутку, в необдуманный и дерзкий поступок, на какие в ту пору был горазд Виктор.
– Подумаешь,– сказал Виктор, которого ничуть не смутил ни рассказ отца о встрече с Людмилой Георгиевной, ни его вопрос,– какая кому польза была от старухи?.. Один вред.– Он говорил, наклонив голову и упрямо выставив лоб, но – запомнилось Федорову – избегая, вопреки привычке, сталкиваться с ним глазами.
– Вред?.. А от Лизаветы кому и какой был вред, когда он ни за што ни про што топором ее чебурахнул?..
– Вреда не было, да и пользы никакой.
– Вот как! Выходит, если так, хватай топор и круши головы? Так выходит?
Виктор молчал.
– У вас что, многие в классе вроде тебя думают?..
– Все, – сказал Виктор. И поправился:– Почти все.
– Почти все! Что-то Людмила Георгиевна говорила про тебя одного...
– Почти все так думают,– сказал Виктор, усмехнувшись.– А написал я один.
«Ах, стервец!..» – вздохнул про себя Федоров. Знал Виктор его пунктик: «Говори правду, в любых обстоятельствах – только правду!..» За одно это Федоров мог все простить.
– Послушай, Витюха,– сказал Федоров,– если твоей логике следовать, то какого лешего Родиону Раскольникову сходить с ума, терзаться, каяться?.. Если ему человека убить – что паука раздавить?..
– Просто он слабак был,– подумав, сказал Виктор.
– Слабак?..– Федоров опешил.
– Хиляк,– уточнил Виктор презрительно. Что-то подзуживающее, подначивающее отца слышалось в его утончившемся голосе.– В революцию и в гражданскую войну вон сколько убивали – и ничего...
– В революцию?..– Федоров усмехнулся,– Ты что же думаешь, твой дед в гражданскую с такими вот старухами сражался?.. За это и орден Красного Знамени получил?..– Он давил, давил на сына – не только тяжестью неотразимых вопросов, но, казалось, всей массой своего крупного, мосластого тела.– И, главное, ради чего такие, как он, жизнью жертвовали?.. Ради всеобщей справедливости! У них впереди была великая цель – благо людей, всего человечества!.. Нашел, с кем сравнивать!..
– А я и не сравниваю,– возразил Виктор, глядя на отца бычком.
– Как же не сравниваешь?– сказал Федоров, сердясь.– И сам запутался, и меня запутал!..
– Это не я, это ты запутался,– хмыкнул Виктор,
Но было... Было, наверное, в лице Федорова, в его погрузневшей, смиряющей ярость походке, которой он и раз, и второй прошелся по кабинету,– было во всем этом нечто такое, отчего Виктор съежился и только пробормотал, что у Раскольникова тоже, может, имелась цель – благо людей, всего человечества...
Однако что до «блага всего человечества», то состоялся об этом другой разговор, особый и – не столь мирный...
12
...А он всегда был упрям и как-то холодно, ожесточенно отчаян. Классе в девятом – или восьмом?..– забавлялись Глеб, Валерка и Виктор такой игрой. Переходя дорогу, требовалось остановиться и ждать, чтобы машина, которая мчит прямиком на тебя, тоже остановилась. Однажды разъяренный шофер поймал Виктора, сдал милиционеру, Федорову досталось идти в райотдел, выручать.
– Зачем вы это делаете?– спросил он сына, когда они возвращались домой. Все положенные в таких случаях слова были уже сказаны, в кабинете начальника райотдела Виктор обещал, что повторений не будет.– Зачем?..
– Чтобы себя испытать,– сказал Виктор, помолчав.
Они как раз переходили улицу, мигнул светофор, Федорову представилась неудержимо надвигающаяся громада автобуса или грузовика – и приросшая к асфальту фигурка сына с портфелем в руке... Знобким ветерком дунуло Федорову в затылок, как случалось когда-то, если тоненько свистнет над ухом пуля.
Он с невольным удивлением, даже уважением посмотрел на Виктора, который скучливо и хмуро взирал исподлобья на серую, кишевшую вокруг толпу, и словно увидел ее на миг его глазами...
13
– Слишком вы все усложняете,– сказал Виктор («Вы» означало и «взрослые вообще», и «подобные отцу»).– А на самом деле в жизни все проще. И живете вы – не как сами говорите, а как я говорю...
– То есть?
– То есть – ты работаешь, потому что тебе за это платят деньги. И мать – тоже. И так все... Все делают, что им выгодно. Только при этом произносят разные словечки, которым, кстати, никто не верит.
Разговор был прошлой осенью, Виктор начал ходить в десятый класс. Он стал замкнут, груб, любые контакты с родителями, казалось, ему в тягость. «Оставьте меня в покое!..» – вспыхивал он при малейшей попытке подойти ближе, вмешаться, хотя бы прикоснуться к нему – все в нем содрогалось при этом, корежилось, как от физической боли. Татьяна плакала, Федоров накалялся. Когда же изредка он и сын, словно балансируя на канате, начинали движение друг к другу, кто-то из них вскоре поскальзывался первым, за ним срывался второй... Правду говоря, чаще не удерживался на высоте сам Федоров: рассуждения сына сердили его, представлялись пустой схоластикой – в возрасте Виктора он отправился в военкомат и вскоре оказался на фронте...
– Это что же, универсальный закон?– спросил Федоров,– Насчет «выгодно-невыгодно»?..
– Пожалуй.
– «Универсальный закон Виктора Федорова...» Звучит неплохо!
– Пожалуй.– Он говорил, будто шелуху от семечек сплевывал.– Только его до меня лет за тысячу открыли,
– Скоты открыли,– сказал Федоров, стараясь пригасить разгоравшееся внутри бешенство.– Скоты открыли скотский закон. Все закономерно...
– Вести спор такими аргументами некорректно.
– Вот как – «некорректно»!..– передразнил Федора сына. И сменил интонацию:– Да ты подумай, Витюк, вспомни – Джордано Бруно, Перовская, тот же Лунин... Какая им была выгода, что ты говоришь?.. Костер, петля, каторга!.. Да ты своего деда вспомни!..
Он вскинул руку и указал на портрет, висевший над диваном, на котором оба сидели.
– Или что – скажешь, и это некорректный аргумент – твой дед?..
Федоров немало знал и рассказывал Виктору о своем отце – учителе, участнике гражданской войны, организаторе крестьянской коммуны – в Сибири, на берегу Иртыша. В свое время о коммуне писали, вышла даже брошюрка, в которой с простодушным пафосом тех лет говорилось о трудовых успехах коммунаров (землю пахали однолемешным плугом, о тракторе лишь мечтали), о новом быте, о школе, где обучались грамоте и дети, и взрослые, о клубе, куда сходились по вечерам – слушать, как при свете семилинейной лампешки Макар Тимофеевич Федоров читает Пушкина, Генриха Гейне, Ибсена... Федоров собирал материалы о своем отце, о его коммуне «Майская заря», складывал в папочку, там же лежала и справка о реабилитации, выданная в 1955 году. Когда-нибудь, думал Федоров, он съездит в те места, где коммунарствовал отец, отыщет стариков – и напишет книгу...
– Нет, почему же, – повел плечами Виктор,– аргумент как аргумент... Только Он ничего не доказывает. Наоборот. Любое исключение подтверждает общее правило.
– Ты что имеешь в виду?
– А чего он добился? И такие, как он? Роберт Оуэн тоже создал коммуну «Новая Гармония». Добровольцев со всей Европы собрал, обеспечил деньгами, землей. Дворец культуры им потрясный отгрохал, газету затеял издавать, короче – живите, гаврики, плодитесь и трудитесь во имя светлого будущего! А толку-то?.. Года не прошло – коммуна его накрылась!– Виктор ухмыльнулся, глядя на отца прищуренными глазами, и была в его, ухмылке, помимо превосходства, еще и жалость, с которой он, случалось, объявлял отцу, азартному и неумелому игроку, заранее рассчитанный мат.– Все просто: этот гаврик любил покушать, тот покимарить, третий выпить и с девочками побалдеть, и никто не любил вкалывать, а те, что любили, нашлись и такие чудики, скоро усекли, что им за других пахать придется, и тогда им тоже все стало до лампочки... Короче, эксперимент провалился, ибо выяснилось, что в распоряжении экспериментатора не тот материал. Но другого, к сожалению, в природе не существует. И это подтверждается экспериментом, который организовал уже не Роберт Оуэн, а Макар Тимофеевич Федоров – сто лет спустя, в коммуне «Майская заря». Где она, эта коммуна?.. И, кстати, где ее основатель Макар Тимофеевич?..
Он редко видел сына таким возбужденным.
– Не передергивай, Виктор,– попытался остановить его Федоров.– Все было куда сложнее...
– «Не передергивай!..» Это не мы, это вы передергиваете! Приукрашиваете, припомаживаете людей, лишь бы не видеть, какие они на самом-то деле! Все как в школе: «Детки, детки... Мальчики-девочки...» Да если бы наши учителя дотумкали, чем они занимаются, эти мальчики-девочки, когда одни остаются... Вот бы офонарели!.. Только зачем?.. Так им спокойней!
– Виктор!
– Не надо!– Теперь они поднялись и стояли друг против друга. Федоров видел, как дрожат, бьются в злых щелочках глаз Виктора черные провалы зрачков.– Не надо ставить нам в пример ни Софью Перовскую, ни Дон-Кихота! Софья Перовская на эшафоте погибла, а мы жить хотим!.. Это скоты набросили ей петлю, скоты стояли :и смотрели, как она дергается на веревке, а вы делаете вид, что их нет и не было – скотов! И умиляетесь Дон-Кихотами, которых топчут свиньи! Что ж, умиляйтесь на здоровье, а мы не желаем! Потому что если кому Дон-Кихоты и нужны, так именно свиньям – чтоб было, кого топтать!
– Виктор, Виктор...– Федоров знал, что в те минуты, когда Виктор бывает в запале, его не урезонишь.– Хоть это и страшно вульгарная философия, но – ладно, допустим. Только тогда уж будь добр, скажи, что ты для себя выбираешь, с кем ты – со свиньями или с Дон-Кихотом?..
Виктор не ответил, отвел глаза. Но Федорову в тот миг показалось, что ему было, чем ответить, было и хотелось... Но он не решился.
14
Когда же услышал он от Виктора о «беспредельном человеке»?– попытался вспомнить Федоров. Он сидел в комнатке сына, крохотной, напоминающей тесный матросский кубрик, хотя вечерами в нее набивалось по восемь-десять ребят, как они помещались?.. Федоров наведывался сюда редко: в отсутствие Виктора делать это было неловко, в другое время – тем более: ребята покуривали, Федоров не хотел ни смущать, ни поощрять их своим присутствием. Так же как спорить с Виктором по поводу картинок, вырезок из журналов, развешенных по стенам и явно рассчитанных на эпатаж.
Но сейчас, когда он вошел сюда среди ночи, он вообще словно впервые разглядывал жилище сына: репродукцию «Авиньонских девушек», прикнопленную в углу, магнитофон с разбитой и кое-как склеенной пластырем крышкой, груду дисков на подоконнике, гантели, задвинутые под кушетку... Виктор взвивался, если в комнате без его ведома наводили порядок, и с тех пор, как его увезли, Татьяна тут ни к чему не притрагивалась. Может быть, еще и оттого все здесь хранило присутствие Виктора и было полно беспокойства, смятения; казалось, на малом этом пространстве зарождался смерч. Орали, в ужасе выпирая из орбит, глаза авиньонок, похожих изломами нагих тел на желтые, багровые, оранжевые языки пламени. С торшера свисал подвешенный на резинке брелок-скелетик, покачиваясь от еле заметного шевеления воздуха. Со стены ухмылялся павиан – в шляпе с полями и трубкой в оскаленных зубах. На столе громоздилась башня из книг, грозивших вот-вот обрушиться, а выше, в рамке из потемневшего дерева, посреди мерцавшего серебром оклада взамен иконного лика красовалась фотография Брюса Ли – короля каратэков: на лице – зверская гримаса, правая рука выброшена вперед, пальцы – как хищные, острые когти, готовые вцепиться, пронзить, разорвать... Для Виктора и его друзей Брюс Ли был кумиром.
Он выровнял стопку книг. Сверху лежала брошюра – ксерокопия с нечеткими, смазанными буквами, без первых страниц. Федоров присел, включил настольную лампу.
«Индийский монах Бодхидхарма (по-японски Дарума), прибывший в Китай в 520 г. н. э., создал в монастыре Шаолин-су (по-японски Шорин-дзи) метод борьбы без оружия. Он провозгласил: «Война и убийство несправедливы, но еще более неверно – не уметь защитить себя. Первая и главная цель каратэ – победить врага в реальной борьбе любой ценой...»
Под портретом Брюса Ли на гвозде висел листок, исписанный скачущим почерком Виктора:
«Не страшись Титанических Дерзаний!
Для витязя Атхарты нет невозможного.
Пределы созданы только для стадных людей.
Если твои кровные братья и сестры
Не хотят вместе с тобой идти по Тропе к Тайному,
Рука твоя не дрогнет,
Когда ты отворишь им дверь.
Пусть стадные люди
Идут в человеческое стадо».
Атхарта... Тропа к Тайному... Федоров наудачу вытянул из стопы голубой томик. Бальмонт. Странное соседство... На отмеченной закладкой странице он прочел:
«Человечек современный, низкорослый, слабосильный,
Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин.
Весь трусливый, весь двуличный, косо душный, щепетильный,
Вся душа его, душонка – точно из морщин...»
Перебрав еще несколько книг, Федоров обнаружил объемистую монографию «Современные теории элиты», полистал, наткнулся на отчеркнутое карандашом место: «Масса – это собрание средних, заурядных людей. Это люди без индивидуальности, представляющие собой обез-личенный «средний тип », как писал Ортега-и-Гассет»...
Так... Что дальше?.. Герман Гессе, «Степной волк».
Федоров читал:
«...Стоит мне пожить немного без радости и без боли, подышать вялой и пресной сносностью так называемых хороших дней, как душа моя наполняется безнадежной тоской. Во мне загорается дикое желание сильных чувств, сногсшибательных ощущений, бешеная злость на эту тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную жизнь, неистовая потребность разнести что-нибудь на куски, магазин, например, собор или себя самого...»
Рядом на полях стоял восклицательный знак.
Теперь в руках у него был Фридрих Ницше, порядком залистанный, обветшавший томик. Федоров читал:
«Несправедливость могущественных, которая больше всего возмущает в истории, совсем не так велика, как кажется. Уже унаследованное чувство, что он есть высшее существо с более высокими притязаниями, делает его довольно холодным и оставляет совесть спокойной; ведь все мы не ощущаем никакой несправедливости, когда, например, без всяких угрызений совести убиваем комара. Отдельный человек устраняется в этом случае, как неприятное насекомое; он стоит слишком: низко, чтобы иметь право возбуждать тяжелые ощущения у властителя мира».
Последние слова были жирно подчеркнуты. На закладке рукой Виктора:
«...Эта природа, которая дала быку рога, льву клыки,– зачем дала мне природа ноги? Чтобы давить, клянусь светлым Анакреоном, а не затем, чтобы бежать».
И на обороте:
«Великие эпохи нашей жизни начинаются тогда, когда мы приобретаем смелость переименовать в добро то, что люди привыкли считать злом...»
Обе цитаты тоже были из Ницше.
15
Прочитай Федоров это все, не зная, что произошло в сквере перед филармонией, он бы, вероятно, не нашел причины для особенной тревоги. Молодая дерзость ума, почти инстинктивный в юности поиск опасности, риска, стремление надкусить запретный плод, равно ядовитый и сладкий...
Он замечал, что курит одну сигарету за другой, что комнатка полна кислого травянистого дыма, что в пачке «ВТ» но осталось и половины сигарет и надо бы по крайней мере открыть форточку... В памяти воскрес запах другого дыма с многослойным привкусом пороха, горелой резины, тлеющих тряпок, развороченной штукатурки, битого кирпича... Запах жизни и запах смерти стоял над Берлином сорок пятого года – запах разогретой солнцем танковой брони, потных, белых от соли гимнастерок, свежей ярко-зеленой листвы на уцелевших, не скошенных снарядами липах – и запах подвалов, забитых полумертвыми от страха людьми... Их выводили на поверхность – бледных, озирающихся по сторонам стариков, старух с бескровными, сжатыми в точку губами, брюхатых молодых немок, усыпанных веснушками и предродовыми пятнами... Попадались юнцы из вервольфа, Федорову запомнился долговязый мальчишка в прыщах, с круглыми очками на красном гриппозном носу. В кармане у него, помимо обоймы с патронами, был изящно изданный, размером с блокнот, томик Ницше «Так говорил Заратустра». Федоров некоторое время носил томик этот с собой, надеясь, что он поможет ему совершенствоваться в немецком. Но почему-то противно было его раскрывать, за щетиной готических знаков ему виделся город, превращенный в руины, «юберменш» с красным сопливым носиком... «Заратустру» он то ли потерял, то ли оставил где-то намеренно – и читал Ницше в русском переводе, сделанном в начале века, в период увлечения немецким философом в петербургских салонах, лакомых до всего новомодного, а Ницше был в моде – и впереди еще не маячили ни Бухенвальд, ни Освенцим...
16
...Ни Бухенвальд, ни Освенцим.
А разговор про «беспредельного человека» вышел такой (с чего начался он, Федоров не помнил, запомнилось продолжение):
– Человек должен быть сильным,– сказал Виктор.– Чтоб его никто не затоптал, не свалил с ног.
– А он?
– А он чтобы мог – всякого, кто ему поперек дороги станет.
– Словом, «добро должно быть с кулаками»?..
– А без этого какой от него толк?
– Ловко,– сказал Федоров, забавляясь (именно так – многое в сыне тогда его забавляло, в частности – эта напористость, диалектичность, умение вести спор).– Это кто же тебя так научил?
– Так принято считать у каратэков.
– У кого-кого?..
– У нас, каратэков,– На щеках Виктора зажегся смуглый румянец.
– Ишь ты...– Федоров не удержался, хохотнул. «У нас». – И давно это ты каратэкствуешь, позволь узнать? Скоро ли получишь повязку?.. Тьфу, не повязку – пояс... Кажется, так?..
Федоров плохо представлял суть каратэ, но про цветные пояса, которые обозначали степень мастерства, слышал.
– До пояса мне еще далеко. А пока я бы взял у тебя десятку.
– Это что – взнос?
– Ага. Я хожу в секцию. Глеб и Валерка тоже записались.
Вот здесь-то Федоров и услышал выражение «беспредельный человек».
– Это человек, который ничего не боится,– объяснил Виктор.– Человек, который готов на все, чтобы победить. Он себя всего должен собрать, весь должен вложиться – и тогда он добьется победы, а его победить никто не сумеет. Но в этом самая трудность – чтоб целиком вложиться...
Виктор тут же продемонстрировал, что это значит. Он принес к отцу в кабинет дощечку, крепкую и довольно толстую, один конец ладонью прижал к столешнице, другой на вершок торчал над краем стола. Федоров видел, как Виктор напрягся, его небольшое, но мускулистое тело словно набухло, палилось – и все мелко дрожало, выбрировало. Резким движением он поднял и опустил руку, рубанув по. тому месту на доске, которое перед тем прожигал сосредоточенным взглядом. Деревяшка хрустнула, разлетелась.
– Вот! – сказал Виктор.– Если хочешь – попробуй! – Федоров погладил, помял пальцами ребро его ладони – твердое, мозолистое.
– Это блатари говорят – «беспредельный человек», они своих так называют!..– У Виктора глаза горели, когда он рассказывал про своего тренера каратэ.
– Блатари – не самые лучшие на земле люди,– сказал Федоров.
– Зато – самые отчаянные! И не станут...
– Что – не станут?
– Ничего не станут.– Виктор внезапно поскучнел и тусклым взглядом провел по отцовскому кабинету, книжным полкам, машинке, накрытой чехлом...
А спустя месяца два или три знакомый журналист рассказал Федорову, что в одном из клубов была раскрыта шарашка, где не столько обучали каратэ, сколько вымогали деньги у школьников, записавшихся в секцию, а помимо того – играли в карты, пили, крутили порнофильмы... Сам же «мастер каратэ», тип с уголовным прошлым, успел организовать секции в нескольких школах.
– Это ты им помог?– спросил Виктор, ворвавшись к отцу в кабинет.
– Нет,– сказал Федоров.– Но знай я обо всем, я бы не отказался...
Ему было известно, что «заложил» каратэка его ученик, не удержавшийся от искушения испробовать приемы японской борьбы на прохожих.
Виктор был бледен, растерян.
– Дураки!..– Голос у него ломался.– Мразь!.. Потные плебеи!..
– Не знаю, что такое твой «беспредельный человек»,– сказал Федоров, убирая у Виктора со лба светлую челочку,– но что ты – беспредельный дурак, это уж точно.– И Виктор отмяк, отошел, подчиняясь, как в детстве, движению отцовской руки.
Внезапная жалость пронзила Федорова – жалость к встопорщенной, нескладной фигурке сына, не достающей до его плеча.– Ответь мне, пожалуйста, ты вот объяснял прошлый раз... Ну, а Швейцер? Лев Толстой? Эйнштейн?..– Федоров назвал еще несколько имен,– А они кто?.. По-моему, если уж говорить о «беспредельных», так в первую очередь о них...
– Может, ты и прав,—согласился Виктор вяло.– Только где они?.. Я таких вокруг что-то не вижу.– И вновь с откровенной скукой посмотрел на отца.
«Потных плебеев» Федоров пропустил тогда мимо ушей. У кого позаимствовал Виктор эти слова – у Ницше или у своего каратэка?..
17
– Вот где ты...
Оп сидел, обхватив руками голову, и не слышал ни шагов, ни дверного скрипа. Он и голоса ее, казалось, не слышал,– просто почувствовал, что в комнате еще кто-то есть, и вздрогнул от неожиданности.
На пороге стояла Татьяна в длинной, чуть не до полу, ночной сорочке. Лицо, без малейших следов сна, было бледно, прозрачно, а за широкими складками тонкого, в голубых незабудках батиста не ощущалось плоти... На Федорова со спины будто дохнуло ледяным ветром, волосы у него на голове шевельнулись.
– Что ты тут делаешь?– спросила Татьяна,– И куришь, опять куришь... Хотя бы форточку отворил,– Она вздохнула и прошла к окну. В комнату хлынула ночная прохлада. Федоров ощутил, какой у него взмокший, в испарине лоб, не только лоб – виски, затылок....
– Что делаю?.. Знакомлюсь с нашим сыном...– Он кивнул на груду книг на столе. – Ты только послушай...
Она опустилась на кушетку напротив.
Он видел, как она истерзана, видел, что каждое слово из того, что он читал, причиняет ей боль. И не мог остановиться.
– Ну, что ты на это скажешь?..
Она молчала.
Федоров сдернул очки, бросил на стол. Неуклюже, все время на что-то натыкаясь прошелся по комнате, уперся в окно лбом.
– Не знаю,– сказал он, не оборачиваясь,– убил он или нет, но что мог убить – это уж точно!..
В сантиметре от его глаз было черное, льдисто блестевшее стекло. Он зажмурился. Он пытался уловить за спиной хотя бы звук – шевеление, дыхание... И снова явилось ощущение, что в комнате он один.
Тогда он вскинул голову, повернулся. Татьяна сидела на кушетке, как деревянная, не замечая прохлады, струящейся от окна.
– Ты понимаешь?..– скорее себе, чем ей, сказал Федоров.– Ведь он – чудовище!.. Мы вырастили чудовище!.. Я... Ты... Мы вырастили чудовище!..
Он ударил себя по лбу кулаком – ударил так, как если бы хотел размозжить себе голову или вбить, вколотить в свой толстый, неподатливый череп тупой гвоздь.
– Танька,– сказал он,– Танька-Танюха... Ты что-нибудь понимаешь?.. Я – нет!
Лицо его без очков, с подслеповатыми, часто мигавшими глазами выглядело беспомощным, жалким.
– Алеша,– сказала Татьяна, и было в ее голосе странное спокойствие, ровность, которые поразили его раньше.– Алеша, ты помнишь, что я сказала тебе утром в аэропорту?.. И помнишь, что ты мне ответил?.. А теперь ты готов...– Она поискала подходящее слово, но не нашла.– Он наш сын...– проговорила она тихо.
Она сидела, опустив голову, намертво сцепив на коленях руки.
– Это чудовище?.. Это не мой сын!..
– Эго наш сын,– повторила она.– Хороший он или плохой, все равно – это наш сын...
Она сделала вид, что не слышит ярости, бешенства, от которых его слова казались раскаленными добела. Или, может быть, она уже знала, чувствовала то, что ему только предстояло узнать и почувствовать. Ведь с момента, когда ей все сделалось известно, и до его возвращения прошло три дня. И, значит, она была старше, чем он, на эти три дня. На трое суток. На триста... На три тысячи лет.







