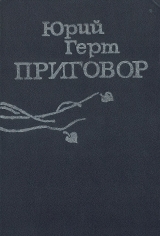
Текст книги "Приговор"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Когда она кончила, отошла от кафедры, кто-то позади захлопал первый, его поддержал весь зал. Федоров же, сознавая справедливость многих ее слов, подумал вдруг, что Татьяна чем-то похожа на перепелку, которая кружится, бьется, оттягивая опасность от своего гнезда...
Суд объявил перерыв на десять минут.
– Прекрасная речь,– сказал Горский, отведя их обоих в сторонку.– Но вам, надеюсь, понятно, что теперь мы проиграли процесс?
– Я сказала правду, только правду,– еще не остыв, с горящими глазами проговорила Татьяна.
– Правду, которую не сможете доказать...
6
Со странным чувством слушал Федоров речь прокурора. За многие годы работы в газете он сам усвоил требовательный прокурорский тон. По его материалам прокуратура открывала серьезные дела, с привлечением многих обвиняемых, с высокими сроками для осужденных... Сам он никогда на подобных процессах не присутствовал. Обычно он получал осведомляющий о финале документ, на бланке, с подписью, и когда этот документ являлся логическим итогом его выступления в газете, он испытывал чувство удовлетворения, чувство маленькой гордости за хорошо исполненную работу – в мире чуть-чуть прибавилось справедливости, и он был к этому причастен...
И вот теперь ему казалось, что скамья подсудимых удлинилась, и откидное сиденье, которое он все эти дни занимал с десяти утра до самого вечера,– сиденье это было как бы ее продолжением. И рядом с ним находились все, когда-либо осужденные при его участии и по его почину. И не то важно, виновны они были или нет, а то, что судили их люди, которые могли быть справедливы и мог-ли ошибаться, могли быть счастливы, а могли завидовать тем, кто был счастливее их, поскольку, казалось им, счастье это было незаслуженным... Он часто замечал, что завидной внешности, королевской осанки женщины бывают обделены простым, будничным, недостижимым для них счастьем... К разряду таких неудачниц он мысленно отнес Кравцову, едва ее увидел. Было в ней нечто чересчур жесткое, самостоятельное, властное. Чья-то жестокость, обида заставили ее замкнуться, свернуться в клубочек, выставив иглы – и результатом было высокомерное и горькое одиночество, холодная, застланная белейшими простынями постель, в которую она с тоской ложилась по вечерам, изящный по-женски букетик на столике в изголовье, седуксен перед сном, пустое, как цветок без завязи, лоно...
Все это были люди, всего лишь – люди, но они должны были решать, выносить приговор. И Федоров ощутил в себе тот самый, исподволь расползающийся по всему телу страх, который испытывали на той же скамье люди, к жизням которых он был причастен.
Выступала Кравцова. Она оставалась на своем месте, только встала, одернула и без того ладно сидевший на ней китель, коротким движением откинула назад золотистые, в тщательно уложенных локонах волосы, поправила черный шнурочек на белой блузке. Голос ее был громок, ровен, чист, она умело им владела, и даже банальности, с которых началась ее речь, освеженные этим ровным, чистым голосом, походили на захватанное, пыльное стекло, которое протерли, вернули ему прозрачность... Так, по крайней мере, казалось. Даже Федорову. Даже ему, прожженному газетчику, сознающему никчемность и неизбежность банальных оборотов. Естественно, как же и начать-то ей было иначе, будь она даже семи пядей во лбу? И начала она с того, с чего и полагалось: с молодежи, советской, замечательной нашей молодежи, которая всегда была и будет нашей гордостью. И тут поминались – и эпоха гражданской войны, Щорс, водивший в бой полки в восемнадцать лет, и Павка Корчагин, и первые пятилетки, и Отечественная, и далее, вплоть до БАМа, до воздвигаемых в пустынях городов, до...
– Однако,– сказала она (что же, что могла она еще сказать?..) – в семье не без урода... Причем дело, которое ныне слушается, в особенности точно, а в некотором смысле прямо-таки парадоксально соответствует приведенной пословице. Поскольку речь идет как о большой, огромной семье советской молодежи, так и о совершенно конкретных семьях, в которых росли и воспитывались подсудимые...
Ну вот, ну вот, ближе к делу, – про себя бормотнул Федоров. И что-то в нем напряглось, как в предвкушении, схватки.
– Существо дела, согласно проведенному на суде исследованию обстоятельств, состоит в следующем, Трое учащихся десятого «А» класса школы № 44 – Виктор Федоров, Глеб Николаев и Валерий Харитонов третьего марта сего года вечером, около семи часов, встретились в центре города, на углу Московской и Бульвара Мира, зашли в гастроном «Радуга» и купили там две бутылки портвейна. Затем подсудимые прошли в сквер, находящийся перед: филармонией, распили вино, однако им показалось этого мало. Тогда они обратились к проходившему мимо гражданину Савушкину, потребовали от него денег и стали угрожать. Савушкин позвал на помощь. К нему поспешил проходивший по соседней аллее летчик Стрепетов. Он оказался лицом к лицу с тремя нападавшими, Савушкин сбежал. Действуя в качестве холодного оружия металлической расческой, Виктор Федоров нанес Стрепетову пять глубоких ранений, в том числе ранение в области печени, оказавшееся смертельным. Стрепетов умер в больнице, куда был доставлен случайным прохожим гражданином Бесфамильным, который остановил такси и посадил в него истекающего кровью потерпевшего. Розыск виновных в смерти Стрепетова длился около месяца, но ничего не дал, пока свидетель Савушкин не явился в следственные органы и не опознал одного из подсудимых, а именно Валерия Харитонова. В свою очередь Валерий Харитонов назвал двух своих сообщников. Такова вкратце фабула дела.
– Она повторила обвинительное заключение, повторила из слова в слово! – проговорил вполголоса Николаев, склонясь к Федорову.– Будто не было ни суда, ни выступлений свидетелей, не всплыли новые факты!
В зале шумели, председательствующий Курдаков несколько раз с силой постучал по столу. Зал затих, но невнятный гул еще долго стелился, словно рождаясь где-то внизу и растекаясь над полом.
– В ходе судебного следствия приводились доказательства, якобы отрицающие вину подсудимых,– продолжала Кравцова, ничуть не смутясь вынужденной паузой..– Что же это за доказательства? Во-первых, подсудимые утверждали, что не видели ни Савушкина, ни Стрепетова. Во-вторых, что в драку ни с тем, ни с другим они не вступали. В-третьих, что в сквере им встретилась компания молодых людей, именуемых «крафтами», и вот с ними-то у них и завязалась драка. Виктор Федоров якобы при этом нечаянно выронил металлическую расческу, и «крафты» использовали ее в дальнейшем при нападении на Стрепетова.
– Все три объяснения – бездоказательны и являются чистейшим вымыслом.
– Во-первых, на предварительном следствии все трое, каждый порознь, дали описание основных примет Савушкина и Стрепетова, и этот факт, как бы ни стремились подсудимые отвертеться от своих прежних показаний, заслуживает того, чтобы к нему отнеслись с полной серьезностью. Во-вторых, расческа, приобщенная к делу, принадлежала Виктору Федорову, он этого не отрицает. Раны на теле Стрепетова были нанесены именно ею, то есть заостренным ее концом. Об этом же свидетельствует исследование состава крови, сохранившейся на расческе. В-третьих, о группе «крафтов» не было речи на предварительном следствии, хотя логично было бы предположить, что о ней подсудимые расскажут прежде всего. Но версия, связанная с «крафтами», возникла лишь в процессе суда. И возникла постольку, поскольку голословного отрицания прежних показаний было недостаточно. Тогда-то и появились «крафты». Но подсудимые отказываются назвать их, опознать, сообщить приметы. Из этого следует, что история с «крафтами» является выдумкой.
Кравцова на секунду смолкла – как бы лишь для того, чтобы взглянуть на Горского, сохраняя едва заметную усмешку в уголках губ. Но Горский был непроницаем.
– Далее. Свидетель Савушкин. По его словам, он убежал, бросил Стрепетова одного, поскольку – и такая откровенность делает ему честь – попросту струсил. Но это и все, что способно сделать ему честь. Продолжая, трусить на протяжении целого месяца, то есть целый месяц не являясь в милицию, чтобы сообщить данные, которые помогли бы найти убийц, он, по всей вероятности, струсил и в третий раз, когда здесь, на суде, отказался от данных ранее показаний. Струсил – ему могли пригрозить, скажем, друзья подсудимых. Но смешно говорить при этом о совести, как он пытался делать. Совесть и трус, кинувший в беде человека, – понятия разные, соединять их было бы надругательством над здравым смыслом. Здравый же смысл подсказывает другое: стремление ввести в заблуждение органы правосудия только так можно квалифицировать поведение свидетеля Савушкина.
Савушкин, заметил Федоров, сидел, втянув голову плечи; в очках с толстыми стеклами он походил на ослепленную светом сову.
– Ничего,– бормотнул Николаев,– есть более высокие инстанции...– Он потрепал Федорова по руке, лежавшей на подлокотнике.– Но я вам советовал – не выпендривайтесь и – по камушкам, по камушкам...
– Что же до алиби, которое пытались доказать некоторые другие свидетели, друзья и приятели подсудимых, то и это – попытки с негодными средствами. Я имею в виду прежде всего Галину Рыбальченко, Пантюхина, Шлыкова, учащихся как той же 44-й, так и 13-й школы города. По молодости лет и легкомыслию эти свидетели, вероятно, не вполне учитывают, что дача ложных показаний суду карается законом...
Кравцова пошелестела бумагами на своем столе, поднесла ближе к глазам одну, другую и отложила, видимо, решив, что сказанного достаточно.
– Таким образом, вина подсудимых в убийстве летчика Стрепетова является доказанной...
– Неслыханно! – раздалось в зале. Зашаркали подошвы, послышались протестующие голоса.– Полнейший произвол! – выкрикнула Людмила Георгиевна.– Как можно... Это не суд, а судилище!
Возникла перепалка. Курдаков жестким, безапелляционным тоном предложил Людмиле Георгиевне покинуть помещение, и она удалилась, возмущенно вскинув голову.
– Перехожу к характеристике личности подсудимых,– продолжала Кравцова.– Считаю необходимым остановиться на этом еще и потому, что несмотря на всю исключительность, жестокость и внешнюю бессмысленность, как бы случайность совершенного преступления, оно, с точки зрения личности каждого из подсудимых, отнюдь не является случайным. Случайно могло произойти другое: преступление могло не состояться. То есть именно то престунление, которое подлежит нашему разбору. Но рано или поздно, в этом или в другом месте подсудимые должны были нечто подобное совершить. На Западе пустили в оборот, а у нас некоторые юристы подхватили термин: «безмотивное преступление». Но я убеждена: безмотивных преступлений не бывает.
– Это уже, смею заметить, что-то от Ламброзо,– не удержался Вершинин.
– Вот именно,– каким-то стеклянным, бесчувственным голосом произнесла Таня,– Такими прямо они и родились...
– В роддоме!..– выкрикнула Харитонова.– Титьку сосали, а уже... Уже нож вострили!.. Постыдились бы чушь такую молотить, а, товарищ прокурор?!
– Мне хотелось бы обрисовать смысл совершённого, преступления,– продолжала Кравцова.– Как я уже говорила, подсудимым понадобилась трешница или пятерка, и они напали на Савушкина. Что же до Стрепетова, поспешившего Савушкину на выручку, то ни о трешке, ни о пятерке речи здесь не было. За что же его убили? Почему его убивали с таким упорством? Убивали, добивали, чтобы – наверняка?.. Хоть и видели-то его впервые?..
– Представьте себе, что мы бы ничего не знали об этом человеке. Что нам не известна характеристика, которую дали ему и друзья, и начальство ГВФ. Что мы не видели его жены, ее слез. Представьте, что мы ничего этого не знали бы, знали одно: после работы усталый человек идет домой, вечер, центр города. И вдруг чей-то возглас, крик о помощи... Подчеркиваю: центр города, и всегда на страже – лукавая мысль: разве я один этот крик слышу? А другие? Найдется еще кто-нибудь, почему я?.. Да может это пьяный какой-нибудь, с такими же, как сам, подрался. И милиция – ведь это ее дело – за порядком наблюдать... Так, примерно так мог подумать Стрепетов. И пройти мимо. Как проходят многие из нас. Но он поступил иначе. Почему?.. Мы этого не узнаем, не услышим от него самого. Но все, что он сделал, то есть без размышлений рванулся на помощь неизвестному, говорит об одном: он был человеком. Нет, не сверхчеловек о м, о котором вослед Масутацу Ояма толковал свидетель Шульгин, а – просто человеком... И вот подлинная причина, подлинный мотив, почему на него набросились трое подсудимых, почему с такой жестокостью, с такой неистовой злобой убивали, добивал и его. Единственно за то, что он был человеком. А они этого не могли вынести...
И снова, пока Кравцова неторопливо, мелкими глотками пила воду из стакана, давая небольшую передышку себе, да и аудитории тоже, поскольку дальше-то ей и предстояло перейти к самому существенному,– пока она пила воду, яркой, яростной вспышкой из мглы памяти вырвалось – ночь, и две ленточки сигаретных огоньков, и первый, и второй, и третий шаг – внутрь, в узкий коридорчик между огоньками, и удар в челюсть, и за ним – частые, со всех сторон – удары в живот, в ребра, в пах – куда попало... И как это она, Кравцова, добралась, доискалась между множества причин до той именно, что и он?.. А она уже перешла к главному в своей речи: как могли сложиться, воспитаться такие юноши, молодые люди, что само человеческое в человеке для них было непереносимо?..
– Было бы неверно говорить о трех семьях сразу, хотя между ними, несомненно, имеются общие черты. Вот семья Виктора Федорова, здесь присутствуют его отец, известный журналист, и его мать, библиотечный работник. Не далее как четыре дня назад, как раз в тот день, когда начался этот процесс, во всесоюзной прессе появилась статья Алексея Макаровича Федорова, в которой он выражал обоснованную тревогу за здоровье и жизнь обитателей города Солнечного. Прекрасная статья, и, как говорится, честь и хвала ее автору. Но вот что озадачивает: каким же это образом он, столь детально зная положение дел в Солнечном, не знал, что происходит в его собственном семействе? Почему он, человек высоких жизненных принципов, как о том говорила, между прочим, его жена, передоверил воспитание собственного сына такому субъекту, как Шульгин? Отчего могло случиться, что в семье, судя по всему гуманной, интеллигентной, сформировался характер – циничный, жестокий, бесчеловечный?..
– Я долго пыталась уяснить для себя этот парадокс, перебирала множество причин, однако главным считаю то, что родители Виктора Федорова самоустранились от воспитания сына. Прошу понять меня правильно, товарищи судьи. Это не значит, что их сын рос заброшенным ребенком, обделенным в своей семье заботой и вниманием, Напротив, с детства его окружали книгами, приучали любить музыку, произведения искусства. Но при этом, вероятно, предполагалось, что все остальное образуется само собой. То есть что Пушкин и Толстой, скажем, возьмут мальчика, а затем отрока, а затем юношу за ручку и поведут вперед и выше, заменив отца и мать. Предполагалось, поскольку существует такая гипотеза: каждый человек от рождения бывает добр, чист, прекрасен и воспитателям остается лишь развивать в нем эти качества. Превосходная теория! – В голосе Кравцовой звучал нескрываемый сарказм – обращенный, казалось, к Федорову, именно к нему, хотя за все время, пока длилась ее речь, Кравцова лишь раз или два зацепила его взглядом. – Превосходная, потому что мы привыкли – на этом вся наша идеология зиждется – привыкли верить в человека, в прекрасные, заложенные в нем качества... Но теория эта – не в философском, а в бытовом, семейном, скажем так, плане превосходна еще и потому, что снимает с родителей всякую ответственность, позволяет всю вину за недостатки и пороки детей сваливать на объективные, не зависящие от них, родителей, обстоятельства – не об этом ли услышали мы здесь от матери Виктора Федорова?.. И, наконец, гипотеза эта, как о том свидетельствует опыт, зачастую приводит свой объект прямехонько на скамью подсудимых!
– Ну, баба!..– поразился Федоров.– Она бы, будь ее воля, и Руссо на скамью подсудимых упекла, и французских энциклопедистов, это ведь от них пошло – «табула раса»...– Он провел рукой по взмокшей от пота шее, расстегнул на рубашке две верхние пуговицы.
– Другая теория, в контраст с первой, исходит из неверия в человека. И если первая предоставляет ребенку абсолютную, не ограниченную, никакими разумными пределами свободу, то вторая требует постоянной, регламентации каждого его шага, каждого жеста и слова. Именно так, представляется мне, относились в семье к Глебу Николаеву. Крайности сходятся – у Виктора Федорова и Глеба Николаева развились одинаковые черты характера, их потянуло друг к другу – и вот, как мы видим, они сделались соучастниками в тягчайшем преступлении...
– Что же до третьего соучастника, Валерия Харитонова, то, не умаляя его вины, мне хотелось бы обратить ваше внимание, товарищи судьи, на то, что здесь мы имеем дело с юношей слабовольным, бесхарактерным, но стремящимся ощутить себя сильным, мужественным – хотя бы за счет близости к вожаку, лидеру, олицетворяющему для него эти качества. Общение с Федоровым и Николаевым было для Валерия Харитонова крайне соблазнительно и лестно, несмотря на унизительное положение, в котором он постоянно рядом с ними пребывал. Вероятно, чтобы не потерять себя в глазах таких «суперменов», как Виктор Федоров и Глеб Николаев, он должен был стремиться не отставать от них и в чем-то даже их превзойти...
– В дальнейшем я еще остановлюсь на том, какого рода частное определение обязан, полагаю, вынести суд по отношению к родителям обвиняемых...
Ах, черт, он ведь был еще жив, жив, а с ним уже обращались, как с трупом, как если бы он лежал на мраморном или – как там водится?.. – обтянутом жестью анатомическом столе, и его полосовали, рассекали, разглядывали – одну часть за другой, жилку за жилкой, нерв за нервом...
Кравцова уже перешла к школе... Но Федоров почти не слышал ее. Ему вспомнилось, как иногда сворачивал он в сквер перед филармонией, отыскивал ту аллею, ту скамью и сидел на ней, с колотящимся сердцем, колотящимся еще и от боязни, как бы кто не увидел его здесь, не разгадал его мыслей... Однажды он издали заметил на той самой скамье женский силуэт, и такой знакомый; и незнакомый – по расслабленной позе, сутуло согнутой спине... Он тут же понял, что это она, Таня. И отпрянул назад, он не хотел здесь с нею встречаться. Но и она, смутно почуяв что-то, поднялась и медленно, чуть приволакивая ноги, пошла вдоль аллеи. Шагов через десять она разогнулась, походка приобрела обычную упругость и легкость...
– Следует остановиться на том, что преступление совершено учениками одной из лучших школ города. Как это могло произойти? Случайно ли это?..– Больше чем наполовину зал был заполнен учителями и учащимися сорок четвертой школы, и тишина, возникшая при последних словах Кравцовой, сделалась особенно напряженной.– Полагаю, что нет, не случайно. (В разных концах зала раздалось: «Ну, еще бы..– Это еще нужно доказать!..– Примитивная логика!.. Как же, во всем виновата школа —ату ее!..»). Не случайно! – возвысила голос Кравцова.– Это не значит, что нечто подобное не могло бы произойти в какой-либо из других школ. Но поскольку речь идет об учениках этой школы, я остановлюсь именно на ней.
– Прежде всего удивляет, что характеристики, представленные школой в суд, так же, как и устные характеристики, которые здесь мы слышали от учителей, как будто никаким образом не относятся к молодым людям, сидящим на скамье подсудимых и обвиняемым в тяжелейшем преступлении. Из них следует, что ученики эти – средние, скорее даже сильные, победители различных олимпиад, обладатели грамот, что двойки или тройки по некоторым предметам, опоздания на уроки – вот и все их пороки. Как же эти примерные ребята оказались в состоянии совершить злодейство, потрясшее весь город?.. Характеристики на это не отвечают. Я не ставлю под со-мнение честность педагогов, которые их составляли... (Кравцова выдержала небольшую паузу, которую можно было расценить и как поиск подходящего слова, и как несколько ироническое отношение к последним собственным словам). Я ставлю под сомнение то, насколько хорошо знают они своих учеников. Или ребята, подобно луне, обращены к учителям лишь одной светлой стороной, другая же, темная, остается для педагогов невидимой? И поэтому в характеристиках, отчетах, документации разного рода, представляемых школой, можно еще кое-что уловить относительно знаний учащихся по математике или русскому языку, но о том, что в стенах школы процветает фарцовка, что там спекулируют импортным тряпьем, пластинками, зажигалками, магнитофонными лентами, наживая при этом немалые проценты, о том, что в школе курят наркотики, что там за определенную таксу дают списать или решают контрольные (тоже своего рода бизнес), о слишком ранней половой жизни, о калечащих здоровье девушек абортах – об этом не расскажут никакие отчеты, на это учителя предпочитают закрывать глаза. А за ними – и высшие инстанции, которые судят о школе по проценту успеваемости и призам, завоеванным на олимпиадах. Дети отлично чувствуют все это и приучаются к двойной игре, к лицемерию. Но это – не все. Нравы торгашей и уголовников проникают в школьный быт. Они влияют на моральный облик учеников, нормы их поведения. Как в мире уголовном существует деление на воровскую «элиту» и «чернь», на «воров» и «шестерок», так там, где существуют пионерская и комсомольская организации, где на каждом шагу – портреты героев Отечественной войны, писателей, ученых, возникает деление на «пацанов» и «быков», как называют их в одних школах или несколько иначе в других, а по сути – на сильных и слабых, на «суперменов» и «плебеев». Образуются своего рода касты. А отсюда недалеко и до преступления, коль скоро усвоены обосновывающие его нравственные, а вернее – безнравственные принципы.
– Мне бы не хотелось давать повод считать, что я сгущаю краски. О школе, где был директором товарищ Конкин, мне доводилось слышать немало хорошего. Но факт остается фактом: здесь у ребят не воспитывался дух активного сопротивления мещанству, сопротивления вредным, растлевающим влияниям. И когда ребята сталкивались в жизни с негативными, уродливыми явлениями, они отступали перед ними, подчинялись им – вместо того, чтобы вступить с ними в схватку, объявить им бой. И тогда в души ребят проникал цинизм, сердца их ожесточались, главным законом жизни для них становилась сила, главным желанием – власть над людьми...
7
В коридоре остро пахло валокордином. Николаеву усадили на стул, пододвинули к распахнутому окну, и она сидела, откинувшись на спинку, закрыв глаза. Лицо у нее было покойницки-белым, она не чувствовала, не слышала, о чем говорили вокруг. Слабые стоны ее тонули в бурления множества голосов.
– Невероятно!..– потрясал бородой Вершинин, воздевая вверх сухонькие, в голубых жилах руки.– Требовать ни много ни мало – десять лет колонии!
– И это, заметьте, когда все их доказательства – тьфу! Плюнуть и растереть!..– бушевал Пушкарев.
– Не прокурор – чистая ведьма! – пожимал плечами Ребров.– Она что же, думает, что нет инстанций, которые способны пересмотреть приговор, если он будет вынесен? Но Курдаков – опытный судья, и я не думаю...
– А чего тут думать?—строго, с решительным выражением готовности к немедленному действию, говорил Конкин, окруженный учителями.– Если Федорову – 10 лет, Николаеву – 5, Харитонову – 3 года, то школе... Тут уж не «частное определение» требуется в адрес школы, а... сроки! Да! И мне в первую голову!..
– Это по ее прокурорской логике так выходит! – извилась Людмила Георгиевна, – По ее логике – это мы, учителя, учим их фарцевать и прочими гадостями заниматься!
– Лишить каждого из нас диплома и права преподавания, вот что следует сделать, и немедленно!..– подхватила гневно Жанна Михайловна.– Только не знаю, если уж такие, как Конкин... Кто же тогда детей учить будет? Кто, хотелось бы знать?..
В коридоре было душно, из окон, с обоих концов раскрытых настежь, не доносилось ни дуновения сквозного ветерка – веяло раскаленным асфальтом, выхлопными газами, запахом растопленной смолы...
Федоровых зажали в полукольцо ребята. Они были не слишком шумны и, видно, подавлены речью прокурора, а также требованием Кравцовой привлечь к ответственности некоторых из них, в первую очередь Галину Рыбальченко, поскольку то, что утверждала она в суде, совершенно противоречило тому, о чем она говорила на предварительном следствии.
– Алексей Макарович, Татьяна Андреевна правду сказала, что они не Витьке, они вам, гады, мстят! – напористо говорила Галина. Зрачки у нее были огромные, черные, отчаянные.– И про это надо сообщить, куда следует!
– Верно, Алексей Макарович, мы тут решили – в Верховный суд напишем, там разберутся! Или прямо в ЦК! – Гомон вокруг нарастал, голоса – молодые, резкие – перебивали друг друга, срывались на крик. И особенно рвался в битву, распаляя себя и остальных, Дима Смышляев.
– Погодите, братцы,– сказал Федоров, улыбаясь против воли,– пока это всего лишь речь прокурора, а не приговор...
– Хорошенькое «всего лишь»!..
– Да они все заодно!..
– Сговорились и решили!..
Федоров оглядывался, ища Николаева – тот ушел отыскать адвоката, но Горский куда-то скрылся и не показывался. Вместо того и другого среди знакомых и чужих, но тоже возбужденных до предела лиц, он заметил вдруг нацеленный прямо на него взгляд, иногда заслоняемый чьими-то головами, затылками, спинами, но тут же и выныривающий вновь...
8
Это был все тот же странный человек, с нелепой, вызвавшей в зале смех фамилией – Бесфамильный. Уж он-то меньше, чем кто-нибудь, имел внутреннее касательство к этому делу, он и без того четыре дня являлся в суд, а теперь, дав свои мало что значащие для процесса показания, мог бы и вовсе удалиться. Но он не уходил. Как муха, влипшая всеми шестью лапками в размазанный по блюдечку мед, застрял он сначала в зале, притулясь в уголке и слушая речь прокурора, затем – в коридорной кутерьме. Уши его на лиловом черепе стояли растопыркой, большие, с бледно-матовыми, почти прозрачными хрящами. Все, что слышалось вокруг, словно втекало в отверстые воронки этих ушей и, переработанное под наголо выбритым теменем, изливалось в этом устремленном на Федорова взгляде.
Что это был за взгляд? Чего было в нем больше – злорадного, еще раньше подмеченного Федоровым любопытства или брезгливого сочувствия, с каким смотрят на раздавленную посреди дороги собаку? Или же – тайного, глубоко спрятанного сострадания, которое вдруг померещилось в нем Федорову?.. Впрочем, как бы там, ни было, Федоров меньше всего настроен был сейчас разгадывать подобные загадки, стоя в коридоре и поддерживая Таню плечом, чувствуя безжизненную тяжесть ее тела и в глазах – молчаливый, смертельной тоской наполненный упрек... Это уже после вспомнилось ему, как Бесфамильный, натолкнувшись на его взгляд, втянул голову в плечи и пошел, пошел по коридору, поминутно оглядываясь и озираясь вокруг, вслушиваясь, жадно вбирая в себя коридорное гуденье, говор, восклицания людей, которых выплеснул на десять минут, перед выступлением Горского, до обморочной духоты перегретый людьми и солнцем судебный зал... Но что он, губкой впитывая произносимые вокруг слова и речи, нигде не застревал подолгу и бродил неприкаянно, чужой для всех, спаянных единым чувством, единым порывом,– это Федоров запомнил и в этом искал потом разгадку ни с чем не вяжущегося, несуразного поведения Бесфамильного в самом конце судебного заседания, продолженного после перерыва...
9
Горский был, несомненно, мастером своего дела. Притом он, конечно же, чувствовал поддержку зала, и это придавало ему добавочной уверенности. Даже в тех случаях, когда адвокат соглашался с прокурором, он делал это так снисходительно, с таким затаенным сарказмом, что внешнее согласие тут же оборачивалось очевидным для всех несогласием, лишь облаченным в принятые для таких случаев формулы. Теперь Горский, с его мясистым, породистым лицом, повернутым в профиль, с его широкими, подрагивающими ноздрями, с его седоватой гривой, ниспадающей на округлые плечи, еще больше напоминал Федорову льва, особенно когда упирался обеими руками н крышку стола, налегая на сжатые кулаки, и на пальце ого царственно сверкал золотой перстень с печаткой, украшенной затейливым вензелем.
Вначале он выразил полнейшее согласие со своим уважаемым коллегой, прокурором, в оценке процесса, его политического и общественного значения, особенно если учесть, какой светлой личностью был погибший,– человек отважной, сопряжённой с постоянным риском профессии, отличный товарищ, безукоризненный муж и отец... И все это отзывается в сердце каждого, не только в сердце вдовы Стрепетова (глубокий поклон в ее сторону), с особенной силой и болью, когда думаешь, какой нелепой, случайной, непредвиденной была смерть этого превосходного человека. При всем том судебно-медицинская статистика утверждает, что количество таких смертей – то есть не связанных с заранее обдуманным актом ограбления, мести, ревности и т. п.– за последние годы возрастает, и одно это уже вызывает тревогу и повышает значение данного процесса. Повышает – поскольку крайне важно, во-первых, выяснить корни означенного явления и, во-вторых, не дать увеличиться количеству столь же случайных, непредвиденных жертв...
То ли от яркого столба солнечного света, беспрепятственно проникавшего в зал сквозь незашторенное окно, то ли по какой-то другой причине казалось, что в наполненном людьми помещении плавает легкий туман, в котором все контуры – и предметов, и слов – теряют четкость, расплываются, сливаются одно с другим. Такое впечатление – и наверняка не только у Федорова – то нарастало, то падало во время адвокатской речи.
– Невозможно не согласиться и с характеристикой, которая была дана советской молодежи – и кому придет в голову оспаривать, что ее руками созданы новые города, строится БАМ, засеваются плодородные поля?.. И если бы мне захотелось не поправить, а лишь дополнить столь красочную характеристику, то лишь в единственном отношении. Новое время – новые песни. И молодежь, оставаясь по духу прежней, во внешних приметах и проявлениях стала другой. Вот на что – и только на это – рискнул бы я обратить внимание моего коллеги.
– Каждый апеллирует к собственному опыту. В мое время школьники с увлечением собирали старинные монеты, марки, коллекционировали растения и минералы. Сейчас, в эпоху бурного технического прогресса, растущих связей между людьми и государствами, стремительного распространения моды, юношей больше интересует фирменная одежда, магнитофоны, пластинки. Может показаться, что все переменилось, однако, на мой взгляд, изменилась лишь форма, суть осталась та же: романтический полет в отдаленные времена и страны, совершаемый с помощью крылатого молодого воображения. Достойно ли оно, это воображение, того сурового осуждения, е которым иной раз приходится встречаться?..







