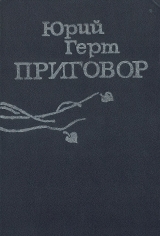
Текст книги "Приговор"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
НОЧЬ ПЕРВАЯ
1
Федоров боялся встать, боялся пошевелиться, чтобы по разбудить жену, и лежал неподвижно, прислушиваясь к безмолвию с нальни, слишком полному, чтобы в него поверить. Хотя перед тем, как погасить свет, он сам протянул Татьяне таблетку седуксена к чашку с водой. Он было выколупнул из гнездышка в упаковочной фольге таблетку и для себя, но вспомнил про коллективные самоубийства в Америке, о которых читал недавно... При всей иллюзорности сходства ему почудилось что-то унизительное даже в этом коротком, на несколько часов, бегстве от самого себя.
Теперь он лежал, глядя в прозрачную, похожую на редкую кисею ночную темноту. Однако это была не та бессонница, которая не отпускала его после болезни – тяжелая, тупая, со счетом до тысячи, со стадами белых слонов, бредущими по бесконечной дороге, И не та, которая приходила после работы, когда перед ним продолжали мелькать люди, картины, еще не преображенные в слова, и в голове молниеобразно вспыхивали сами эти слова, соединялись в цепочки, фразы, и пальцы, еще гудящие от дневного напряжения, снова жаждали клавиш машинки, лишь бы их, эти слова, удержать, не упустить... Сейчас он просто не спал, не старался заснуть. И справа, оттуда, где лежала Татьяна, не доносилось ни дыхания, ни шороха, ни сонного посапывания – ничего. Ему хотелось потянуться, потрогать – здесь ли она? Но что-то мешало это сделать. Мешало удостовериться, спит она или, подобно ему, лежит с раскрытыми, упершимися в темноту глазами?
Она лишь вначале кажется сплошной, эта темнота... В нем множество оттенков, если вглядеться. Оттенков, тонов – черного, серого. От светло-серого, как спинка у мыши, окна до комьев сажи, наваленных по углам комнаты.
И Федоров лежит, смотрит перед собой, в заполняющий спальню зыбкий, клубящийся сумрак и думает: убил ли его сын?.. Убил ли?.. Нет, он этого не знает и не может знать. Он думает: мог ли его сын убить?..
2
– Скверная девчонка!– сказала Татьяна, когда он проводил Галину Рыбальченко домой и вернулся.– Паршивка! Попросту – дрянь!..– Федоров не помнил, чтобы она отзывалась о ком-нибудь в таком тоне. Все в ней кипело, она не могла себя сдержать. А может – и не хотела.– Дрянь и врунья!.. Однажды прихожу, а в ванной – шампунь пролит, кремы переставлены, от лосьона крышка на полу валяется, губка мокрая. Спрашиваю Виктора: опять у нас Галя мылась?– А что, нельзя?..– Надеюсь, тебе ясно, что все это значит?
– Ты мне ничего не рассказывала...
– Не хотела расстраивать!
– Но теперь-то... Теперь какое все это имеет значение?
– Она дрянь! Она нечестный человек! Она могла все наврать – про тот вечер, третьего марта!
Он достал из кармана сигарету, закурил. Она не заметила. Или сделала вид, что не замечает.
– Скажи, а ты сама в тот вечер что-то подозревала? Когда Виктор вернулся?..
Вместо ответа она разрыдалась. Он гладил ее по содрогающейся спине, плечам, отпаивал валокордином. Потом чуть не насильно отвел в спальню и уложил, дал снотворного. Для него это была первая ночь, для нее – третья...
Ему запомнилось, как два или три года назад они с Татьяной гуляли в парке. Была весна, вечер, толпы людей. Когда они проходили мимо танцплощадки, обоим бросилось в глаза, какое множество там, среди разноцветных бегучих огней, молодого народа, в ярких курточках и брючках в обтяжку, в фасонистых, фирменных одежках, имеющих для этих мальчишек и девчонок какой-то особенный, сокровенный смысл. Вот они нерешительно, застенчиво даже топчутся друг против друга, но мелодия в стиле «диско» уносит их в Италию, штаны с этикеткой «Левис»– на берега Миссисипи, свисающий с плеча транзистор – в Японию, а сладковатый аромат духов из маминого флакончика – в Париж, и эти долгоногие балбесы, эти отпетые прагматики, если вдуматься, так же романтичны на свой лад, как и в прежние времена их сверстник, мусоливший в потных от вожделения руках марку Новой Зеландии или Занзибара. Они с Татьяной об этом как раз и говорили, влекомые вдоль аллейки потоком гуляющих, когда поток этот вдруг замер, поредел и рассыпался...
Он увидел десятка полтора выскочивших из перекрестной аллейки юнцов. Длинные, до плеч, лохмы, черные рубашки, погончики, прошитые змейками молний джинсы, готовые лопнуть на мускулистых, напрягшихся, как для прыжка, икрах и ягодицах... Пригнувшись, они озирались вокруг, высматривая кого-то. Лица улыбались, рты были оскалены, хищным восторгом горели суженные глаза. И не слова – рычанье, вой, рык волной обдали Федорова, когда эта орава пронеслась по аллейке дальше. Перед нею поспешно расступались. В руках у одних парней Федоров увидел велосипедные цепи, у других – ножи...
Что было потом? Кажется, где-то в дальнем углу парка закипела свалка, примчался милицейский патруль... Но не о том он думал сейчас. Он пытался вписать, врисовать Виктора, сына – между рычащих, размахивающих цепями фигур... Пытался увидеть его рот в хищном, нетерпеливом оскале... И не мог.
Но разве,– думалось ему,– разве у них не было отцов, матерей, которые тоже вряд ли могли представить своих детей – такими?..
4
Где-то внизу, под окнами, проносились редкие среди ночи машины, гудение мотора, зарождаясь вдали, стремительно нарастало и снова гасло в глубине проспекта. Была так тихо, что удавалось разбирать слова, произносимые диспетчером, который объявлял регистрацию рейсов на аэровокзале, в нескольких кварталах от дома, где жил Федоров. Там, за стенами этого дома, этой спальни, этого саркофага, в котором он и Татьяна, казалось, лежат множество лет, по-прежнему текла привычная жизнь, неотторжимая в прошлом от его жизни, и в том, что она продолжалась, не было ничего странного, и в то же время...
Он чувствовал, что должен подняться, размять одеревеневшее тело, но по-прежнему опасался разбудить Татьяну, Впрочем, он был почти уверен, что она не спит и только старается не выдать себя. Оба играли в одну и ту же нехитрую игру, постигали ее искусство...
Он подумал, что давно несет за плечами тяжелый мешок, не решаясь заглянуть в него, узнать, что внутри – золотые слитки или булыжники?.. До сих пор он просто шел, просто нес, тащил на себе этот груз, но наступило время...
5
«Кто его хотел убивать?.. Кому он был нужен?..» Так она сказала, Галя. Не хотели, а убили, так выходит... Убили, несмотря на то, что – «кому он был нужен?..».
6
...Однажды он возвращался домой после дежурства в типографии. Фонари горели вполнакала, он шел по пустынной улице, пытаясь поймать такси, чтобы добраться до микрорайона, где в те годы они жили. Вдруг навстречу ему кинулись две перепуганные насмерть девчонки. «Что такое?..»—«Там... Там...» – у обоих зубы стучали от страха. Он подхватил их под руки, повернул назад. Поблизости строили новое здание городской библиотеки,... тротуар здесь делался узким, шага полтора шириной, и тянулся дальше между огораживающим стройку забором и шеренгой старых, неохватной толщины тополей. Двигаться внутри этого коридора можно было только к выходу, поскольку между тополей и вдоль забора стояли, скучали, пересмеивались, ожидая, чем-бы позабавиться, потешить душу парии, иные пониже, иные повыше ростом, чем Федоров. При виде его они оживились, повеселели. Что было делать?.. Он продолжал идти по тротуару, что-то громко рассказывая девицам, даже пошучивая. Так прошли они чуть не всю дорожку, но в самом конце он услышал сакраментальное: «Эй, фрайер, закурить не найдется?..» Он толкнул девчонок вперед, обернулся – и получил точно нацеленный, просто мастерский удар в лицо...
Как выяснилось потом, челюсть ему эти подонки своротили, но пока, в драке, он ничего не заметил, поскольку не слишком умелые, но тоже крепкие удары рассыпал вокруг, кулаки у него были прочные, по этой причине оказалось не так легко его достать, а достать пытались – кирпичом, пролетевшим на палец от головы, бутылочным, в искристых изломах горлышком; в конце концов его бы свалили, забили ногами, если бы не те две девчушки, а с ними люди, милиция...
Он и раньше не раз представлял себе забавную эту картину: на ночной, скверно освещенной улице – он, поэт, автор двух тоненьких, ко каких-никаких сборничков, сотрудник молодежной газеты, идущий из типографии, где сейчас печатается в сотнях тысяч экземпляров только что подписанный номер, и – эта откровенная шпана, сброд, дюжина подонков, увидевших его в первый раз... Что, помимо желания поразвлечься, заставило их броситься на него?.. Алкоголь?.. Или присущая всем подонкам злоба – на каждого встречного, на целый мир?.. И не подвернись им Федоров, подвернулся бы кто-то другой?.. Или – знай они Федорова, они вели бы себя иначе?.. Ведь люди чаще всего враждуют, не зная друг друга?..
Так думал он раньше. Но сейчас, вернувшись к давнишнему эпизоду, который вспоминался ему лишь при посещении стоматолога, он вдруг отчетливо понял: знали!.. Не то, разумеется, что он пишет стихи, работает в газете и т. п., что, когда они еще сосали молоко, он уже воевал, был ранен... Этого они не могли знать. Но знали, видели, перед ними не загульной пьянчужка, не забулдыга-полуночник, а порядком уставший после рабочего дня человек, хотя и очкарик-интеллигент, но не из трусоватых, и есть в нем достоинство, уверенность в себе... Они это почувствовали, когда он шел внутри готовой сомкнуться западни. И не могли не почувствовать одновременно, что сами они – дерьмо, ничтожество, подонки, которыми он брезгует; которых не боится, и уже потому он был им до муки, до судорог ненавистен...
Спустив ноги на пол, он осторожно поднялся с кровати, негромко заскрипевшей. Все тело налито было болью, в голове гудело, как в тоннеле метро, когда по нему мчится состав. Он пошарил туфли, нащупал на тумбочке пузырек с таблетками, без которых теперь не обходился, и тихонько выбрался из спальни.
7
Нет, нет и нет!..– думал Федоров.– Тут и похожего нет ничего, никакого сходства!..– У себя в кабинете он проглотил пару таблеток нитронга, одолел спустя две-три минуты небольшую дурноту, вызываемую лекарством, закурил – в письменном столе завалялась пачка слабеньких, пересохших сигарет «БТ»... Да и какое могло быть сходство между этими кретинами и его сыном!.. Федоров сидел за столом, тяжело навалясь на руку подбородком, глядя на черное оконное стекло с размытым ламповым бликом посредине. Ему не было нужды оборачиваться, чтобы представить ряды книжных полок вдоль стен, шеренги подписных изданий, разрозненные, тронутые ржавчиной томики, отпечатанные на усталой, ломкой бумаге, среди которых было немало сохранившихся чудом отцовских. Здесь были новые книги, в пижонистых, отглянцованных суперобложках, были редчайшие, по счастливому случаю купленные в букинистических магазинах... Разве не этим воздухом дышал Виктор с детских лет? Не здесь ли, сидя у него на коленях, лепетал, преданно блестя серьезными карими глазами: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет»?.. Разве не здесь он записывал на магнитофон (и пленка наверняка сохранилась, можно разыскать!) тоненький, смешной, напряженный до предела мальчишеский голосок: «Гренада, Гренада, Гренада моя!..» Не здесь ли разыгрывались шумные баталии – Витька, изображая Дон-Кихота, напяливал на голову кастрюльку («шлем Момбрина!»), вооружался пикой – палкой от половой щетки, он же, Федоров, размахивал руками, представлял ветряную мельницу... И не отсюда ли, когда у Федоровых собирались многочисленные друзья, Витьку бывало не выгнать во двор: слушал в уголочке, подтягивал, а иной раз и подсказывал слова, особенно если запевали про «яростных и непокорных», про последний троллейбус, и про то, что «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага...» Разве все это могло быть напрасно, зря?.. Пушкин и Дон-Кихот?.. Или Чайковский, Шопен – к ним с малых лет приучала Татьяна сына, играла сама, собирала пластинки?.. И долго в семье держалась традиция – читать вслух, сменяя друг друга, любимые книги: при этом гасили свет, зажигали свечу – и ее живое, приканчивающее пламя еще теснее соединяло всех троих, а когда Ленка подросла, то и четверых. Правда, потом случалось Федорову ловить на себе во время такого чтения снисходительный, охлаждающий взгляд Виктора, с усмешкой следившего за чрезмерно воспламененным отцом из-под светлой, углом нависающей надо лбом челки... Все равно! Здесь каждая книга была кладезем добра, храмом мысли, здесь звучал Бетховен – «Лунная», «Патетическая»,– кто из тех ублюдков знал, что это такое? Кто слушал их, не дыша, прикрыв глаза?..
А Виктор, было время, ставил их записи беспрерывно, и еще – «Болеро» Равеля, «Чакону» Баха...
8
Он не мог...– Так думал Федоров, гася сигарету.– Но Галина... Скорее всего, это и вправду дрянная девчонка...– Он прошел по кабинету, снял с одного из перегруженных стеллажей книгу, открыл на закладке. Там был отчеркнут абзац:
«Комендант Яновского лагеря, оберштурмфюрер Вильгауз, ради спорта и удовольствия жены и дочери, систематически стрелял из автомата с балкона канцелярии лагеря в заключенных, работавших в мастерских, потом передавал автомат своей жене, и она также стреляла. Иногда, чтобы доставить удовольствие своей девятилетней дочери, Вильгауз заставлял подбрасывать в воздух двух четырехлетних детей и стрелял в них. Дочь аплодировала и кричала: «Папа, еще, папа, еще!»,—и он стрелял».
Федоров многое мог понять, объяснить для себя в чудовищных фактах, наполняющих семь пепельно-серых томов «Нюрнбергского процесса». Или если не объяснить, то хотя бы сделать допущения вроде тех, к которым приходится прибегать, вопреки здравому смыслу, признавая возможность существования н-мерного пространства. Но «феномен Вильгауза»... Какое «допущение» требовалось здесь? Ведь его невозможно мотивировать ни приказом свыше, ни, к примеру, желанием выслужиться или, положим, спасти свою жизнь. Эти мотивировки начисто отпадали. Напротив! Как раз следуя человеческой логике, «феномен Вильгауза» невозможно объяснить!
Ведь это неверно, будто фашисты, придя к власти, чуть ли не всю немецкую литературу спалили на кострах. Другое дело, что лицевали они ее на свой, Геббельсовский лад, но Гете и Шиллер... Они, понятно, тут ни при чем, старики Гете и Шиллер, но в праве гражданства «тысячелетний рейх» им не отказывал. И Бетховен... Он, Вильгауз, вполне возможно, обожал Бетховена. И потом – Вильгаузу было не меньше, чем 30—35 лет, судя по должности, то есть, выходит, он еще в догитлеровской Германии закончил гимназию, а там учили на совесть, он и Гете, и Шиллера затвердил назубок, он их стихи учителю на память барабанил, а впоследствии дочке читал, как же без этого. И жена у него, вероятно, была и молода, и хороша собой, не зря он прихватил ее в Россию, значит – любил, а девять лет назад, когда она рожала, он, может, ночь не спал, под окнами родильного дома вышагивал, мучился, представляя, как его Лоттхен или Ленхен рот раздирает от боли, губы кусает в кровь; он, может, вначале о мальчике думал, все мечтают о мальчике, а потом решил – пускай девочка, только чтоб она родила, и выжила, и вернулась... Да, все они и носок на парадах тянули, и руку вскидывали, и «Хайль!» орали, но как же без этого – без шагания вдоль родильного дома, без потеющих от страха ладоней, без букета цветов закутанной в белое сестре, без ночных тревог – то ли свинка, то ли ветрянка, температура, сыпь на животике, что скажет герр доктор?..– и без стихов Гете и Шиллера, которые и тебе читали в детстве, а теперь ты сам читаешь нежному, хрупкому, пухлому существу, которое сидит у тебя на коленях и бантом, повязанным на голове, щекочет твой подбородок...
Но как же... Как при этом не почувствовать – вопреки «Восточной доктрине» фюрера, вопреки теории о «чистоте расы», вопреки всяческой дичи, усердно вколачиваемой в головы,– что у тех, которые внизу, под балконом, все было, как у тебя: и разодранный от родовых страданий рот, и стихи – тоже, возможно, Гете И Шиллера, и бант, щекочущий подбородок... Но если так... То как же он мог?.. Приказывать?.. Стрелять? И слышать это «папа, еще, еще!..»
Но это было, было!..
9
Но если это было, и было у Ромма в «Обыкновенном фашизме», как молодой солдат с веселой улыбкой на щекастом лице толкает в ров женщину с прижатым к груди младенцем, и были фотографии, которые они обнаружили, взяв «языка» под Смоленском, и на них —трупы, трупы, трупы, то подвешенные за ноги, то уложенные шпалами в ряд, то разрываемые овчарками, а «язык» был вполне благодушный немец, с брюшком, из штабистов, и фотографии носил в кармане для собственного удовольствия, не по чьему-то приказу,– это потом, и Нюрнберге, все охочи были ссылаться на чьи-нибудь «приказы»,– если все это так, и все это было, тогда почему «Человек – это звучит гордо»?.. Это звучит ничуть не более и не менее гордо, чем горилла или волк, или крокодил, или мокрица... И тогда не должно ужасать как противоречащее человеческой сути, распоряжение Трумена – стереть с земли Хиросиму и Нагасаки, сто, двести тысяч, миллион людей, которых он и в глаза не видел! Напротив – тогда естественно, что цвет человечества, его элита, его мощь и разум в гениальных своих озарениях открывает новые и новые способы – эффективно, быстро, дешево умерщвлять миллионы, миллиарды живущих!.. Это так же естественно, как в промежутках между озарениями размяться где-нибудь на теннисном корте, или позабавиться с женщиной, или вспомнить, умиляясь, свое детство, играя с румяным малышом, дочкой или сыном... Обо всем этом Федоров думал раньше. Сейчас он только раскрыл и захлопнул книгу, не перечитывая сызнова знакомый абзац.
10
«Ну, а если подойти с другой стороны?.. Если взять общеизвестные факты – и сопоставить?.. Скажем, сколько времени существует на Земле жизнь? Примерно 3 миллиарда лет. А млекопитающие? Пример но 160—170 миллионов лет. А человек? 1 миллион лет. Если отложить отрезок длиной 160—170 сантиметров, то все существование человека – гомо сапиепс – займет на нем 1 сантиметр.
Что же такое по времени человеческая цивилизация? Самое большее – 6 тысяч лет (начиная с древнейших поселений в Двуречье и первых оросительных сооружений в долине Нила). То есть выходит, что по отношению к истории «человека разумного» это – 6 миллиметров на отрезке в 1 метр.
Даже на сантиметр – какие-то шесть миллиметров! И на этом жалком отрезочке – шириной в ноготь – умещаются все грандиознейшие создания человеческого духа: Гильгамеш, индийские «Веды», Библия, Гомер, «Божественная комедия», Пушкин... Тонкая, тончайшая нефтяная пленка – над океанской толщей, если разуметь под нею миллионы, десятки миллионов лет, миллиарды лет до-человеческого бытия!
Чего же хотеть?..
Или, если угодно, можно представить себе башню, гигантскую башню в 160—170 метров высотой – и отмеренные у основания 6 миллиметров! Вот соотношение между эпохой жизни млекопитающих и жизни цивилизованного человеческого общества. Или – того грандиозней, тут нужна уже невероятная фантазия – можно попытаться вообразить башню в три километра – все существование земной жизни – и те же ничтожные шесть миллиметров...
Шесть, только шесть/.. Много это или мало?..
Много – во всяком случае достаточно, чтобы изобрести колесо, холодильник, синхрофазотрон, сложить пирамиды в Египте, построить Реймский собор и церковь Покрова-на-Нерли, засеять небо спутниками, отправить ракетные корабли к Венере и Марсу. И – мало, бесконечно мало, чтобы преодолеть то, что копилось, бурлило миллионы, миллиарды лет, захлестывало живую плоть и владело ею: дикие инстинкты, ярость, жажду крови, убийства, похоть, желание первенствовать, покорять, обладать.
Для этого мало шести тысячелетий...
Чтобы это понять, почувствовать, не нужен Фрейд. Прошлое и настоящее человечества – не лучшее ли доказательство тому?..
Жестокость!.. Не ее ли вынес человек из сырого мрака первобытных времен, из гущи непроницаемых для солнца джунглей? Не ее ли унаследовал от дальних предков – вместе с клыками, волосяным покровом и жаждой совокуплений?..
И не здесь ли кроется причина причин?..
Когда мне доводится слышать пылкие, умиленно произносимые слова – о попираемом цивилизацией естестве, о природе, о природном начале, изничтожаемом человеком, мне становится смешно или – смотря по обстоятельствам – грустно. И не только потому, что подобный треп чаще всего занимает людей, которые, благоговея перед первозданной природой, пуще всего боятся ливней, гроз, зимней стужи, летнего зноя, землетрясений, морских штормов, то есть именно столь ими оплакиваемой природы, и не могут жить без батарей центрального отопления, газовой плиты, телевизора и электрической кофемолки. Не в том дело! А в том, что несмотря па Реймский собор и ракеты, летящие к Венере и Марсу, естество, вынесенное человеком из джунглей, продолжает в нем жить, жаждать крови, насилия и господства!.. Оно смиряется и помалкивает., это жестокое, по-звериному хитрое естество, пока ему обеспечены покой и сытость... Если оке нет... Тогда оно предстает во всей красе!..
...И пылают костры, сочиняются доносы, вчерашние слесари, учителя, землепашцы надевают защитного цвета шинели и спешат навстречу друг другу чтобы – убивать,
убивать, убивать! Культура, цивилизация, история шести тысячелетий с ее уроками, заповедями, пророчествами философов и поэтов уподобляется тонкой шелковинке, которой не удержать разъяренного косматого зверя...
Вот они, ваша «природа», ваше «естество»!..
Не культура, не цивилизация, не разум человеческий опасны, вопреки воплям Ницше, и не их переизбыток – скорее их недостаток! Их малое до сих пор количество – в расчете на каждого и на всех вместе!..
Вот где причина причин...»
(Из архива Федорова).







