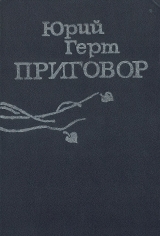
Текст книги "Приговор"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
НОЧЬ ТРЕТЬЯ
1
Что было делать дальше?.. Куда идти?.. Зачем?..
...Перед Федоровыми расступались, давая дорогу,– сначала в зале, потом в коридоре, потом на лестнице, и при этом, казалось, не столько расступались, сколько сторонились, торопливо спешили отпрянуть в сторону, дорожка получалась широкой, значительно шире, чем нужно, чтобы пройти двоим, и они шли между молчащими, оглушенными тем, что случилось, людьми, шли – не как обычно, она чуть впереди, а он приотстав на ладонь или две, поддерживая ее под локоть,– на этот раз впереди шел он, ступая какими-то деревянными, негнущимися ногами, с нелепой, деревянной улыбкой на лице, а она – слегка приотстав, придерживая его за локоть и словно подталкивая в нужном направлении, указывая путь.
На улице было пекло, тяжелый, сгустившийся к вечеру зной заливал город. Все плыло, плавилось – асфальт, клумба с засохшими цветами, окрестные здания, дорога. Они спустились по ступенькам крыльца, и тут Федоров подумал: куда же они идут?.. И что дальше?.. Но Татьяна вела его – в ней проснулась какая-то крепкая, упругая сила – вела уверенно, сам же себе он представился вдруг чем-то вроде старой детской игрушки – бычка, бредущего, покачиваясь, вниз по дощечке. Он усмехнулся при этом сравнении, и Татьяна искоса бросила на него испуганный взгляд: откуда ей было знать, чем вызвана его усмешка?..
Сергей стоял в полусотне шагов от нарсуда, в заросшем пыльными лопухами закоулке. Он уже их увидел и распахнул заднюю дверцу. Федоров посторонился, пропустил жену, потом втиснулся в перегретое нутро машины сам.
– Куда едем, Алексей Макарович?..– осторожно спросил Сергей, заглянув в зеркальце, укрепленное над лобовым стеклом.
– Прямо,– махнул рукой Федоров.
Ему и думать сейчас почему-то страшно было о том, чтобы возвращаться домой, в коробку из четырех стен...
Пожалуй, Татьяне – тоже.
Сергей ни о чем больше не спрашивал. Уже на ходу он опустил до отказа все стекла и вскоре из лабиринта кривых и узких окраинных улиц вывел машину на прямой, простреливающий город насквозь тракт. Ветер, свежея с каждой минутой, ударил в окна и закрутился внутри «Волги» смерчем. Навстречу мчались сомлевшие на солнце тополя, по сторонам дороги маслянисто блестели темно-зеленые заросли кукурузы. Федоров рванул с шеи галстук, отодрал вместе с отскочившей куда-то под ноги пуговицей прилипший к потной груди ворот рубашки... Все равно воздуха не хватало, дышать было нечем.
2
За что?..– думал он.– За что?..
Он и краешком разума в бога не верил. Но в душе, в потаенной глубине ее, там, где копошатся неподвластиые сознанию инстинкты, где рождаются, как первобытная плазма, эмбрионы надежды, ненависти, любви, у него всегда жило чувство, неистребимая ничем уверенность в том, что в основе мира существует гармония, которую трудно постичь и объяснить, и вместе с гармонией – равновесие, прочная связь причин и следствий, и какая-то далекая, неясная, но несомненно светлая и возвышенная цель, ради которой мы живем – каждый порознь и все вместе.
Он в это верил не размышляя, это как бы разумелось само собой.
И оттого, должно быть, он задавал себе теперь этот не имевший смысла вопрос:
– За что?..
Он твердил, повторял его и видел перед собой бледное до синевы, до голубых жилок на висках лицо Виктора, его глаза, горящие сухим, горячечным блеском, слышал тонкий, ломающийся голос:
– Как убил?.. А – расческой. Расчесочкой!.. Там, в допросе моем, на следствии, все записано!..
Губы его дергались, кривились в конвульсивной усмешке... Он рассказывал, ничего не скрывая, не ретушируя, напротив – как будто даже смакуя подробности, наслаждаясь эффектом, который производили его слова на растерянный, потрясенный зал. Он все описал шаг за шагом – вплоть до того, как, вернувшись домой, сел с матерью и сестрой смотреть телевизор...
...В тот вечер, помнил Федоров, он работал у себя в кабинете, работал с увлечением, ему не мешали даже обычно раздражавшие эстрадные вопли из соседней комнаты...
...За что?– колотилось у него в голове.– За что?..
3
Татьяна сидела каменно-недвижимая, глядя в окно. Впрочем, вряд ли там, за окном, она что-нибудь видела... Федоров же сообразил вдруг, что едут они по тому самому шоссе, по которому ехал он после допроса у Чижова, и скоро – кладбище, а на нем – дощатая временная пирамидка... Он так живо представил себе эту пирамидку с прикрепленным к ней дюралевым винтом и с обеих сторон – по кусту сирени... Внезапно мелькнуло: как они там, эти кусты, – принялись, не засохли?.. Стрепетова с утра до вечера в суде, кто их поливает?.. За этой нечаянной, нелепой, особенно сейчас, мыслью потянулась другая: он увидел перед собой Нину, но не ту, которую встречал ежедневно, с прозрачно-восковым, затвердевшим лицом, и сжатыми в нитку губами, а ту, которая, присев на корточки, рыхлила землю ножом. «Это мне наказание...» – послышалось ему. И потом: «Наказания без вины не бывает...»
Да, так: наказания без вины не бывает...
Какую же вину сочинила себе она? Вроде какой-то бабий грех за нею был. Грешок... А он? У него что за вина? Перед кем?..
Он прищурился, вгляделся – впереди уже белела невысокая длинная стена. Федорова обдало жаром, потом холодом. Он отвел глаза. Положил на плечо Сергею ладонь:
– Гони обратно, в город... Домой.
Сергей понятливо – так ему показалось – кивнул и, пригасив скорость, развернул машину.
4
Все вещи, мебель в квартире были как бы немного смещены, сдвинуты с привычных мест. Похожее ощущение возникает после долгой отлучки... Федоров именно что почувствовал, перешагнув порог: словно вернулся из путешествия, которое слишком затянулось. Все здесь было и так, и не так, как раньше. Как было сегодня утром, когда он вышел отсюда, прихватив пачку нераспечатанных писем, надеясь прочесть их по дороге... И сейчас на столе перед ним лежали конверты из утренней почты. Но казалось, не ему они адресованы. Чужие, чужие письма. Откуда взялись они у него на столе?.. Неизменная, чиненная-перечиненная «Эрика», прикрытая сверху куском полотна с вышитым в уголке васильком, Ленкина работа... Неужто это его «Эрика», и это он просиживал за нею часами, стуча по старомодным, с металлическим ободочком, клавишам?.. Он опустился в кресло, откинулся на спинку. Солнце садилось, на стене косо лежал его луч, похожий на кровавый мазок.
Федоров закрыл глаза. И как если бы сызнова он очутился в том потрясенном, онемевшем зале, у него в ушах звенел, клокотал голос Виктора:
– Зачем?.. Да уж не ради трояка или пятерки! Может, мы себя испытать решили?.. Это на уроках и в книгах для младшего возраста, говорится: добрые, честные... Лажа все это!.. А если без балды, так – не добрые и не честные, а просто – трусы!.. А мы так не хотим... Мы себя испытать хотели: кто ты – человек или мразь?..
И это говорил Витька, Витюха, его сын?..
Он сидел, уперев локти в стол, обхватив голову руками. Не хотел смотреть – и смотрел сквозь пальцы, как расплывается по стене, ползет вширь набухшее кровью пятно.
5
Зазвонил телефон. Привычный, многократно повторявшийся ежедневно звук... Но Федоров почему-то вздрогнул, перед глазами, вслед за звонком, взорвались, заметались белые молнии. Он потянулся к трубке, но задержал руку, дожидаясь, не оборвутся ли бегущие вдогонку один за другим долгие, настойчивые звонки... Не дождался. Поднял. Выдавил: «Слушаю...»
– Алексей Макарович?.. Это Конкин.
Конкин, Конкин... Перед Федоровым на секунду возникла мускулистая, плотная фигурка на волейбольной; площадке, вспомнилось, как они сидели на скамейке, Конкин говорил: «Надо любить детей... В этом весь секрет...»
– Слушаю,– глухо повторил Федоров.
– Я на одну минуту, Алексей Макарович, знаю – не вовремя... И все же решил, побеспокоить.
– Да нет,– сказал Федоров.– Отчего же...– Одной рукой он придерживал трубку, другой с хрустом ломал, заложив между пальцами, граненый карандаш.
– Тут я подумал, и со мной педагоги наши согласны,– мы сейчас дома у меня собрались... Так вот, я подумал: если все это правда, о чем сказал Виктор... Если даже и правда, то все равно... Тот Виктор, который признался, это уже не тот, который... Который, понимаете, был в тот день... В тот вечер, третьего марта... Понимаете?
– Не вполне,– сказал Федоров.
Мысли его рванулись куда-то вразброд. Что он такое лопочет?..– подумал он о Конкине.
– Я в том смысле,– с терпеливой, размеренной интонацией, словно разъясняя непонятливому ученику, продолжал Конкин,– что в душе у Виктора происходят какие-то глубинные процессы, он сам изменился за это время – и уже не тот, каким был. Иначе с чего бы ему признаваться, понимаете?.. И я не знаю, как для суда... То есть я уверен, что это и для суда важно, но еще важнее – для нас с вами! И когда я об этом подумал, то решил вам позвонить... Поскольку... Да что там – все и так понятно.
– Да, понятно,– повторил Федоров, как эхо.– Спасибо.– И положил трубку первым.
Это чувство зародилось у него самого – еще в зале суда... Он только не сформулировал его – даже для себя, не то чтобы кому-то высказывать. Тем более, что, защищая Виктора, он как бы и сам защищался. Но не только поэтому. Признание – да, но раскаяние?.. До него было тут далеко. Раскаянием пока и не пахло...
– Здесь каратэ интересовались – как да что, и не чесались ли у нас руки, чтобы применить его не только в спортзале... Да, чесались! Потому что каратэ – борьба честная, без вранья, не то что в жизни!.. Вот здесь мой отец. Он не хуже, может – лучше других. И совесть у него во всем чиста. Я на его белейшей, незапятнанной совести первая клякса!..– Федоров заставил себя поднять глаза на Виктора, веки его, казалось, весили тысячу тону. По Виктор не смотрел на отца – его лихорадочный взгляд мотался по залу.– Он все пороки обличает. По телевизору. Или в газете. В Солнечном, например, люди отравленным воздухом дышат, а у него совесть спокойна – он статейку про это написал, обличил. А надо будет – еще напишет... Только что от этого изменится? Все как было, так и останется! Зато совесть – как горный снег!..
Его было не унять, как ни пытался председательствующий. Но, видно, и сам Курдаков не сразу пришел в себя, и в эти три-четыре минуты общей растерянности Виктор успел выпалить все, что ему хотелось. Наконец судья восстановил порядок.
– А если к делу ближе?– сказал он.– Расскажите подробней, как вы убили Стрепетова. И не забывайте, здесь не вы судите, а вас судят!
– Еще не известно, кто – кого!..– выкрикнул Виктор.
...И после этого толковать, будто какие-то «глубинные процессы» в нем происходят, в его душе?.. Будто он – «не тот, каким был третьего марта»?..
6
– Он совершенный дурак, твой Конкин!..– В кабинет порвалась Татьяна, и было в эту минуту в ее багровом от гнева лице что-то такое, что напоминало лицо Виктора, когда он в запале и неистовстве выкрикнул «кто – кого!»– Ты прости, но я по параллельному телефону слышала, о чем он болтал!.. Нашел, когда и кому звонить!..– Она не села – упала, рухнула в кресло. – Боже, и такой человек школой руководил, детей воспитывал!..
– Ну, это ты зря,– поморщился Федоров.– Может, он и не Макаренко, не Сухомлинский, но...
– Что – «но»?.. Что – «но»?..—Татьяна в сердцах ударила по ручке кресла.– Ведь все. что прокурор говорила – правда!.. Девочки в школе не должны носить украшений, золотых сережек! В школе – не сметь, а за ее дверями – пожалуйста! Мальчики... Пускай водку пьют, в карты играют – лишь бы не в классе! «Честь школы», «честь коллектива»... Игру себе выдумал – и до сих пор и нее играет! Хотя давно пора бы уже понять, до чего доигрался!..
– Как будто ты знаешь, какой существует выход,– сумрачно проговорил Федоров,– Какой выход, какая должна быть современная школа... Сама-то из школы ушла, в библиотекари подалась, там потише. Да и я, – прибавил он, помолчав,– я ведь тоже как-никак пединститут кончал. А теперь – «Конкин, Конкин...» Чего уж валить на Конкина...
За окном смеркалось, но духота, стоявшая в городе весь день, не проходила. И воздух с улицы, вливаясь в раскрытое окно, приносил с собой не прохладу, а жар. Они сидели, не включая света. Федоров чувствовал, как намокает потом рубашка, липнет к шее, плечам. Сердце щемило, будто на нем лежала тяжеловесная каменная плита.
– Не знаю,– сказала Татьяна.– Может, ты и прав.– Она тихо вздохнула.– Это мы... Это я, дура, его растила – для чего, для какой жизни?.. Только не для этой...– Она сидела опершись на руку щекой, лицом к окну,– Чем я лучше Конкина?.. Сама жила в каком-то искусственном, придуманном мире, так меня воспитали – музыка, стихи, кружевные воротнички... Мама учила меня танцевать, здороваться, делать книксен. «Девушка,– так она говорила,– должна быть похожа на белую хризантему, и пахнуть от нее должно хризантемами...» Но мне повезло, я столкнулась с настоящей жизнью, когда ты был со мной. И я устояла – не сделалась циничной, не отчаялась... Все из-за тебя. Но уроки-то, уроки должна была я извлечь?.. Ничего подобного... Я учила его добру, справедливости, честности, то есть тому, чему и меня учили. И он... Бедный мальчик, он растерялся. Он сравнивал книги, сравнивал принципы, которые нам дороги, и – жизнь... И чем больше сравнивал, тем больше терялся. Понимаешь?.. Мне самой многое сделалось ясно слишком поздно. Когда между нами уже был ров. Я искала мостика, сама пыталась его перебросить. Но у него уже не было желания перебираться на нашу сторону. Все здесь казалось ему фальшью, позерством...
Она говорила и обращаясь к Федорову, и не замечая его. И так же, как у Конкина, он чувствовал в ее словах какую-то частицу, толику истины, но не всю, не всю...
– И знаешь, иногда мне кажется, что я начинаю понимать... Понимать, почему... Почему он это сделал.– Она с трудом, как бы на ощупь, искала слова.– В какой-то момент... Нет, это не момент был, а время, и долгое, наверное, время... Когда он чувствовал себя беспомощным, слабым – среди своих же сверстников... И ему захотелось утвердить себя, доказать другим... Не знаю, что доказать, что таким способом доказывают, но знаю, что именно так – доказать, утвердиться... И кому-то—и, главное, себе доказать. И тут – чем жестче, бессмысленней, дерзостней, тем лучше! Понимаешь?.. А заодно – доказать, что у него нет, не осталось ничего общего с нормами, правилами, которые мы ему внушали, и которые сделались ему ненавистны, противны. То есть—потребовалось перешагнуть через них, переступить...
Сумерки ползли по комнате, кучились по углам. В них тонули уставленные книгами стеллажи. Лишь окно, по-прежнему дышавшее горячей духотой, выделялось бледным, четко очерченным пятном.
Татьяне и самой, наверное, сделалось страшно от собственных слов. Она передернула плечами, Федоров тоже почувствовал, как зябкие мурашки пробежали у него ниже затылка, между лопатками.
– Ты все хорошо разобрала,– сказал он.– По полочкам разложила... Только ты ответь... Ведь в конце концов ничего в этом нового нет, об этом еще Гончаров писал в «Обыкновенной истории», то есть о том, что неизбежно приходит пора, когда юношеский романтизм изживает себя, мальчик мужает... Это так же необходимо, как то, чтобы девушка перед тем, как сделаться матерью, превратилась в женщину... Но вот закавыка: почему же не все... Далеко не все при этом... убивают?
Когда он сообразил, какая жестокость заключалась в его вопросе, было поздно... Он выбрался из-за стола и подошел к Татьяне. Она плакала, уткнувшись в подлокотник, вся сотрясаясь от бурных, неудержимо хлынувших рыданий. Он гладил, гладил ее по шелковистым волосам, которые так любил... Что мог он еще сделать?.. Или сказать?..
Он сам вскипятил чай, поставил на стол масленку, плетеную тарелочку с хлебом. Но когда привел Татьяну на кухню, зазвонил телефон – второй аппарат был здесь, на холодильнике. И снова он поднял трубку не сразу, как бы чего-то опасаясь... Хотя чего было ему опасаться – теперь-то?
– Алексей Макарович?..– услышал он мужской, вибрирующий от радости голос.– Алексей Макарович, поздравляю! И себя, и вас, и всех – поздравляю с победой!..
Голос был – так показалось Федорову – с другой планеты.
– Кто это?..
– Курганский, из Солнечного!– Интонация была по-прежнему веселой и слегка укоризненной.
Теперь он вспомнил: маленький, почти квадратный крепыш в белом врачебном халате, развевающемся на бегу. Волосы, когда-то густые, темные, были уже сивыми, на большой круглой голове – обширная плешь, но в карих глазах, в порывистых жестах и не соответствующей возрасту резвости заключалось что-то мальчишеское, и мальчишеской была не знающая границ фантазия – особенно когда он говорил о своем бароцентре, о том, что будь у них средства, они бы – ну, не Москву, не Киев, но уж Чимкент с его знаменитым бароцентром перегнали бы непременно... Было в Курганском нечто, помимо роста и коренастости, сближавшее его с Конкиным,– то, чем Федоров чуть снисходительно любовался и чему в душе завидовал...
Но звонок его сейчас был до того неуместен... Татьяна сидела перед пустой чашкой, в которую Федоров так и не успел плеснуть заварки,– в одной руке он держал трубку, в другой – заварочный чайник.
– Слушаю вас, Зиновий Яковлевич,– силясь придать своему тону приветливость, сказал Федоров.
– ...Абрамович! – поправил Курганский,– Абрамович! Но это не важно! Не важно, дорогой Алексей Макарович! А важно, что вы нам так помогли... Я только что с совещания в исполкоме, и сразу – дай, думаю, позвоню, пускай и Алексей Макарович порадуется! Вы ведь знаете, что на меня, на всех нас после первой вашей статьи обрушилось: «жалобщики», «кляузники». Мало того, хотели крохотный наш бароцентр – и тот закрыть, как слишком дорогостоящий для городского бюджета!.. Зато, Алексей Макарович, последним своим выступлением в газете вы их, так сказать, уработали! Почуяли, что даром этого им не спустят!..
Курганский все это выпалил единым духом.
– И потом?..– перебил Федоров.
– Потом?..
Так же взахлеб Курганский рассказал, что сегодня состоялось совещание, с приглашением директоров крупнейших предприятий города, и на нем постановили – общими силами создать мощный общегородской бароцентр. Правда, не Курганскому предложено его возглавить, но это дело десятое, главное – своего они добились, они и он, Алексей Макарович, без него-то уж, ясно, ничего бы не вышло...
– Не преувеличивайте,– сказал Федоров.—Не будь вас и вашей дружинушки хороброй...– Он смотрел на Татьяну, на ложечку, по-прежнему звенькавшую в ее пальцах, и был как разрубленный пополам – одна половина тянулась к ней, другая – к трубке.– Только вы понимаете лучше меня, бароцентр – это полдела, четверть дела. Главное – воздух, которым мы дышим...
– Мы будем бороться, Алексей Макарович! Будем бороться! А пока – спасибо, что вы помогли...
«Мне бы кто помог»,– мелькнуло в голове у Федорова.
Он разлил чай, пододвинул к Татьяне тарелочку с печеньем, распахнул вторую, прикрытую до того створку окна. «Воздух, которым мы дышим...» Воздуха не было. Горячая пустота заполняла пространство вокруг. Этой пустотой наполнялись жадно дышавшие легкие, сердце частило, буксовало... Федоров, поглаживая левую сторону груди, принялся пересказывать Курганского.
– Господи, и это теперь, когда нужно думать...– не договорив, вздохнула Таня.
Она была права, тысячу раз права... И все же несмотря ни на что звонок Курганского был для него важен. Благодаря пережитому в эти дни – особенно...
Молча, не перекинувшись больше ни словом, допили они чай. Печенье осталось нетронутым. Оба не помнили, ели они сегодня или нет. Как бы то ни было, есть не хотелось, даже мысль о еде вызывала тошноту.
Потом он ополоснул под краном две чашки, блюдечки... Он стоял к ней спиной, вытирая их полотенцем, когда она сказала:
– Знаешь, я ведь догадывалась. С той минуты, когда он пришел домой, сел к телевизору... На нем лица не было. То есть я не знала, что и как... Но знала: случилось что-то страшное. А когда приехала милиция...
Она тяжело вздохнула, как охнула.
– А я нет,– Федоров покончил с посудой и присел напротив. Он вытянул из пачки сигарету и раскатывал, раскатывал между пальцами, не зажигая.– Мне, знаешь ли, до сих пор не верится. И я не удивился бы, окажись все это ошибкой. Не верю, не могу поверить...
8
Эти несколько мгновений, несколько непроизвольно вырвавшихся фраз внезапно сблизили их, вернули друг другу, сломав отчуждение, прочной скорлупой окружавшее каждого в эти недели. Так бывало в прошлом, когда любое взаимное недовольство, любая ссора обрывалась сама собой, если заболевал кто-нибудь из детей, Витька или Леночка, и все, все казалось чепухой, и тяжкая обида – пуховым перышком – перед злым, беспощадным блеском столбика ртути в градуснике, перед ожиданием: что скажет доктор...
– Дня за два до суда мне в райком заглянуть понадобилось, к первому. Захожу, а там Хохлакова, из отдела пропаганды. «Мы, говорит, хотим ваш вопрос на бюро поставить, чтобы вы рассказали нам, товарищ Федоров, как вы своего сына воспитали...» А в глазах торжество: ага, и ты, мол, гусь лапчатый, попался... Ну, я, разумеется, напомнил – и про презумпцию невиновности, и про то, что суда еще не было, и я уверен... Я ведь и правда уверен был, понимаешь...
– А я – нет. Не верилось мне, что добром это кончится...
Они помолчали.
– Но жестокость!..– выкрикнул вдруг Федоров и громыхнул кулаком но столу.– Жестокость откуда такая?..– Он вонзился в Татьяну глазами, будто она во всем была виновата,– Ведь убить... В драке – убить, когда баш – на баш... На фронте – убить, впервые особенно... Слышала ты, чтоб я об этом рассказывал?.. И ни от кого про такое не услышишь! Обойдут сторонкой, пустячок какой-нибудь распишут, а про это ни-ни, потому что и вспомнить – жутко, как ты первого, самого первого человека... Пускай он хоть солдат, хоть фашист, все равно... Вспомнить – и то мутит, с души воротит!.. А тут – ни за что ни про что... Да после этого – сквозь землю! А не речи произносить, весь белый свет обличать... Вот я чего в толк взять не могу! Не-мо-гу!.,– Он на каждом слоге стучал себя по лбу, взгляд его загнанно метался по кухне – потрясенный, беспомощный.– Откуда это?..
Татьяна как от холода вздрогнула, передернула плечами. Не ответила. Да он и не ждал ответа.
– Ты говорила... Ты хорошо, верно все говорила – о жестокости, которая всюду в мире... Но знаешь, что я думал, пока тебя слушал?.. Что мы сами, в первую голову – я, во всем виноваты. – Где-то внизу во всю мочь рванулась поп-музыка, козлиным дисканточком взвыл молодой истеричный голос.– Ребров прав – распустили!.. Маги, джинсы, японские кассеты – а нужен ремень! И почаще!..
– Личность, индивидуальность – а ей от горшка полвершка, личности этой! Сопляки!.. Сечь сукиных сынов! Пороть, как в старину парывали! Чтобы усвоили – это можно, а это нельзя!.. Только-только из обезьяньего стада выбрались, цивилизация, культура – тонкая пленка, тоньше кожи, под нею – косматый зверь, а ему – Шекспира в руки, не в руки – в лапы! Да у него при запахе крови ноздри раздуваются, ему по деревьям скакать, по сто раз на день с самками спариваться – вот он как свободу понимает, он и Шекспира со всех сторон обнюхает, языком лизнет, страницу-другую выдернет, а на ветке банан или кокос увидит – и про Шекспира забудет!.. Но добро бы – Шекспир, так ведь ему, существу этому, которое где-то промеж человеком и гориллой заплуталось, автоматы суют, бомбы атомные, компьютеры! Десять заповедей сначала надо заставить выучить! И соблюдать научить! А выходит – не мы их, а они нас к себе в стадо волокут, где всякие «левис» и «грюндиги» превыше всего святого ценятся – а если так, то и жизнь человеческая – что она?.. Тьфу! Клопа раздавить, таракана ли, человека – один черт!.. Что-то перевернулось вверх тормашками,– того, что мужику простому было испокон века известно, педагоги наши не знают, мы сами – забыли! Фрейда справа налево прочли – и решили, что истину постигли! Черта лысого!.. Дикость! Одичание всеобщее! А расплачиваются все – и люди, и сами дикари!.. Вот тебе и причина, почему не разум, не совесть, а жестокость миром правит!.. Ты ведь об этом говорила?.. А она – правит... И весь прогресс мы только и знаем измерять количеством стали, электричества, количеством каких-нибудь сверхсовременных, сверхэлектронных компьютеров, которые тут же и превращаются в элементарные дубины, в железные палицы!
– Видишь ли,– вяло возразила Татьяна,– Николаев как раз и пытался своего Глеба десяти заповедям обучать с помощью ремня...
– Значит – мало!.. Мало пытался!
Он стоял у окна, спиной к ней, раскинув руки, упершись в раму настежь распахнутого окна. Грудь его вздымалась и опадала. Он задыхался – от ярости, от боли, которая, пронизывая тело, не давала сделать полный глоток. Татьяна что-то нехотя ему возражала. Как будто далее в неистовстве ожесточения, которое накатило на Федорова, он сам не понимал, что городит чушь, что нельзя одолеть жестокость жестокостью же... И то, как Виктор сдергивал с Глеба брюки, чтобы показать поротую задницу,– это было у Федорова перед глазами...
9
Позвонили. Федоров чертыхнулся и пошел открывать. По пути в прихожую он завернул в ванную, пустил из; крана струю холодной воды, смочил шею, затылок. И не стал вытирать полотенцем – капли воды, слегка освежая, стекали по спине с тупо и непрестанно нывшей левой лопаткой, по разгоряченной груди...
Не спрашивая, он открыл дверь. За нею стояла Галина Рыбальченко. Он молча пропустил ее, захлопнул дверь и пошел следом за девушкой. Никто не пришел из всего класса, пришла она... С чем?.. Да ни с чем, конечно.... И однако ее приход тронул его, шевельнул в душе какую-то нелепую, невозможную надежду. Все эти дни он видел ее в судебном зале,– когда только она готовилась, сдавала экзамены?.. И с каждым днем, оттеняя темные, с еле заметной рыжинкой волосы, лицо ее становилось бледнее, суше и запавшие глаза блестели все пронзительней, воспаленней...
Именно таким – воспаленным – был взгляд ее карих, почти черных глаз, когда она села за кухонный столик: сюда, на кухню, привел ее Федоров, и она, не ожидая, пока пригласят, сама опустилась на табурет, на место, где обычно сидел Виктор. И было что-то автоматическое, сомнамбулическое почти в том, как она пододвинула к себе чашку с налитым Татьяной чаем, как поднесла ее к губам, коснулась края, отпила глоток... Казалось, она не понимала, где она, что делает, все совершалось помимо ее внутреннего участия.
Она допила чашку до половины и поставила на блюдце. Посидела молча, словно наяву досматривая какой-то тайный свой сон. И, как во сне, тихо сказала:
– Алексей Макарович, сделайте что-нибудь... Вы все можете.
Она это без всякой надежды, едва раскрывая губы, сказала. Будто ветер за окном голой веткой прошелестел.
– Это теперь-то? – сказал Федоров. – Когда он сам во всем признался?..
– Вы все сможете, – повторила она. – Если захотите.
Татьяна ни словом не отозвалась на ее слова, только пододвинула печенье к Галине поближе, и в этом ее жесте, и ее ускользающем взгляде и вздохе было нечто от женщины, чутьем понимавшей другую.
– Их можно купить, – сказала Галина. – Да, да, всех! – Голос ее теперь ожил. Она строго, хотя и без вызова, посмотрела на Федорова, на Татьяну, снова на Федорова. – И судью, и всех, всех... Или уговорить. Или приказать... Или сделать так, чтобы они боялись!..
В ее интонации была такая смесь убежденности и отчаяния, что Федоров накрыл ее руку, лежавшую на столе, своей ладонью, сжал ее пальцы, длинные, розовые,– казалось, видно, как по ним пульсирует кровь.
– Галя, милая...
– Чего – «милая», «милая»!.. Я ведь знаю, Алексей Макарович, что говорю!..– Она выдернула руку из-под его ладони.– Думаете, эта балда Савушкин,– это он сам?.. Это я у него была, я и сказала!..
– Ты?.. И что же?.. Что ты сказала?..
Татьяна тоже смотрела на девушку во все глаза – не то с удивлением, не то с испугом.
– То и сказала... Сказала, что ему надо говорить, если он жить хочет!
Федоров и Татьяна переглянулись. Он встал, прошелся по кухне, припоминая Савушкина, его лицо, интонацию...
– Постой,– он поскреб темя, запустил в сивые, клоками свисавшие волосы пятерню.– Постой, это как...
– Да вот так!– сказала она.– Вот так!.. А вы думали, он по доброй воле?..
Он не стал расспрашивать, что стоит за ее словами. Но по выражению тонко, в ножевое лезвие стиснутых губ, почувствовал ничем не остановимую решимость.
– Не знаю,– покачал Федоров головой,– но думаю, у него имелись другие причины, у Савушкина... Во всяком случае, не только та, о которой ты...
– Ах, да какая разница!..– вспыхнула Галина.– Теперь?.. Когда этот... Этот... Этот...– Она слов не находила, вскочив и при этом уронив с грохотом табуретку.– Все взять – и уничтожить! Все, все!..– Она подняла табурет, села.– Татьяна Андреевна, хоть вы... Вы поговорите с вашим мужем!..– Она ухватила Татьяну за руку.– Еще не поздно... Кого-нибудь подключить, нажать...
Глаза ее перебегали, метались затравленно – от одного к другому, в них была мольба.
Федоров молчал. Он сидел за столом ссутулясь, обхватив голову.
– Вы не хотите?.. Отказываетесь, Алексей Макарович?..
Федоров молчал.
Теперь обе смотрели на него, взгляды их слились. Федоров чувствовал их на себе, эти взгляды. Так, наверное, в иные минуты с истовой верой в чудо люди смотрели на икону... Но Федоров не был чудотворцем.
Они сидели обе напротив, и уже не Галина – Таня держала в своей руке, гладила ее тонкую, смуглую руку в нежном пушке. Но Галина отпрянула от нее, отдернула руку, и снова в лице ее появилось жестокое, беспощадное выражение:
– Значит, честного разыгрываете?.. Даже сейчас?.. Когда завтра должно решиться – жить вашему сыну или не жить?..
Федоров молчал. Он потянулся к пачке сигарет, закурил – казалось, единственно для того, чтобы в клубах сиреневато-белесого дыма спрятать лицо.
Дым жег, выедал глаза, Федоров морщился. Шел одиннадцатый час, за стеной раскатисто бухал телевизор.
– Галя, – сказал он, глядя прямо перед собой, в стол, в голубую, выстилающую его поверхность пластмассу, – Галя, не забывай: он убил человека...
Он снова затянулся. Он не выговорил – выдавил из себя эти слова. Он их прохрипел – и горло у него тут же. сдавило, как от спазма. Он глотнул из чашки остывший, на донышке, черный от осевших чаинок чай.
– Все равно! – вскочила Галина.– Он хороший! Он лучше вас всех! Он честный! Вот!..– слезы кипели у нее на глазах, она задыхалась.– И я поеду! Куда он, туда и я! – Она бросилась к двери – юбка веером распустилась, хлестнула ее по ногам.
– Эх, Галя, – вздохнул Федоров.– Он ведь не декабрист. Да и времена теперь другие.







