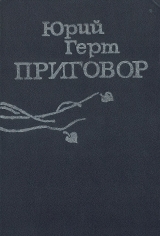
Текст книги "Приговор"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Принесли шашлык, дымящийся, ароматный, однако, хотя все были голодны, никто не накинулся на груду истекающего соком мяса.
– Вы правы и правы! Правы тысячу раз!..– возгласила Людмила Георгиевна, к ней снова вернулся ее громкий, как бы самой природой созданный для митингов и собраний голос.– Я требую, чтобы ребята читали «Войну и мир», но где им читать?.. Когда в кино их заманивают «Пираты XX века», по телику надрывается Алла Пугачева, на эстраде грохочет такая, с позволения сказать, музыка, будто никогда не было на свете ни Чайковского, ни Шопена! И что там школа, что там наши нравственные прописи, если что ни фильм, то постель, что ни постель, то бордель, и Татьяна Ларина, ясное дело,– дура, а любовь – это девок за сиськи, простите, лапать!..
– И между прочим,– подала голосок хорошенькая, похожая фигуркой на мальчика, Жанна Михайловна,– вы, журналисты, тоже во многом виноваты! Вы если и пишете об этом... То есть о том, что мы считаем пошлым, аморальным... То пишете так, что только аппетит разгорается. В том смысле, что запретный плод всегда слаще.
И, знаете, почему так получается? Потому что вы и сами не убеждены... Не вполне убеждены в том, что пишете!..
– М-м-м... А в этом что-то есть,– сказал Ребров, с явным удовольствием присматриваясь к нежному личику Жанны Михайловны.– Ведь не то что написать, подумать иной раз – и то боязно: чувствуешь себя каким-то пнем замшелым, становящимся поперек прогресса... Старым чучелом, которое и знать не хочет, что за бабочки вокруг порхают и что за цветочки благоухают. А может, думаешь, это и есть она, матушка сермяжная правда – раскрепощение тела и духа, поп-искусство, секс-р-р-революция! И все это понимают, один ты допереть не можешь! И потому мне особенно приятно и, не скрою, удивительно, что вы, Жанна... Михайловна?.. Что вы, Жанна Михайловна, думаете столь определенно!
– Нет, не так!– порывисто тряхнула головой Жанна Михайловна.– Не так вы меня поняли! Мне самой этой определенности не хватает, вот я и хочу, чтобы кто-то мне в точности объяснил, а я – детям: это – белое, то – черное...
– Э-э-э, Жанночка, вот чего захотели!– доедая палочку шашлыка, проговорил Пушкарев.– Где они, эти самые определенность и убежденность?.. «Где вы теперь, кто вам целует пальцы?...» Были да сплыли. Хотите знать, когда?..
Я скажу: в 1956 году! Вот когда все началось – и вот чем кончилось!– Он, как прежде Конкин, ткнул в сторону улицы, но в том направлении, через дорогу, находился и суд, так что жест его можно было истолковать, как напоминание о процессе.
Именно так и понял его Федоров. И все в груди у него взбурлило, вознегодовало. Пушкарев часто возбуждал у него неприязнь. Но сейчас он чувствовал, что дело не в нем, не в его круглой, красной роже с каплей мутно-белого, как стеарин, бараньего жира на пухлом подбородке. Главное, на чем был он сосредоточен с той ночи, которую провел в комнате сына, лежало глубоко, куда глубже причин, обычно называемых в таких вот внезапно разгоравшихся, но с течением времени все более редких спорах «за шашлычком». Он не стал углубляться в то, что для него самого далеко не было ясным. Но и промолчать, не ответить. не смог.
– Не то,– сказал он.– Не то, Пушкарев. Какие убеждения, какая определенность?.. Что ты имеешь в виду?
– Любые убеждения,– сказал Пушкарев, – лучше, чем никакие.– Он бросил на стол пустой, вяло звякнувший шампур.– Человеку нужен порядок. Узда нужна...
А что, если он прав?..– подумал Федоров, стыдясь самого себя. Но на той глубине, которая приоткрылась ему и комнате сына, все было не стыдно и все возможно... Впрочем, он только подумал об этом. Подумал, как ожегся.
– Если в чем-то мы тогда и сплошали,– сказал он,– так совсем не в том, Пушкарев! Разрыв между словом и делом – вот главная наша беда! Если хотите – корень всех наших бед! И в Солнечном – то же! Там ведь, поди, ох как распинаются про любовь к людям, про заботу о советском человеке! А на деле?..
– Я не в том смысле...– проворчал Пушкарев.
Но Федоров его не расслышал. В ушах у него вдруг явственно прозвучал голос Виктора: «Говорят одно, делают другое...» И в тот же момент дребезжащий тенорок Вершинина вернул его к действительности:
– А этот процесс... Вы только представьте, о чем толкуют сейчас ребята, когда их товарищей судят за преступление, которого они не совершали! Чего стоят для них после этого наши слова о справедливости? О правде вообще?..
– Ужасно!..– вздохнула третья учительница, которую Федоров видел впервые, пожилая, с мягкими чертами на добром и все еще красивом лице.– Ужасно!– Она поежилась, будто ее обдало ледяным ветром.
– Но было бы ужасней, Мария Николаевна,– сказал Конкин,– если бы ребят осудили. Однако суд – это суд, а истина – это истина...– Он криво усмехнулся, будто погрозил кому-то кулаком.
– Между прочим, существует не только первая судебная инстанция,– напомнила Градова.– И если понадобится...
– Уверена, что не понадобится! – перебила ее Людмила Георгиевна.– И секите мне голову, если перед нами еще не извинятся!..
Шашлычник принес тарелку с грудой горячих, прямо с огня, шашлыков. Федоров посмотрел на Татьяну, взгляда встретились, но она тут же отвела глаза в сторону, В ее руке, в стиснутых пальцах чуть-чуть подрагивала так не начатая палочка.
– Татьяна Андреевна, остынет!..– Градова пододвинула к ней тарелку с дымящимся мясом. И все наперебой бросились ее угощать – кто тянулся с уксусом, кто с перечницей, кто с хлебом, уложенным пирамидкой на блюдечке.
Она всех слушала и не слышала, готовая, чувствовал Федоров, каждую минуту разрыдаться.
16
– Не знаю, не знаю...– Николаев, сдерживая себя, пожевал губами.– Но вы, дорогой Алексей Макарович, сдается мне, сошли с ума... Понимаете ли вы, что вы натворили?..
Они стояли в стороне от крыльца – на самом крыльце и ведущих к нему широких ступенях толпился народ, ожидая конца перерыва; Николаев как вцепился Федорову в локоть жесткими, сильными, словно клешни у краба, пальцами, так и не выпускал, пока не привел на это и открытое, у всех на виду, и в то же время уединенное место; его жена и Харитонова остались с Татьяной неподалеку, от входа.
– Нет, вы сами-то, сами – отдаете вы себе отчет?..
Он поминутно доставал мятый, слипшийся в мокрый комочек платок и вытирал красное, злое, растерянное лицо.
– А в чем дело?– улыбнулся Федоров. Улыбка не получилась. Он ее выжал, выдавил.
– Как это в чем? Будто вы не понимаете! Я звоню, а со мной отказываются даже разговаривать!..
– Кто отказывается? Кому вы звонили?
Николаев секунду вглядывался в Федорова, сузив воспаленные веки.
– Не разыгрывайте из себя идиота! Вы кого бьете, в кого целите своей статейкой?.. И кого под удар подставляете?..
Сердце в груди у Федорова задергалось, как фигурка под ветровым стеклом у пляшущей на ухабах машины.
– Если вы читали мою «статейку», то могли заметить, что речь там идет не об одном человеке, даже не о двух или трех... Речь о порочной, преступной, сказал бы я, практике, которая у нас сложилась...
Николаев его не слушал:
– Вы сына своего под удар подставили!..– понизив голос, процедил он нараспев и в нос. – Своего сына!.. И моего – тоже!..
Светлые глаза Николаева сделались почти прозрачными от ненависти. Он любит, он страдает, внезапно подумал Федоров. И укорил себя тем, что сам он страдает и любит, должно быть, гораздо меньше.
– Я полагал, что вы – врач,– сказал он.
– А я – что вы отец!.. И вы могли добиться, чтобы эту вашу статейку напечатали позже на неделю, на две! Или не печатали совсем! Кому нужны эти ваши вопли, ваши ахи и охи! Ваша дешевая демагогия!..
– Солнечному,– сказал Федоров.– Людям, которые дышат отравленным воздухом.– Я будто оправдываюсь,– усмехнулся он про себя.
Так оно и было. Он оправдывался. Перед Николаевым. Перед Татьяной. Перед Виктором. Не только сознание – все тело Федорова сохранило в себе память о том невольном движений, которым отозвалось оно на слова судьи: « Подсудимый, встаньте!..»
– Солнечному,– повторил он. Однако при этом думал он не о Солнечном, а о сыне и своей пока еще не ясной вине...
– Что вы в этом понимаете? Вы кто – медик, физиолог?.. Вы бы прежде, чем кого-то спасать, спасли своего сына! Да у вас нет никакого права, ни человеческого, пи гражданского, черт побери... Кого-то там поучать, изобличать... Когда вы сами, сами...
– В чем-то, пожалуй, вы правы,– сказал Федоров, удивляясь собственному спокойствию.
Крыльцо пустело, люди входили в здание суда, три женщины в нерешительности поглядывали в их сторону: подождать, пока они подойдут, или идти наверх, в зал, куда вот-вот приведут через внутренний вход обвиняемых.
– Пойдемте, пора.– Федоров щелкнул себя по колену сложенной в трубку газетой.– Я вас понимаю, Николай Николаевич, но мне кажется, вы напрасно так нервничаете. Дело-то ведь и впрямь, как многие считают, шито белыми нитками. Разве вы не видите, у них нет серьезных доказательств...– Он говорил на ходу и сам все больше успокаивался от собственных слов.– А «высокие покровители»... Не унижайтесь, не просите, им тут нечего делать. По вашим «покровителям» скамья подсудимых давно плачет.– Ему вспомнился Ситников, и как он просил, пластался перед, ним... Только трудно до них дотянуться, на чистую воду вывести, вот беда.
Николаев шел рядом, опустив голову и набычась. Было слышно, как он шумно, тяжело дышит. За несколько шагов до дверей Николаев ухватил Федорова за рукав и остановился.
– Вы идиот,– сказал он.– Вы маньяк. Но не в этом дело... Вы даже не спросили, что было мне заявлено по телефону. Вас это категорически не интересует?
– Что же?..
Он почувствовал, что сердце у него замерло, перестало биться.
– Мне сказали: «Так это Федоров, тот самый, которому неймется?.. Ну, что же, пускай пеняет на себя»...
Федоров поднялся вместе с Николаевым по лестнице и задержался на верхней площадке. Кто-то, проходя мимо, кивал ему, и он кивал, буркал что-то в ответ, выдавливая в кармане пиджака сквозь упаковочную фольгу шарик нитроглицерина, маленький и твердый, как свинцовая дробинка.
17
Начало судебного заседания затягивалось. Зал гудел. Федоров заглянул в газету. Это был обычный будничный номер, третья полоса. Здесь сообщалось:
– В Риме, на одной из станций метро, произошел взрыв бомбы, есть убитые и раненые; среди убитых – Джованни Пиччи, мать четырех детей; ответственность за взрыв взяли на себя скрывающиеся от правосудия террористы – члены «красных бригад».
– Франция произвела новое ядерное испытание на атолле Муруроа в Тихом океане. Общественность Австралии, Новой Зеландии и Японии встревожена резким повышением радиации, обнаруженным в этих странах.
– Неофашисты ФРГ устроили очередное сборище в Мюнхене. Ветераны войск СС встретились с участниками молодежных союзов и организаций. Состоялся митинг, на котором каждое выступление заканчивалось восклицанием «Хайль Гитлер!»
– В Дюссельдорфе при попустительстве местных блюстителей порядка осквернены могилы на еврейском кладбище; одни памятники разрушены, другие исписаны антисемитскими лозунгами с использованием несмываемой краски.
– «Каждый белый американец, начиная с пяти лет, должен уметь стрелять из автоматического оружия!» – заявил Бобби Лепсток, один из руководителей Конгресса Христиан, Ожидающих Прихода Мессии.
– «Долгосрочные последствия ядерной войны могут оказаться гораздо губительней, чем считали ранее,—
полагают американские ученьте Ричард П. Турко и Оуэн Б. Тун, – Обширные районы Земли окутает тьма, они подвергнутся продолжительному воздействию низких температур, ураганных штормов, токсического смога, радиоактивных осадков. Наступит «ядерная зима». Появится реальная вероятность уничтожения многих биологических видов, в том числе и человека».
Гул в зале затих. Федоров, стараясь не шуршать бумагой, сложил газету. Обвиняемые, прокурор, адвокат – все были уже на своих местах. В зал входили, располагались за длинным столом судьи.
Процесс продолжался.
18
Глеб Николаев – это Федоров сразу и ревниво отметил про себя – производил куда более выгодное впечатление, чем Виктор. Он был хорошо сложен, широкогруд, высок ростом, но не долговяз. И лицо у него было широкое, с открытой улыбкой и ясными спокойными глазами. Он и на судью смотрел, ясным, спокойным взглядом, и это, казалось, раздражало Курдакова – этот взгляд как бы чуть-чуть сверху, с едва заметной усмешкой в уголках детски-румяных губ. «Вот пристал!..»– словно думал он о председательствующем, отвечая на его вопросы и с трудом удерживаясь, чтобы не подмигнуть при этом залу.
– Расскажите, что вы делали третьего марта после школы,– обратился к нему Курдаков.
– А з-зачем?– удивился Глеб (он слегка заикался), – В-витя же все в п-подробностях описал...
– Вам понятен вопрос?
– П-понятен.
– Тогда отвечайте. И прошу запомнить – Витя, Маша, Коля – это дома. Здесь – суд.
– П-пожалуйста,– повел плечами Глеб. И с той же легкой, отчего-то располагавшей к нему запинкой принялся пересказывать то, что, в самом деле, и суду, и всем находящимся в зале было уже известно.
– Вы очень детально все излагаете,– дослушав Глеба, сказал председательствующий.– Между тем, по вашим словам, вы в тот вечер выпили две бутылки портвейна по 0,7 литра, то есть почти по пол-литра на каждого. Вы что же, ничуть не опьянели, если так хорошо все помните?
– П-пол-литра?..– переспросил Глеб, снисходительно улыбаясь.– Так это же всего два стакана.
В задних рядах засмеялись, захлопали. Курдаков постучал по столу.
Ну, пили – раздраженно подумал Федоров.– Ну, в карты играли, на лавочке сидели – что там еще?.. Но ведь речь-то не об этом, а о том, имеется ли состав преступления?
Курдаков как будто перехватил его мысли:
– Почему вы отказываетесь от показаний, которые давали на следствии?
– А т-там все неправда. Мы не убивали.
– С какой же целью вы ввели следствие в заблуждение?
Глеб улыбнулся, и улыбка у него была широкая, добродушная:
– А чтобы срок п-поменыпе получить. Так нам следователь объяснил.
– То есть вы полагали, что если солжете, взяв на себя вину, то приговор будет менее суров, чем если скажете правду?
– П-правильно. Мне и в КПЗ говорили, у нас в камере: все равно засудят. Так что смотри, как лучше. В таком деле выгодней на себя вину взять.
– А теперь что же?..
– А теперь я решил правду сказать.
– То есть вы решили теперь, что правда для вас выгодней?
– К-конечно.
– А если бы ложь...– Курдаков сузил и без того узкие щелки между веками.– Если бы ложь была выгодней... Вы бы снова солгали?
– Как это?..– Глеб почувствовал себя сбитым с толку, и растерянно оглянулся на Виктора. Тот сидел, бледный до синевы, с отсутствующим взглядом, закусив тонкую нижнюю губу.
– Да так...– вздохнул Курдаков.– Выходит, что правда, что ложь – для вас все едино. Выгодно или не выгодно – только это и важно... Так?
Глухой ропот пробежал по залу.
Курдаков не дал Глебу прийти в себя:
– Вы давали показания в присутствии адвоката?
– Да, он был на допросах, хотя не на всех...
– Вас привозили на то место, где было совершено преступление?
– Привозили.
– Вы показывали в присутствии понятых скамейку, на которой: сидели, когда к вам подошел Стрепетов? И аллею, из которой он вышел? И место, где завязалась драка? И дорожку, по которой побежали, когда Стрепетов упал?.. Все это вы показывали на предварительном следствий и все это теперь объявляете вымыслом, верно?
– Верно,– вяловато согласился Глеб.
– Как вы можете объяснить, почему все ваши «вымыслы»– у всех троих – совпадают между собой, а также соответствуют реальным обстоятельствам?
Теперь весь зал сидел затаившись. Николаев стиснул кулак и уперся им в подлокотник.
– Вы можете объяснить?– повторил Курдаков.
– Нет, н-но могу,– выжал из себя Глеб.
Курдаков опустил остро сверкнувшие глаза, коротко побарабанил по столу, порылся в лежащей перед ним папке.
– Зачитываю вашу записку, изъятую при попытке тайком передать ее родителям и приобщенную к делу: «Если не поможете, нам хана». Имеете ли вы что-либо сказать по поводу этой записки? Как понимать ваши слона: «иначе нам хана»?
Глеб молчал, переминаясь с ноги на ногу. Федорову казалось, он слышит, как тяжело, посапывая, тот дышит, упершись взглядом куда-то в пустоту.
– Прошу напомнить подсудимому, что он вправе не отвечать на вопросы,– обратился к председательствующему Горский, вскинув руку и получив слабый кивок в ответ.
– Напоминаю.– нехотя воркотнул судья.
Допрос продолжался. И чем точнее, прицельней вел его Курдаков, чем больше напрягался и терялся Глеб, тем явственней обнаруживались симпатии зала, да и в себе самом Федоров ощущал все сильнее накипавший протест. Он помнил, как года два назад Глеб появился у них и доме, как был он стеснителен, застенчив – и не меньше, чем другие стыдятся маленького роста, стыдился того, что он высок, и что каждый считал необходимостью отозваться на это – шуткой, междометием или вскинутыми к потолку глазами. Весь он был в комплексах юношеской стеснительности, боязни сделать что-то не так, в особенности – переступить черту, раз и навсегда проведенную отцом. Он уважительно называл отца «батей», и «батя сказал», «батя велел»– был первейший и самый неоспоримый для него аргумент. За это над ним зло издевался растущий на вольной волюшке Виктор. Однажды он в присутствии Федорова принялся уламывать Глеба, чтобы тот спустил штаны и задрал рубашку, но Глеб стоял, прижавшись к стене лопатками. «Он его лупит – р-р-родитель! – не кричал – рычал, захлебывался Виктор.– А этот все терпит! Кретин! Дубина!» – «А что мне с ним драться?..» – пряча глаза, выжал из себя Глеб.– «Да я бы... Я бы его зарезал!..» – Он так это выплеснул; с такой яростью, что Федоров расхохотался: ведь и вправду – зарежет, шкет, отца родного зарежет – и дорого не возьмет!..
Он и сейчас видел перед собой – того, красного, пыхтящего от стыда к унижения Глеба и неистово сверкающего из-под косой челки зрачками Виктора... И было мерзко, пакостно у него на душе.
Ведь это – дети!..– думал Федоров.– И не в том даже дело, виноваты они или нет. Не в том, не в том... А дело в том, что это еще дети. У них длинные тощие шеи, мягкий пушок на щеках и под носом; бородавки на пальцах... И вот мы собрались, чтобы судить их... Кого мы судим – их или себя?.. Скорее себя... Но там, за перегородкой, сидят они, а не мы, и в обвинительном заключении значатся их имена, и они стоят перед судьей, перед народными заседателями, прокурором, и те, призвав на помощь все свои знания, житейскую мудрость, профессиональный, отточенный многими годами опыт, стремятся доказать, что именно они, эти дети, виноваты во всем...
Но при этом его мысль летела куда-то дальше, вверх, все расширяющейся спиралью, и вместо трех жалких фигурок в таком вот зале, не в зальчике, а в просторном, для многих доступном судебном зале, виделись ему совсем другие люди: респектабельные, с начальственно звучащими баритонами, с мешочками под глазами, которые не разгладят никакие сауны, с повелительным, как бы поверх голов бросаемым взглядом. И среди них – директор комбината и все те, кто морил город, жег его легкие, отравлял кровь... Но перед судьями стоял, мялся, бубнил свои невнятные ответы Глеб, и прокурор Кравцова один за другим задавала ему вопросы, надеясь найти зацепку, камешек, а то и гладенький кирпич, который без труда ляжет в тщательно возводимую ею стену доказательств.
– Скажите, Николаев, а родители... Они знали об этих ваших художествах?.. Как вы пили, разгуливали: по вечерам вместо того, чтобы сидеть дома и учить уроки?.. И как они к этому относились?..
– Ну, как... Наказывали, если узнают...
– А за... – Кравцова поправила очки, подвинула их ближе к переносью.– За что именно вас наказывали?
– За разное... Отметку плохую охватишь или домой запоздаешь...
– А за карты? За то, что домой придете, а от вас вином пахнет?
– И за это.
– Я-а-асно. («Ясно-ясно-ясно...»—вспомнил Федоров скороговорку Чижова). И тем не менее... Вас что, товарищи подбивали?
– Никто меня не подбивал.
– Тогда как же?.. В тот вечер, третьего марта... Вы ведь знали, что вам достанется – и за вино, и за поздний приход?
– А бати не было, он в больнице дежурил.
– Значит, в то время, когда вы в сквере сидели и портвейн ( Кравцова перевернул а листочек, в блокноте, как будто проверяя себя)... портвейн попивали... В это время ваш отец... Что делал он в это время на дежурстве?
– Откуда мне знать.
– Ну, если он хирург, то... Как вы полагаете?..– Глеб молчал.– Скажите, Николаев, вы у отца в больнице бывали? Знаете, чем он там занимается?
– Был раза два. А чем занимается, и так известно: больных режет... Что тут смотреть.
– А зачем вы к нему в больницу заходили?
– Не помню. Наверное, тугриков перехватить.
– Тугриков?..
Смутный гул, как горький дымок, повис над залом.
– Заявляю протест,– подал голос Горский.– Вопросы прокурора не относятся к существу дела.
– Протест отклоняется,– сказал Курдаков.– Продолжайте.
– Выходит, по вашим, Николаев, словам, что каждый шаг ваш дома контролировали, на то и другое налагали строгие запреты, однако вы их нарушали?
– Как все, так и я...
– И чем строже были запреты, тем чаще вы их нарушали?
Глеб помолчал, прежде чем ответить:
– Пожалуй, что так.
– «Пожалуй, что та-ак...»– протянула Кравцова. И обратилась к председательствующему:– Пока у меня все.
– Вы что же,– заговорил Горский,– так-таки и были лишены отцом всякой самостоятельности? Он что – стремился, чтобы дом стал для вас чем-то вроде клетки?..
Горский был разгорячен, рассержен. Сонное, выражение смыло с его лица. Широкие ноздри раздувались, он то встряхивал львиной гривой, то картинным жестом отбрасывал ее с высокого, скульптурно вылепленного лба.
Глеб сник и, взглянув на него, виновато поёжился.
И тут раздался негромкий, даже робковатый, голос Катушкиной:
– А давно ли отец начал вас брать на охоту?
– Давно,– поднял голову Глеб и глаза у него прояснились, посветлели.– Лет с двенадцати, а то и с десяти.
– А вам никогда не было жалко тех... Не знаю – зверушек, птичек... На которых вы охотились?.. Которых убивали?..
– Нет,—сказал Глеб, отчего-то повеселев,—такого не было. А то бы что за охота?..
Глаза его на мгновение прищурились и странно блеснули, он словно мушку навел, торопясь не упустить цель и надавить на покорный пальцу крючок. Или Федорову так только показалось?.. Но и потом, когда Глеб уже сел и его место занял Харитонов, взгляд этот, холодный и безжалостный, как стальное лезвие, продолжал в нем жить.
19
...Он вилял, ёрничал, паясничал – Валерка Харитонов, ничуть не смущаясь тем, что перед ним – суд, что позади, в шаге от него, – конвоир, а сбоку, шагах в четырех,– зареванная, с разбухшим от слез лицом, утратившим всю свою моложавость и миловидность,– мать, поминутно подносящая к заплаканным глазам платок.
– Вы, Харитонов, первый дали следствию показания, от которых теперь отказываетесь...
– А я испугался.– Он говорил и улыбался при этом от уха до уха, улыбался и пританцовывал па своих длинных журавлиных ногах, будто упирался пятками в горячие угли.– Я вообще-то из пужливых, спросите хоть кого. А тут говорят: «Признавайся». Ну, я и признался...
– Только поэтому?
– А почему еще?..– таращил Валерка покруглевшие глаза.– Даже странно...
– А что это за «крафты», с которыми вы якобы встретились в сквере?– продолжал судья.
– Якобы, якобы... Это почему же – якобы?..– уставился на него Харитонов.
– Вам, что, не ясен вопрос?..
– Нет, почему же, ясен, только слово какое-то чудное – «якобы»... Не русское вроде...
В разных-местах зала вспыхнули негромкие смешки.
– Отвечайте на заданный вам вопрос, Харитонов.
– Да какой вопрос-то?..
Парень явно разыгрывал из себя идиота. Не идиота – шута, скомороха. Федоров и раньше замечал в нем эту черту. Валерка любил смешить, потешать и охотно допускал. чтобы над ним потешались, терпел любые издевки... Или для Валерки, мальчишки в общем-то малоприметного, в этом заключалась своего рода плата за право быть принятым в круг таких ребят, как Виктор, Глеб?..
Курдаков повторил вопрос, уточнив формулировку: сколько их было, этих «крафтов», видел ли их прежде Харитонов, и если да, то где, когда, не может ли их описать...
– А как же, конечно, видел,– зачастил Харитонов.– Только вот где – не скажу, не помню. На вечере в школе, может быть, или на улице... Когда?.. Может, давно, может, не очень, если бы знал, что это так важно, то записал бы...
– Вы можете их назвать – имена, фамилии?
– Конечно, могу. Если подумать. Не так вот, сразу. Сразу-то, пожалуй, и нет. Одного вроде Васей звали, другого Эдиком... Хотя нет – это того, который Вася, звали Эдиком, а который Эдик, того...
Курдаков постучал по столу, обрывая и Харитонова, и смех, катившийся по рядам.
– Напоминаю, Харитонов: вы обвиняетесь в убийстве. Вам известно, какое наказание вам грозит?
– А я что?.. Я ничего,– осекся Валерка.
– Итак, еще раз спрашиваю: в тот вечер, третьего марта, встретились ли вам в сквере молодые люди, которые называют себя «крафтами» ?
– Не знаю,– Валерка потер макушку, словно стараясь что-то припомнить.– Там было много всяких. Как их различишь...
– Вы что же, не помните, с кем дрались?.. Или, может, и драки никакой не было?
– Не, драка была,– неуверенно проговорил Харитонов,– Только как сказать – с кем... Налетели какие-то. А кто – не разберешь. Темно было.
– На вас налетели?
– Ага, на нас.
– А в какой момент вы заметили в руках у Федорова расческу?
Веснушчатое лицо Валерки вытянулось, он оглянулся, ощупал глазами Виктора и Глеба, смотревших мимо, мимо...
– Я ничего не видел. Темно было, я же говорю.
– Все ясно...– Председательствующий переглянулся с народными заседателями.
– Скажите, Харитонов, с кем вы живете? – спросил, вздохнув, Саркисов.– Что у вас за семья?
Валерка опустил голову, заморгал часто-часто.
– Мать – Валентина Прокопьевна, тоже Харитонова... и Лидка, сеструха.
– Отца нет?
– Может, и есть, не знаю. Только с нами не живет.
Федоров слышал, как Харитонова всхлипнула.
– А в тот вечер, когда...– Саркисов запнулся,– Короче, третьего марта, когда вы вернулись... Кто у вас дома был?
– Кто был?.. Лидка была. А матуха из рейса еще не вернулась, она в вагоне-ресторане работает, а московский поезд позднее приходит, к двенадцати. А я полдесятого уже дома был.
– По сколько же дней ваша мать бывает в отлучке?
– По четыре, по пять...
Саркисов снова вздохнул.
– Сестра вас видела, когда вы пришли?
– Ага, видела. Проснулась, я постель ей разостлал, с дивана перенес, а сам на диване прилег.
– Сколько же лет вашей сестре?
– Лидке-то?..– Валерка неожиданно улыбнулся мягкой, застенчивой, незнакомой Федорову улыбкой.– Да, пяти еще нет.
– Так-так...– прокашлялся Курдаков.– Какие еще вопросы к подсудимому?..
20
В самом начале процесса обвинение лопнуло, как мыльный пузырь, это было для Федорова очевидно. И не потому, что ребята, все трое, отказались от прежних признаний, а потому, что если бы у обвинения имелись неопровержимые доказательства их вины, оно давно бы использовало эти улики в ходе судебного заседания. Но, с другой стороны, обвинение могло приберегать их до поры до времени, чтобы затем направить процесс по намеченному руслу. Наблюдая за Кравцовой, Федоров пытался разгадать ее тактику. И когда в зале появился первый из свидетелей, выдвинутых обвинением, он по лицу ее, по распрямившейся спине понял, что пробил, пробил, наконец, ожидаемый ею час...
Это был высокого роста мужчина, слегка сутуловатый, в очках, с русой курчавой бородкой на приятном своей интеллигентностью, а отчасти даже беспомощностью лицо и рассеянной, ни к кому в частности и сразу ко всем, обращенной улыбкой. Впрочем, Федоров не любил таких лиц. В их мягкости, предупредительности– мерещилось ему что-то фальшивое, как и в бородках, вошедших в моду в начале семидесятых, годов: они казались ему приклеенными, хотелось за них дернуть и отодрать от наверняка гладко выбритых, кругленьких подбородков.
«Чмырь », – вспомнил Федоров, как назвала его Галя Рыбальченко. И – «с него-то все и началось»,– так она сказала, когда пришла к ним домой в тот день, в ту ночь....
– Савушкин Дмитрий Петрович... Художник, но, в данном случае – преподаватель черчения... В строительном техникуме, на вечернем отделении... Нет, это как раз имеет значение – то, что на вечернем... Женат, и это также имеет значение... То есть может иметь значение, чтобы все объяснить, если потребуется...
– Прошу вас, свидетель Савушкин, четко и ясно отвечать на предлагаемые вопросы. Расскажите, что произошло с вами вечером третьего марта сего года – все по порядку.
Он стоял спиной к залу, и Федоров видел его сутулую спину, мешковатый пиджак, светлые, скрывающие затылок волосы с утонувшими в них дужками очков. Голос у Савупшина был негромкий, напевный, казалось, он не выговаривает, а выпевает слова.
– В тот вечер, третьего марта, мои уроки закончились в восемь пятьдесят, я заглянул в учительскую, положил на место журнал и вышел. Техникум наш расположен по соседству с филармонией, и я прохожу обычно мимо нее, иногда через сквер, когда иду домой, у меня привычка – возвращаться пешком. Вот и третьего марта – сколько же это было?.. Да минут десять-двенадцать десятого, когда я через сквер проходил. Там есть боковая аллейка, тихая такая, безлюдная; обычно после занятий нервы гудят, вот я и шел по ней не спеша, чтоб передышку себе устроить, разрядку. Ну, а тут вижу – скамейка, на ней трое ребят. Один поднимается – и ко мне: «Есть закурить?..» – «Нет,– говорю,– не курящий»,– и хочу пройти. А он дорогу мне преграждает и снова: «Есть закурить?..» Я повторяю – давно, мол, бросил.,. Тогда он говорит – а сам за портфель, который у меня в руках: «А троячок,– говорит,– не найдется?» Смотрю, те двое тоже подходят, один со спины, другой сбоку. Ну, я и крикнул, чтобы внимание чье-нибудь обратить. Слышу – кто-то бежит, мне показалось – в летной форме, в фуражке... А в половине десятого я уже дома был.
– Вы что же, того, кто на помощь вам бросился, лицом к лицу с тремя хулиганами оставили, а сами сбежали?– поморщился Курдаков с заметной брезгливостью.
– Бывают, знаете, состояния, когда чувства обгоняют разум...– с невнятным смешком произнес Савушкин. – А кроме того, от меня сразу отступились, что ж было стоять?..
Бородка...– подумал Федоров,– Все точно... Ну и сукин же сын...– Он подумал так автоматически, вообразив ситуацию – там, в аллейке,– и словно забыв при этом, что Виктор был один из троих.
– Что же произошло потом? Вы кому-нибудь рассказали о случившемся?
– Рассказал жене. Но в общих чертах – мне не хотелось ее тревожить.
– А после?







