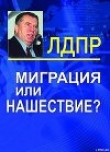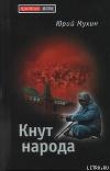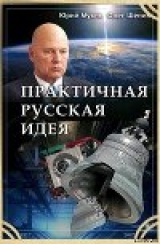
Текст книги "Практичная русская идея"
Автор книги: Юрий Мухин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 46 страниц)
У наказания вообще существует еще одна функция, которая уже полезна самому преступнику. Она позволяет ему реабилитироваться в обществе, снова стать его полноценным членом, при условии, конечно, что он не рецидивист. Раскаявшийся Раскольников, не приговори его суд к семилетнему заключению, не чувствуя себя достаточно наказанным, до конца жизни обрёк бы себя на невыносимые муки, неся на душе тяжкий грех. Каторга же была заслуженным наказанием, назначенным объективным внешним судом и позволяла ему искупить свою вину и вернуться в общество полноценным, очистившимся человеком.
Кроме того, что закон «О суде народа» выполняет функцию предотвращения проникновения подлецов во власть и функцию восстановления справедливости, он также в отдалённой перспективе способен сыграть важную роль в преодолении отчуждения власти от народа, решив проблему интеграции в общество руководителей после того, как закончится срок их полномочий. Во время пребывания у власти нельзя быть со всеми хорошим, неизбежно придётся кого-то обидеть, обделить. Среди окружающих нет-нет да и встретишь людей, пострадавших от твоей политики. Сколько их, этих пострадавших? Может, их единицы, а, может, и большинство. Если большинство, то и самому больше жить не захочется: взялся не за своё дело и нанёс непоправимый вред своему народу. Это самому себе простить невозможно, а вокруг – тысячи людей, которые тайно тебя ненавидят. А если пострадавших немного и соблюсти их интересы было невозможно? Чего от них ждать? Плевка в лицо или ножа в спину? Каждый из них может считать себя вправе отомстить за личную судьбу. Ведь не все раскулаченные понимали, как их конкретная судьба связана с необходимостью ускоренной индустриализации.
Возникает страшное отчуждение человека, вернувшегося из власти, от общества, в которое он хочет вернуться. Он не знает, как воспринял народ его правление – и не знает, как к себе относиться. Он не знает, что о нём думают окружающие – и не знает, чего от них ожидать. Неужели это жизнь? Это долгая и мучительная пытка до самой смерти.
И тогда у человека остаётся только один нормальный выход. Обратиться к народу с просьбой, оценить его действия на руководящем посту, и определить его дальнейшую судьбу. Если народ его поощрит и объявит Героем, то отставной руководитель сможет жить нормальной жизнью, не терзаясь за прошлые действия и не опасаясь нападений. Потому что любое действие против Героя – действие против народа. Кто посмеет мстить Герою за мелкие личные обиды?
Если же человек оказался плохим правителем, то он и сам будет рад пойти в тюрьму, чтобы его простили. Согласно закону о суде народа над властью, плохому руководителю назначается конкретное наказание за то, что взялся не за своё дело. И никто не потребует большего наказания (если он не совершил других преступлений).
В этом случае тюрьма реабилитирует человека и позволит ему загладить свою вину. Тем самым тюремное заключение станет для отставного руководителя способом искупления. И это вполне соответствует русскому мировоззрению: простого покаяния для искупления, по всей видимости, недостаточно. Нужно чтобы кто-то другой назначил наказание.
Следует отметить, что у народа в нынешних условиях без закона «О суде народа» и без смешных мер типа не избрания, есть таки возможность серьезно наказать власть – бунт. Стоит ли говорить о том, что это крайнее средство, и надо стараться не доводить до него? И лучшим способом не доведения будет закон «О суде народа». В противном случае, не пришлось бы снова стихи писать о «бессмысленном и беспощадном» русском бунте.
Глава 13. Полоса препятствий
Торг здесь бесполезен!По мнению критиков, еще одной возможностью, позволяющей превратить суд народа в процедуру с управляемым результатом, полезным не народу, а недобросовестным чиновникам, является попытка «купить» избирателей, и за счет этого обеспечить себе положительный вердикт. И таким образом избежать ответственности за ухудшение жизни народа, наступление которого неизбежно произойдет потом, как похмелье после бурных возлияний. Но отвечать за него придется не популистам, а их коллегам – последователям.
«Действующая власть может улучшить жизнь народа на время своего правления за счет злоупотребления доступными ресурсами, но конечным результатом неизбежно будет ухудшение. Например, можно поддерживать ненормально высокий курс национальной валюты и платить большие пенсии и оклады бюджетникам за счет продажи золотовалютного запаса страны и государственных займов. На свои деньги люди временно смогут покупать больше, но постепенно разорятся отечественные предприятия, не выдержав конкуренции с более дешевой импортной продукцией, страна окажется в долговой кабале и останется без золотовалютного запаса. Народ может поощрить власть-транжиру, но тем, кто эту власть возьмет потом, придется неизбежно ухудшать жизнь народа, так как придется девальвировать национальную валюту, отдавать долги и накапливать золотые и валютные запасы с нуля. В результате “плохая” власть может ходить в героях, а “хорошая” – оказаться в тюрьме”.
Президент, который 8 лет брал в долг у международных финансовых организаций и завалил прилавки второсортными товарами и продуктами, совершил подвиг, а следующие несколько Президентов, которые вынуждены будут по полбюджета отдавать за долги и поэтому резко ограничат займы, импорт, а, значит, опустошат прилавки магазинов (свои-то мощности задавлены демпинговым импортом), будут признаны избирателем преступниками.» [«Пилите,Юра! Пилите...», «Дуэль» № 24 (218), 8.06.01 г., http://duel.ru/200124/?24_5_1]
То есть, заткнем рот населению сникерсами, а после нас хоть потоп! И на первый взгляд эта трудность практически непреодолима. Депутаты избираются не народом, а избирателями. А избиратели – это только часть и даже не народа, а всего лишь населения. Но, зачастую, считают народом именно себя, заставляя служить государство именно себе. Громогласно требуя демократии, они первая инстанция, которая демократию губит. Интересы избирателей не являются автоматически интересами всего народа, а зачастую и прямо им противоположны. Преследуя сиюминутную выгоду, избиратель пренебрегает и будущим своих детей, своей страны, а то и собственной безопасностью. А у потомков может не оказаться возможности поправить некоторые, совершенные нынешним населением действия. Народ в этом случае бессилен. Целью закона является передача власти в России всему народу, а не только избирателям. Различие между населением и народом достаточно тонкое, и на первый взгляд незаметное.
Демократия – это строй, при котором власть в стране находится в руках народа. Однако по критериям мудрости, принятым на Западе, народом считается каждый человек. Поэтому демократическим считается государство, удовлетворяющее желаниям большинства той части населения, которая имеет возможность требовать. Когда толпа требует: “Не хотим этого короля, а хотим другого!”,– то с точки зрения западного обывателя – это вершина демократии. Он рассуждает так: “Король – это глава государственного аппарата, и если мы подберем короля, который будет служить народу, то есть лично нам, то такой король и такой государственный аппарат будут демократичными”. Такова их логика, и такой она была во всех государствах, и в России до порабощения ее монголо-татарами.
Постоянная угроза смерти или рабства изменила представления русских о демократии. Жестокое монголо-татарское иго научило русских думать так: “Если я демократ, то мне нужно служить не себе, а всему народу. Мои лишения могут обернуться отсутствием лишений у моих детей. Если я умираю, защищая свою страну, то вместе со мной умирает только очень малая частица народа, а народ будет жить, так как я спас его своей смертью. И не важно, умер ли я на глазах восхищенных моим героизмом, или незаметно, в мучениях скончался от болезней в осажденной крепости. Враг, стоящий под ее стенами, не пройдет в глубь моей страны, не будет убивать мой народ. Но если я сдамся, то враг, не сдерживаемый мною, пойдет убивать мой народ дальше Только став рабом народа, я освобожу народ от любого гнета, и он будет свободным.”
Таким образом, трехсотлетнее монголо-татарское иго привело к тому, что все больше и больше россиян по своему мировоззрению становились истинными демократами – рабами своего народа и своего государства.
Между прочим, подобный образ мыслей был не понятен не только на Западе, но и большинству наших историков. Сложилось устойчивое мнение, что Россия – страна рабов (и это правильно), но мало кто понимал, чьи это рабы, кому они служат. Считалось, что русский не может жить без плети. При этом историки и исследователи обходили вниманием то, что за пятьсот лет после рабства русские не склонили головы ни перед кем, ни один захватчик не смог поставить их на колени, в то время как почти все западные страны по паре раз в столетие были в роли побежденных. Причем Русь была свободной даже тогда, когда численность ее населения была вдвое меньше, чем численность любого ее западного государства-соседа.
Монголо-татарское иго сбило нас в одну семью, научило истинной демократии, и наше мировоззрение приняло формы мировоззрения члена огромной семьи. За время тяжелейшего, унизительного монголо-татарского рабства русские поняли то, что не понимали и не понимают другие народы, что, к сожалению, и сами россияне в последнее время перестали понимать. А тогда постоянная угроза рабства и смертиих многому научила.
Конечно, в таких условиях за эти столетия у русских выработалось свое мировоззрение, свой взгляд на свободу, на демократию. Пятьсот лет – это достаточный срок для того, чтобы что-то понять и чему-то научиться. [Ю.Мухин, «Наука управлять людьми»]
Народ – это очень мощная инстанция в историческом плане, но совершенно беспомощная сегодня, в конкретной ситуации, поскольку его никогда в полном составе нет, и не может быть. Народ непосредственно не может никого заставить себе служить, не может лично осуществить демократию, поэтому демократия только там, где люди сами служат народу. Власть народа возникает только тогда, когда высшие органы власти начинают подчиняться только народу и заставляют все население страны также подчиняться только народу. И для этого в ст. 138 уточнено, кто понимается под народом в тексте закона – «население и будущие поколения». Под народом будем иметь в виду граждан без учета факторов времени: это все те, кто живут сейчас, и те, кто будут жить после нас. Это избиратели, отложенные во времени. «Будущие поколения» – это люди, которые не могут пользоваться своими политическими правами, потому что они либо слишком молоды, либо вообще еще не родились. Но они смогут воспользоваться ими через 5 лет, через 20. В случае если законодатель совершил что-то против народа, то народ в состоянии рассчитаться с ним, а возможность этого заключается в отмене срока давности за преступление против народа.
Статья 12. Преступление по данному Закону не имеет срока давности. Референдумом по вновь открывшимся обстоятельствам может быть снова представлена на суд народа власть прошлых созывов и выборов и, по получении от народа другого вердикта, либо реабилитирована, либо лишена званий, либо наказана, либо награждена.
Таким образом, будет установлена ответственность Президента и ФС не только перед ныне живущим поколением, а перед всем народом.
Ну и что, возразят оппоненты. Это все история и поэзия, «высокий штиль». Внешняя угроза России давно уже отсутствует, и выживание русского народа под сомнение не ставится. Где полчища захватчиков, где сожженные города и нивы? А поскольку нет необходимости жертвовать своей жизнью ради будущего, то снова оправдано «западноевропейское» понимание народа – народ это только ныне живущие дееспособные граждане, ну пусть еще недееспособные дети. Мобилизация нравственных сил народа происходит в годину тяжелых испытаний. Угроза гибели народу востребует мужество ратников Куликовской битвы, защитников Смоленска и Бреста, подвиги Матросова и Гастелло. Никто не ставит под сомнение их необходимость и искренность в ту пору, но в настоящее время нет необходимости жертвовать собой. А способность к гибели во имя народа, во имя будущего – это не та способность, которая подспудно живет в человеке. Она воспитывается, и воспитывается в первую очередь обстоятельствами. А сейчас другие обстоятельства.
Спорить об историческом и современном понимании термина дело достаточно неблагодарное. Убедить человека, считающего народом только себя, с помощью исторического взгляда на понятие практически невозможно. Его точка зрения тоже имеет право на существование.
Поэтому сведем решение вопроса к решению прикладной задачи, которую обозначили оппоненты: как избежать растраты национального достояния страны законодателем для того, чтобы получить геройское звание от современников и не подвергнутся наказанию? Как не дать транжирам стать героями, как не дать населению проесть будущее своих детей, внуков и правнуков? Как защитить беспомощных потомков? А решение этой прикладной задачи неизбежно приведет к тому, что власть будет действовать в интересах всего народа, независимо от того, кто и как понимает термин «народ».
Закон предусматривает отсутствие срока давности по наказанию за преступление «Ухудшение жизни народа». Суд над властью России можно проводить и через 10, и через 20 лет, и проводить его будут будущие поколения. Власть России будет бояться возможного наказания и в будущем, и, следовательно, будет подчиняться не только интересам избирателей, но и интересам будущих поколений – а это и есть власть народа. Весь народ сможет поощрить или наказать руководителей государства.
По вновь открывшимся обстоятельствам оставившие посты Президент и члены Федерального Собрания могут вновь быть привлечены к суду народа и осуждены, реабилитированы или награждены. И Президента или депутатов, получивших положительный вердикт на суде народа за счет необоснованно набранных иностранных кредитов или распродажи национального достояния, и на вырученные деньги заваливших страну товарами широкого потребления, смогут наказать будущие поколения, которым в таком случае придется расплачиваться за сладкую жизнь нынешнего. Для привлечения к суду народа ушедшей власти по вновь открывшимся обстоятельствам действующая власть может устроить референдум, на который вынести соответствующий вопрос. Действующая власть будет более всего заинтересована в таком суде, так как именно ей в противном случае придется расхлебывать последствия ‘успешной работы’ уже ушедшей власти.
А случаев долголетия у бывших высших представителей власти вполне достаточно, чтобы они вполне могли подвергнуться наказанию за действия, совершенные ими и 15 и 20 и 30 лет назад. Например, В.М. Молотов, глава правительства СССР в 1930-1941 годах, дожил до 96 лет (умер в 1986 году). В случае действия закона «О суде народа» в СССР он мог предстать перед таким судом и в таком почтенном возрасте, если бы вскрылись определенные факты, подтверждающие, что действия Верховного Совета СССР, депутатом которого был Молотов, привели к ухудшению жизни народа. Более того, фактически такое положение дел существует в мире уже сейчас – вспомните, с каким трудом бывший диктатор Чили, Аугусто Пиночет избежал уголовного преследования за преступления, совершенные во время его диктатуры. Обвинение предъявили ему через 30 лет после отставки. И этот пример не единственный.
Другая крайностьВласть, осознавая свою ответственность перед будущими поколениями, осознавая ограниченность ресурсов, направляя свою деятельность на обеспечение устойчивого будущего страны, необходимо вынуждена будет ограничить население. Восстановление полуразрушенной промышленности, разоренного сельского хозяйства, зависимость от поставок продовольствия с Запада, необходимость укрепления безопасности среди враждебных стран, недовольных проведением Россией самостоятельной политики – все это неизбежно приведет к снижению жизненного уровня населения. Это может проявиться и в уменьшении доходов, увеличении налогов, увеличении продолжительности рабочего дня, необходимости дольше служить в армии и пр.
А население, умом понимая необходимость и правильность действий власти, тем не менее, хочет жить по принципу «все и сразу». И накажет рачительных руководителей государства за отнятые сникерсы. Вот как формулируют эти соображения участники сетевых дискуссий с форума сайта www.avn-chel.nm.ru:
"Представим себе, что при дефиците ресурсов глава государства стоит перед выбором накормить людей, или вложить деньги в секретную (!!!) разработку какого-нибудь дорогущего аппарата, предназначенного для разведки, либо обороны страны. Представим, что деньги пошли на безопасность государства. Разработка затянулась, люди до сих пор голодны. Причем сказать о разработке супер-аппарата он не может, ведь сразу об этом узнают враги. Как Вы думаете, как этого главу государства оценят граждане на Суде?
Представим эти 2 блага – вертолет и машину-иномарку. Что важнее для обывателя – заказать государству у своих же отечественных производителей вертолет для безопасности страны, или купить ему, обывателю, за границей новую машину. Я не встречал людей, которые выбирали вертолет для обороны своего государства. Все выбирали машину для себя.
Планирование в государственных масштабах очень сильно отличается от планирования в масштабах семьи. А отличается оно сроками планирования."
Нередко решение государственного руководителя, особенно если это Великое государство, является историческим, и чтобы правильно его оценить, нужны исторические сроки – десятки, а иногда и сотни лет. Скажем, в 40-х годах, когда Сталин выселял чеченцев, он был героем; в конце 50-х – начале 60-х он стал злостным тираном, в конце 60-х он был назван преступником; в конце 90-х отношение к Сталину резко изменилось в обратную! Горбачев во второй половине 80-х годов, когда открыл все идеологические шлюзы, был герой, в конце 80-х, когда на общество хлынули потоки дерьмократической вони, он стал в глазах общественности болтуном и словоблудом, в середине 90-х, когда люди наконец, задыхаясь в дерьме и скуля от голода, осознали катастрофу разрушения Великого государства – Советского Союза, – его заслуженно окрестили «ничтожеством, возомнившем себя гением» и т.д., и т.п.. А ведь не секрет, что когда конкретный избиратель будет выносить свой вердикт по Вашему закону, то на его решение повлияют в том числе и политические решения того, кого он судит, причем повлияют именно в том направлении, которое на день выборов сложилось в общественном мнении.
Следует отметить отзывчивость сердец наших соотечественников. Они снова и снова примеряют закон «О суде народа» к себе в роли оцениваемых, подсудимых. И переживают, как не сладко придется Президенту и депутатам! Это очередной ответ тем, кто считает, что народ наш злобен и не умен. Соотечественники делают ошибку. В первую очередь надо беспокоиться о себе, а не о депутатах. Они о себе побеспокоиться сумеют и без нашей помощи.
Итак, народ не в состоянии оценить необходимость долговременных инвестиционных проектов, он не хочет ждать «прекрасного далёка», хочет жить полной жизнью сегодня. И не умеет оценивать верность долгосрочного планирования. То есть, большинство народа живет одним днем, не думая о будущем страны.
Во-первых, это не соответствует реальному поведению людей. Иначе, зачем бы люди повышали свою квалификацию, делали пенсионные накопления, вместо того, чтобы истратить предназначенные для этого деньги немедленно на поездку на курорт за границу – как говорится «здесь и сейчас»? Именно потому, что люди умеют оценивать необходимость долгосрочных инвестиционных проектов, по крайней мере, лично для себя, они, кроме «здесь и сейчас» принимают также в расчет множество других факторов, например «как долго» и «чем придется пожертвовать в будущем» за «здесь и сейчас». Люди вполне понимают необходимость “вложений в будущее”, иначе бы давно перестали вкладывать деньги в образование своих детей, к примеру, а просадили их в игровых автоматах.
Можно вспомнить времена Великой Отечественной Войны, когда люди сдавали деньги на покупку самолетов и танков, а не лимузинов для себя. И такая практика была не только в СССР.
При выборе решения учитывается множество факторов, и их взвешивание позволяет выбрать оптимальное решение. А предположение, что избиратели будут принимать решение, учитывая только один фактор – сиюминутную выгоду, показывает слабое знакомство с действительными мотивами поведением людей.
Во-вторых, как указывалось в предыдущих главах, у действующей власти будет полнота действий, распоряжение и влияние на СМИ, через которые она будет иметь возможность разъяснить необходимость вложений в будущее. Действующей власти никто не будет мешать работать с «творческой интеллигенцией», заказывать книги, фильмы, исторические аналогии, разъясняющие правильность действий, пропагандирующие патриотизм, нестяжательство.
В-третьих, если власть не сможет убедить население в правильности своих действий, значит, она взялась не за свое дело. Поделом и получит. Прежде чем браться за глобальные задачи, надо научиться работать с людьми, признаком чего является и умение убеждать и находить подход к разным людям. В приведенном выше оппонентом примере говорилось о том, что руководитель государства будет вынужден вложить все денежки в “секретную разработку дорогущего аппарата” для нужд обороны. При этом о деталях разработки он сказать народу ничего не может, чтобы не узнали враги, однако желает избегнуть наказания за ухудшение жизни людей. Как-то эта ситуация напоминает несмешной анекдот “У нас есть такие приборы, но мы вам их не покажем”. Предположим, Президент честен. Тогда вполне достаточно будет сообщить о сути разработки избранным представителям депутатов, чтобы они подтвердили слова Президента, что деньги потрачены не зря. А уж от степени убедительности этих депутатов будет зависеть, поверит ли им народ. Примерно так поступают в США, Президент отчитывается о сверхнормативных и секретных тратах на оборону не перед всем народом, а перед сенатским комитетом по безопасности.
В-четвертых, все действия власти будут вызывать абсолютное доверие у населения. Даже не понимая ее отдельных действий, ей будут верить. И вера эта будет основываться на том, что люди будут знать, что депутаты за свои действия отвечают своей свободой, и что они не могут этого не понимать. И поэтому принимаемое непопулярное решение ими обдумано и оправдано.
Вот как об этом писал Ю.Мухин [«Дуэль», № 52 (500) 26.12.06, поединок «Надо ли бояться народа?», http://www.duel.ru/200652/?52_5_1 ]:
«На нашем заводе работал ветеран, пускавший первую печь завода, – Анатолий Иванович Григорьев. Металлург, прекрасно знавший все работы и все специальности в цехе: на какой бы он должности ни работал, всегда был, как говорится, «в каждой бочке затычкой», т.е. всегда и везде всё проверял сам, сам за всем следил, и не потому, что не доверял подчинённым, просто такой по характеру человек. Помню, рассказывал бывший начальник смены о том, как работал с Григорьевым, когда тот тоже был ещё начальником смены: «Идёт обходить цех перед приёмкой у меня смены. Через 20 минут возвращается и уже более грязный, чем я после 8 часов работы». Мне Григорьев всегда был симпатичен, кроме этого, своим отношением к людям и делу он напоминал мне киношного Чапаева. Так вот, Григорьев получил от рабочих кличку «Тятя».
Анатолий Иванович совершил запомнившийся мне подвиг, хотя я лично и не был его свидетелем. Завод работал очень плохо, и в цехе N4 на одной из двух закрытых ферросилициевых печах сложилась ситуация просто оскорбительная для завода. Одна из печей вышла из капитального ремонта и теперь до следующего капитального ремонта должна была работать 10 лет. После капитального ремонта печь разогревают где-то 30-40 дней, и после этого она работает на полной мощности в обычном режиме. Разогрев – операция ответственная, но разогревов завод провёл уже около 50-ти. Ничего нового и неожиданного в этой операции не было, но... цех не смог её провести! Печь за полгода имела несколько аварий, в ходе которых металл вытекал из стен печи в самых разных местах. Свод печи сгорел, новый не ставили, поскольку было понятно, что и он сгорит через день. Закрытая по конструкции печь работала в открытом режиме, да и «работала» – это громком сказано: электроэнергию она жрала, а металла давала очень мало.
Время шло, а ситуация на печи менялась только к худшему, в результате «умники» стали вносить предложение заново капитально отремонтировать эту печь. А это означало построить её заново. На всё это нужно три месяца, огромные деньги и большое количество материалов, которые заказываются минимум за год. Но главное, всё это было страшнейшим позором, поскольку уже лет 50 в СССР не было ферросплавного завода, штат которого был бы не способен разогреть печь.)
Думаю, что в цехе и все четыре бригады этой печи, и ИТР, в принципе, понимали, что нужно делать, но рабочие не хотели это делать, а у ИТР не хватало духу и, главное, способов их заставить. За отказ рабочего что-то делать, ИТР снимает с него премию, т.е. примерно 30% его общего заработка. Но завод не выполнял план, и премий уже несколько лет не было. Рычаг, которым начальники управляют подчинёнными, был сломан, и поднять рабочих на тяжёлое дело было невозможно. А дело было очень тяжёлым физически.
Козлы, образующиеся в печи, в принципе можно убрать и каким-либо альтернативным способом, например, дать на них флюс, иногда стружку и т.д. Но это далеко не всегда помогает. Промышленная печь – это костёр около 6 метров в диаметре. Вот нужно подойти к этому костру вплотную и прутом весом килограммов в 20, либо уголком, либо швеллером, помогая себе кувалдой, пробивать отверстия в нужных местах колошника (поверхности шихты в печи). При этом на тебе начинает оплавляться каска, размягчаться и стекать на грудь пластиковый щиток, прикрывающий лицо, начинает тлеть и прогорать до дыр суконная одежда, а ты обязан долбить, долбить и долбить эти проклятые козлы. Хотя бы 4 часа в смену, а 4, уж так и быть, отлежись в питьевом блоке.
Печь каждые сутки обслуживают три бригады, четвёртая – на выходном. И, естественно, у каждой бригады, принимающей печь, имелась мечта, что эту «заманчивую» работу по обработке колошника сделают остальные бригады. И все четыре бригады ходили вокруг печи, давали умные советы, что бы ещё такого в печь дать, чтобы ты не работал, а она заработала, и никто к операциям, которые действительно могли исправить печь, не приступал.
Не знаю, действительно ли уже разобрался в тонкостях ферросплавного производства тогдашний директор С.А. Донской, бывший до работы на нашем заводе сталеплавильщиком, или Донской действовал по наитию, но он упросил Тятю стать на этой печи старшим мастером и, наконец, заставить печь работать. В этом Григорьев отказать директору не мог, он вышел на работу в цех N 4, взял под своё управление печь, и недели через две она уже прекрасно работала, её укрыли сводом, и она продолжала прекрасно работать уже без Тяти. Мне, естественно, было интересно, что именно делал Григорьев, какие технологические приёмы применял, и я спросил об этом у начальника цеха.
– Тятя пришёл утром, заставил всех плавильщиков в бригаде этой печи взять шуровки и долбить колошник. Пока стоял рядом, они работали, потом куда-то отошёл, они сели. Тятя возвращается, схватил лопату и с матюками начал лупить лопатой по спине одного, другого. Они тоже с матюками взяли шуровки и снова встали к печи. И так Тятька несколько суток без перерыва стоял возле печи и заставлял всех работать до упаду. И печь пошла...
Почему такие выходки прощались А.И. Григорьеву? Во-первых, на печи уже перепробовали всё, что можно, и все если и не понимали, то чувствовали, что та тяжёлая работа, которую заставляет делать Тятя, – это единственный оставшийся путь к исправлению работы печи, а, следовательно, к более лёгкой работе в недалёком будущем и к существенно более высокой зарплате. То есть, все понимали, что Тятя старается ради них. Во-вторых, Тятю хорошо знали, знали, что он не уйдёт с печи, пока печь не заработает, что он будет сутками тут стоять, прикорнув часок где-нибудь за пультом. А значит, он вот так – если нужно, то и лопатой, – заставит работать все четыре бригады, а это для русского человека самое главное.
Вот в этом примере Тятя делал инвестиции в будущее не просто какими-то абстрактными деньгами, а чуть ли не кровавым потом «избирателей», но они не побежали жаловаться в горком, и ни один не осудил Тятьку – даже те, кого он убеждал лопатой по спине. Почему? А толпа чувствовала – он свой и он для них. А в других этого не чувствовала, посему и к их, точно таким же, распоряжениям относилась с прохладцей – «нашел дурака пуп рвать».
Таких, как Тятька, в нынешней власти и вокруг власти и близко нет – «элита» их боится и не допускает общения с народом – а вдруг народ почувствует своего. Так вот, наш Закон уберет от власти «элиту» и даст народу своих, а этих «своих» у России полно – не будь их, Россия уже давно бы вымерла. И то, что народ перестает ходить на выборы,– это показатель того, что он чувствует, что на нынешних выборах из кучи сплошного дерьма ничего, кроме дерьма, не выудишь».
В-пятых, даже если народ все-таки не оценит оправданные непопулярные меры со стороны действующей власти и накажет ее заключением, а впоследствии окажется, что именно эти действия стали основой процветания России, то разве может сравниться ощущение своей правоты, ощущение того, что именно ты сделал свой народ счастливым с несправедливым 4-х летним заключением? Должность руководителя государства настолько ответственна, что нельзя даже сопоставить наказание тюрьмой со счастьем народа. Эта должность для тех людей, для кого тюрьма не наказание, а медаль не поощрение. Истинным поощрением для таких людей будет слава человека, сделавшего свой народ счастливым, а наказанием – ощущение того, что ты сделал свой народ несчастным. Дети тоже обижаются на родителей за те или иные «непопулярные» меры. И по-своему, по-детски, их наказывают – не разговаривают с ними, например. Но наказание в виде детской обиды не может перевесить родительскую радость оттого, что благодаря правильным родительским действиям из ребенка вырастает настоящий взрослый человек, а не избалованный инфантил.