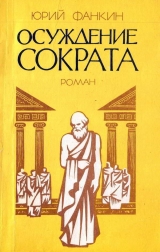
Текст книги "Осуждение Сократа"
Автор книги: Юрий Фанкин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Он едва дождался, когда она дойдет до середины гостиной, заставленной столами и невысокими пировальными ложами. Она повернулась к нему и, казалось, не заметила отсутствия Онисима. «Кто же будет играть мне на флейте?» – «Я, мое сладкое яблочко!». Он взял ее за руки и, неотрывно глядя в глаза, стал притягивать к себе. Они коснулись, коленями. «Ты хочешь стать моей госпожой?»– шептал он. Она ничего не отвечала, только смотрела на него огромными, в пол-лица, глазами. А Мидий воровской рукой совлекал девический пояс, и с его лица капал жаркий пот на ее смуглое, с детским пушком лицо…
– Как я люблю тебя! – шептал Мидий, обнимая матрац. – Ну, иди же ко мне! Иди!
Сейчас ему казалось, что он любит одну Самиянку, хотя бывшему демарху довелось обнимать многих рабынь, смиренных скромниц и откровенно-бесстыжих, горячих, как египетский песок, и холодновато-сдержанных, как скифский летучий снег.
– Где же ты? – вопрошал Мидий в темноту.
И вдруг он услышал в тюремном коридоре легкие, почти невесомые шаги. Его сердце подскочило, он встал на колени, не отрывая от матраца напряженных рук. Шла она! Ему хотелось взвыть от радости, но какой-то остерегающий поводок удерживал его. Милосердные боги! Она идет! И, уже не прячась от себя, он представил, как стиснет ее, зацелует, изгрызет губы, словно изголодавшийся зверь, а потом, страшно усталый, соберет последние силы и задушит ее, потому что не сможет выпустить ее на волю, на свет, в чьи-то счастливые объятья…
Радостной формингой запела дверь, в темноте расцвел факел, и он, поражаясь невероятной картине, увидел, как стали чернеть и сворачиваться маковые лепестки огня, а тьма, наоборот, оживать, возгораться.
– Подлая! – Он упал, как сраженный медным копьем.
В дверях стояли четверо прислужников Одиннадцати.
Один из них бережно держал у груди темную, как могильный ком земли, чашу.
«Но я же слышал ее шаги!».
– Крепись, Мидий! – раздался над ним суровый голос. – Прими эту чашу, как надлежит мужу.
Он лежал, бездыханный, недвижный, подчинившись тому звериному инстинкту, когда единственным спасением кажется полная отрешенность от жизни. Один из прислужников взял его за покатые плечи и повернул к себе лицом. Он будто поднимал мертвое тело. И Мидий, пораженный тем, что с ним происходит, подпрыгнул, как ужаленный, и стал отбиваться. Он возил на себе двух дюжих прислужников, и они никак не могли притиснуть его к земле. Потеряв терпенье, один из них ударил узника рукоятью кинжала в висок. Мидий сразу обмяк. Провожая закрытыми глазами блескучие звезды, которые понеслись куда-то ввысь, он почувствовал, как зубы разжимают кинжалом и начинают лить в рот какую-то безвкусную травяную влагу. Мидий сдерживал, пока мог, этот роковой поток, но влаги накапливалось все больше и больше, она распирала горло, и он, не выдержав, проглотил водяной ком. И сразу стало легко и безразлично. Теперь он лежал, как пласт, и четверо служителей в черной, вороньей одежде стояли возле него.
– Пожалуй, ему машет со своего берега Харон! – мрачно сказал один прислужник. – Пора снимать колодки…
Заклацала цепь. Колодки сняли, но Мидий не ощутил легкости в ногах.
– Бедняга! – чистым, девичьим голосом проговорил другой служитель. – У него нет даже обола, чтобы заплатить Харону за перевоз. Дай мне свой обол, Скиф. Я завтра верну.
– Стоит ли возиться с этой дохлятиной!
– Дай, Скиф. Ведь и его родила не бездушная скала.
Скиф вздохнул и начал развязывать кошелек.
– Что ты печешься о нем?
– Человек все же. Ты представь его маленьким и подобреешь. Посмотри, вот он, головастый, косолапенький, держится за подол своей матери. Он никому в жизни не причинил зла. Он ходит по зеленой траве, глядит в небо, набирается сил. Зачем он родился? Растить хлеб, рождать подобных себе. А он, возмужав, почему-то начинает гоняться за должностями, продавать душу Плутосу, лгать и завидовать. Мне жалко такого человека, Скиф. Он больший раб, чем мы. Давай же свой обол, не тяни…
– У меня тут драхмы.
– Давай драхму. Харон примет.
– Подожди. Я еще поищу… Нелепый ты человек, Сострат. Ну где я возьму тебе обол? Вот… Нашелся!
– Поклон тебе, Скиф.
– Бери. Бери без возврата. Не себе же берешь.
Сострат засунул узнику в рот обол, и Мидий ощутил пресноватый холодок.
– Пойдем же! – проговорил угрюмый голос. – Мир его праху!
Тихо, словно боясь побеспокоить Мидия, прислужники ушли. Опираясь руками, Мидий приподнялся. В его ушах дремотно погудывало море. Он вытащил из-за щеки серебряный обол, но почему-то не выбросил, а крепко зажал в руке. С гримасой отвращения сплюнул. Слюна была липкой, тягучей, так и осталась на губе. Он вытер губу, еще раз сплюнул. Ему страшно хотелось освободиться от этого противного травяного привкуса. Он встал и, покачавшись на чужих ногах, упал. Припадая к земле, он дополз до лужи и начал жадно пить. Напился, подержал горячий лоб в освежающей воде и опять пополз. Он подбирался к двери, от которой тек опьяняюще чистый воздух. Боги! Я верю вам. Только спасите!
И боги, вняв его бессильному голосу, приоткрыли дверь. Он взобрался на каменные ступени, отдышался и опять пополз, потащил свое тело, словно раненый зверь. Воздух становился все свежее, кружил голову с непривычки. Мидий вдруг явственно ощутил пряный запах сухой ромашки. Откуда взялась эта божественная ромашка? Впереди забелело окошко. Свет?
Человек продолжал ползти по темному лабиринту коридора на свет.
…Стража обнаружила Мидия Младшего недалеко от наружных дверей, в бурьяне. Намертво сжав дареный обол, он глядел широко открытыми глазами в голубое белоперое небо. Любопытный солнечный луч скользнул по его ржавой, скомканной бороде, заглянул в мутновато-стоячее болотце глаз и, напугавшись, скрылся за густой кроной священной оливы.
Солнце уже садилось. Верховые лучи освещали фасады дальних, стоящих на возвышении домов, слоновые колонны вечного Парфенона с его двухскатной крышей и белым узорчатым фризом, теплый отсвет ложился на лысоватую верхушку холма Пникс… Низко над землей летали чернокрылые ласточки, и упрямые побеги повилики продолжали ползти вверх по грубой тюремной кладке, чтобы заглянуть своими белыми, девической чистоты, бутонами в искрометные глаза бога солнца Гелиоса.
6
Они миновали невысокие, всегда открытые ворота и остановились в удивлении: старый философ попрыгивал и помахивал руками в ритме неторопливого гимнопедического танца. Аполлодор, не удержавшись, прыснул. Сократ медленно, с достоинством, обернулся, не переставая топать босыми ногами.
– Здравствуй, Учитель! – сказал Платон. – Похоже, ты готовишься не к суду, а к веселым Анфестериям.
– О, я не прочь поплясать на масленом бурдюке! – с улыбкой отозвался Сократ. – Не желаете и вы поразмяться?
Колыхнулась кисейная занавесь в дверях, выглянула растрепанная Ксантиппа.
– Ты еще не вымыл ноги? Поторопись! Да не забудь сказать судьям, что ты приносишь жертвы всемогущим богам, справляешь празднества, как и все…
Философ закончил утреннюю разминку, воздев напоследок руки к чистому небу, и опустился на соломенную циновку, возле тазика с мыльной водой. Занавесь опять шелохнулась.
– Протри ноги пемзой! И скажи судьям, что воздаешь почести усопшим родителям. Не забудь!
– Не забуду, моя добрая Ксантиппа. Не забуду.
Сократ поднял серый камушек, похожий на пемзу, отбросил. Взял другой… Он ошибался несколько раз, и вид у него был по-детски растерянный.
– Ты обдумал свою речь? – осторожно спросил Платон.
– Я пытался это сделать, но мой «Демонион» воспротивился… – Сократ виновато улыбнулся и нашел подле себя кусочек пемзы.
Платону стало грустно.
– Ты помнишь недавний спор о зависти? – заговорил философ. – Мне понравилось толкование Гермогена: «Зависть – это печаль». Я знаю людей, готовых помочь в беде, но встречающих с печалью удачу другого человека.
– Зависть может быть и ненавистью! – без охоты возразил Платон.
– Ненависть – крайность. Это болезнь души. А зависть – печаль, ее может испытывать каждый человек. Разве ты не испытываешь хоть легкой зависти к Гомеру или Терпандру, добавившему, несмотря на запрет эфоров, еще несколько струн к своей божественной лире?
– Пожалуй, ты прав, Сократ. Но меня всегда пугала и возмущала та ненависть, которую испытывают некоторые люди к тем, кто обладает божьим даром. Я видел, как человек, обладающий властью и деньгами, может исступленно ненавидеть поэта или философа.
Сократ задумчиво водил пемзой.
– Я думаю, Платон, все дело в том, что власть и деньги не приносят подлинного счастья. Человек, обладающий призрачным счастьем, невольно чувствует это. Власть и деньги можно растерять в мгновение ока. Талант же, данный Аполлоном, остается навечно. К тому же, я думаю, любой государственный муж менее свободен в своих мыслях, чем поэт или философ. А частое насилие над собственной мыслью не может не вызвать у человека неудовлетворенности и душевной смуты. Что ты думаешь, Платон?
Платону не хотелось спорить.
– Сегодня будет прекрасный день! – Старик взглянул на нежной синевы небо. – Можно было бы прогуляться к реке, искупаться. Неужели не преступно позволить Мелету украсть такой день? А-я-яй! – Он плеснул водой на свои ноги. – Нет, пожалуй, я не отмою их до нового потопа!
Показался тринадцатилетний Лампрокл, старший сын Сократа, высокий, угловатый. Тихо поздоровавшись с гостями, он положил возле отца потертую сандалию. В дверях, наблюдая за сыном, стояла Ксантиппа.
– Ты принес сандалии? – ворчливо спросила она.
– Вот… одна.
– Милосердные боги! – воскликнула женщина. – Видно, ты уродился в своего отца! Где же вторая? Или ты хочешь отправить отца в одной сандалии? А ты что молчишь? – набросилась она на Сократа. – Ему принесли одну сандалию, и он спокоен, как олимпионик. Посмотрите, посмотрите на этих олухов! – Ксантиппа, ища сочувствия, обернулась к Платону и Аполлодору. – Они вечно все делают вкривь и вкось. Нужно быть терпеливее Данаид, чтобы выносить все это. А теперь ты дожидаешься каких наград? – обратилась она к сыну, который сутулился от смущения и чесал ногу об ногу. – Иди в горницу, загляни под кровать. Только не лезь в очаг: там ничего нет. Я с вами скоро сойду с ума. Отстань! – крикнула она и шлепнула по спине черного лохматого щенка.
– Зависть – это печаль… – тихо проговорил старик.
– Что ты там бормочешь? А-а! – Ксантиппа раздраженно махнула рукой и скрылась в дверном проеме вслед за сыном.
Черный, словно вымазанный сажей, щенок подкатился к Платону и Аполлодору, обнюхал влажноватым носом их ноги. Гости стояли неподвижно, и это было неинтересно щенку. Он сунулся в корыто, лизнул – вода со щелоком ему не понравилась – и умно склонив голову набок, стал наблюдать за подвижными руками старика.
– Перестань, разбойник. Ты же видишь: мне некогда. Ну, хватит! Хватит! – Старик легонько отстранял щенка.
– Вот твоя сандалия! – раздался зычный голос Ксантиппы. Убирая со лба рассыпавшиеся волосы, она спешила к Сократу. – Я же знала: этот оболтус ничего не найдет. Держи! – Она победно, будто трофейный меч, бросила свою находку.
Щенок медленно подбирался к сандалии…
– Проклятье! Отдай! – вскрикнула Ксантиппа и бросилась за щенком.
Волоча сандалию, пес вихрем пронесся по двору и скрылся в зарослях терновника. Ксантиппа беспомощно остановилась.
– Лампрокл, где ты? Щенок утащил сандалию! А ты что сияешь, как зимний месяц? – Ксантиппа недовольно смотрела на мужа.
Не скрывая веселой улыбки, старик поднялся с циновки.
– Что поделаешь? Видно, придется идти босиком.
– А ты и рад? – упрекнула Ксантиппа.
– Время идет. Нужно спешить.
Выскочил Лампрокл и нехотя полез в заросли. Сократ постоял некоторое время на циновке, посмотрел на свои темные ноги и с удовольствием ступил на теплую землю.
– Я ухожу.
– Подожди. Сейчас найдется сандалия. – Посмирневшая Ксантиппа приблизилась к мужу.
– Не могу. Время торопит. Да ты не беспокойся, моя добрая Ксантиппа. Все будет хорошо.
– Мне приснился под утро сон, Сократ. Будто я тку тебе белый плащ, и мой уток никак не вплетается в основу. Наверное, это дурной сон.
– А мне приснился праздничный обед. Из зябликов и дроздов.
– Ты все шутишь, Сократ. А мне совсем не до шуток. Может, тебе нужно остеречься злых духов, положить в рот листочек священного лавра?
– Лучше окропи нашу кровать очистительной водой. Листок лавра помешает мне держать речь.
– Хорошо. Я так и сделаю. – Женщина с надеждой посмотрела на качающиеся кусты терновника.
– Я ухожу.
Она подошла к нему еще ближе.
– Может быть, и я пойду вместе с тобой? Ведь другие женщины приходят на суд сами и приводят своих детей.
– Ты не сделаешь этого! – мягко возразил Сократ. – Нам не пристало приводить детей, чтобы разжалобить судей.
– Поступай как знаешь! – Женщина начала сердиться. – Что же ты стоишь, как истукан? Иди! Разве я набросила на тебя силки?
Философ вздохнул и пошел к воротам. Платон и Аполлодор поспешили за ним.
– Иди! Иди! Проваливай! – кричала Ксантиппа. – Я буду только рада, если тебя хорошенько проучат! Ты думаешь, я орошу землю горестными слезами? Не надейся!
Все трое, не сговариваясь, ускорили шаг.
– Пойдемте, друзья, Нижней улицей! – предложил Сократ. – Я давно не ходил по ней. – И свернул направо, под гору.
Они пробирались тропинкой, захлестнутой зарослями гигантских лопухов, лебеды и крапивы, спотыкались о камни и наконец вышли на Нижнюю улицу. Эта улица, грязная, в колдобинах, огибала скат горы, на котором лепились, словно ласточкины гнезда, маленькие неказистые дома. Тут же в обилии росли терновник и подвязанная к жердям виноградная лоза. Обитатели Нижней улицы – гончары, кузнецы, красильщики – уже занимались своими делами. Скрипели гончарные круги, молоты грохали по наковальням.
– Сейчас я вам покажу один дом… – сказал старик. Он шел медленно, останавливался. – Как тут все переменилось!
– Мы опоздаем! – забеспокоился Платон.
– Успеем! – Старик взглянул на солнце. – Еще есть время. А вот и вяз! – радостно воскликнул он и полез сквозь крапиву, сквозь лопухи к могучему дереву. Платон с Апполодором переглянулись и последовали за ним.
– Вот обещанный дом! – Старик показал палкой на заросли бурьяна. – Видите обломки? Да вот же! – Он не утерпел, забрался в самую гущину, согнулся и что-то стал искать. – Видите? – Старик держал над головой почернелый кусок камня.
– Ты родился здесь? – удивленно спросил Аполлодор.
– Да, Аполлодор, я родился здесь. Этот камень от домашнего очага. – Он перекладывал обломок с ладони на ладонь, будто в нем еще сохранялся нестерпимый жар.
Платону с Аполлодором передалось настроение старика. Они поглаживали мощный корявый ствол, отыскивали едва заметные контуры прежних стен.
– Ты стоишь там, где качалась моя зыбка! – пояснял Сократ, и лицо Аполлодора расплывалось в широкой детской улыбке.
Солнце, казалось, перестало подыматься, запутавшись в серебристых тенетах олив. И как-то реже, раздумчивее забухали молоты, с тихой натугой заскрипели гончарные круги. Но тут истошно, с подкудахтыванием прокричал запоздалый петух и резко смолк, будто горло ему перехватил жертвенный нож. Платон встрепенулся и посмотрел на Учителя, не решаясь напомнить о времени. Философ, стоявший в задумчивости, пошевелился, отыскал глазами ослепительно-желтый краешек солнца, спокойно сказал, будто речь шла не о нем, а о каком-то другом человеке:
– Пора…
Сократ отколол небольшой кусочек от почернелого камня, чтобы взять его с собой, и они пошли правым краем дороги, который был подальше от домов и потому оказался менее залитым помоями и засыпанным пеплом. Дорога вскоре пошла на изволок, туда, где находился знаменитый Одеон, место судилищ и театральных представлений. Около меняльной лавки к ним пристали Гермоген, Федон, Критон и Великий хулитель.
Серый луч улицы расширялся. Каменные лбы мостовой хранили грязноватые следы метелки общественного чистильщика.
– Судьи! – негромко и как будто удивленно сказал Аполлодор.
Философ рассеянно взглянул вперед. Служители Фемиды возвращались из храма Тесея, где бесстрастный жребий решил, какая из десяти судебных коллегий будет разбирать дело старого философа из дема Алопеки. Если бы не короткие судейские жезлы и похожие оливковые венки, эту процессию, запрудившую улицу, можно было бы вполне принять за священное посольство. Гелиасты, разбившись на малые группки, о чем-то разговаривали и даже смеялись. Платон, обладающий хорошим слухом, вскоре понял, чем вызван смех: один из гелиастов забыл дома свинцовый жетон, по которому он должен был получить в суде причитающиеся три обола. Судей догнал четырехколесный возок, запряженный мулами, и хозяин принялся поносить людей, которые не враз уступили дорогу.
Так, не приближаясь к гелиастам, но и не отставая, Сократ с друзьями добрался до Одеона. Возле входных колонн толпились праздные люди. Сократ приблизился к человеку, задрапированному плащом из тонкой милетской шерсти.
– Скажи, любезный, что тут происходит? – почтительным тоном спросил философ. – Уж не готовится ли очередная комедия Аристофана?
– Здесь будут судить Сократа! – охотно пояснил господин в роскошном плаще. – Может быть, ты слышал о нем?
– О, я не раз встречался с ним! Он несколько болтлив, но, кажется, производит впечатление недурного человека. Так в чем его обвиняют?
В толпе зевак хохотнули: кто-то узнал философа в лицо. Обладателю роскошного плаща показалось, что смешок относится к старику, проявившему неосведомленность в предстоящем процессе. С сожалению поглядывая на Сократа, господин продолжал с всезнающим видом:
– Этот болтун возомнил себя мудрейшим из эллинов. Говорят, он задался целью определить расстояние до каких-то блуждающих звезд…
– Какая нелепость! – Сократ покачал плешивой головой. – Большинство людей не знают, какое расстояние отделяет одного человека от другого, а этот мыслильщик пытается дотянуться до каких-то звезд. Можно ли глядеть вверх, ничего не видя у себя под ногами?
– Он колдун! – выбрался из толпы невзрачный моргающий человечек. – Моя соседка видела, как он ворожил в полнолуние на погребальных лентах.
– Это сущий пустяк! – отмахнулся Сократ. – В мои уши долетало и другое: он способен, как фессалийские колдуньи, свести Луну с полночного неба. Не из-за него ли в Афинах такая тьма? Просто возмутительно! Как бы он не одурачил наших почтенных гелиастов! Что же мы топчемся на пороге справедливости? Фемида дожидается нас!
Плащ с достоинством посторонился, пропуская вперед словоохотливого старика.
– Не видите, это же Сократ! – заговорили вполголоса у колонн.
– Где Сократ? – живо переспросили, закрутили головами.
– У самого входа. Низенький. Плешивый.
– Что за нелепые шутки!
Дохнуло живым домашним запахом, в котором почему-то угадывался солоноватый дух чеснока. Копошащийся люд заполнял аккуратные кусочки театральных секторов. Незанятыми были только задние ряды. Друзья попрощались с Сократом, ободряюще дотронулись до его плеча, и философ двинулся текущим вниз проходом туда, где за отдельным столиком, рядом с секретарем, возвышался пухлолицый человек с ассирийской клинообразной бородкой. Это был председательствующий в суде басилевс, второй архонт в афинской коллегии архонтов, он же государственный жрец и почетный дадух-факелоносец во время свершения Великих Элевсинских таинств в честь Деметры и Персефоны. Басилевс задумчиво водил пальцем по медной крышечке от цилиндра, в котором хранился судебный свиток, и дожидался, когда рассядутся в своем секторе, отгороженном бирюзовой веревкой, судьи-гелиасты. Судьи рассаживались шумно, как на пиру, перебранивались из-за места. Пять счетчиков голосов, избранных по жребию, уже сидели на своей скамье, с выжидательным интересом оглядываясь по сторонам и чаще всего останавливая свой взгляд на трех обвинителях. Скамья обвиняемого была пуста.
Сократ, несколько смущенный судебными приготовлениями, приблизился к первому ряду, заполненному наиболее видными мужами, и остановился в нерешительности, не зная, куда идти. Он уже подумывал спросить: «А не скажете ли, почтенные, где тут место обвиняемого?», но секретарь, заметивший старого философа, быстро приподнялся к размашистым гостеприимным жестом указал на одинокую деревянную скамью.
Сократ по приставной лесенке поднялся на театральную сцену, где уже сидели обвинители, председатель суда и счетчики, неловко опустился на краешек скамьи – вид у него был какой-то рассеянный, отчужденный – казалось, он может в любой момент подняться и уйти. Старик подумал, что ему придется провести в этом душном, зале несколько часов, и вздохнул. Было бы куда приятнее, если бы дело разбиралось где-нибудь на открытом воздухе, хотя бы на холме Пникс – там было бы привычнее, легче, к тому же оттуда хорошо виден Парфенон. Он провел сухой ладонью по гладкому сиденью и обнаружил, что поверхность испещрена надписями обвиняемых. Он даже сумел разобрать ближайшую: «Ни за кого не ручайся». Изречение, приписываемое Фалесу, одному из семи мудрецов, было выцарапано чем-то острым, скорее всего, ножичком или гвоздем.
Секретарь пробежал еще раз глазами обвинение, которое ему предстояло прочесть, повернул голову к басилевсу, занятому медной крышечкой. Сосуд с предварительными показаниями, стоявший слева от басилевса, мешал ему видеть скамью обвиняемого. Секретарь услужливо наклонился к пухлолицему человеку и начал что-то говорить, беспорядочно шаря глазами. Басилевс, выслушав, повел оттопыренной бородкой книзу. Секретарь оставил свой стул и передвинул сосуд на другое, более удобное место.
Можно было начинать. Басилевс поднялся и объявил о начале суда. И сразу же поджарый секретарь, по-чиновничьи вобрав голову в плечи, взошел на кафедру и, не дожидаясь, когда в зале воцарится тишина, начал читать обвинение, предъявленное Сократу. Впрочем, то, что он делал, нельзя было назвать чтением; секретарь лишь шевелил губами, по своему опыту зная, что в этом случае он скорее всего привлечет к себе слушателей. И, действительно, собравшиеся, шикая друг на друга, быстро успокоились, и, когда стало тихо, то оказалось, что секретарь произносит только первые слова: «Мелет, сын Мелета, пифеец, обвиняет Сократа, сына Софрониска, из дема Алопеки в том…». Далее излагалась суть обвинения, многим хорошо известная по публичным скрижалям.
Секретарь водил глазами по свитку папируса, и этот свиток по мере чтения завивался сверху вниз, как строптивый бараний рог. Тем временем архонт-басилевс оставил в покое медную крышечку и взял в руки тонкое тростниковое перышко секретаря – председатель суда питал особую страсть к хорошо отточенным перьям – и, оглядев темноватое жальце, деловито сунул его в чернильницу. Жальце потемнело еще больше. Басилевс пододвинул к себе чистый листок и уставил глаза в потолок. Он думал, что бы такое записать. Как назло, в голову ничего интересного не приходило, а писать какую-то пустяковину ему, второму архонту и дадуху-факелоносцу, не хотелось. Наконец в памяти всплыла одна фраза, внесенная в афинское законодательство после шумного процесса над Протагором. Фраза показалась басилевсу достойной внимания, и, по-ученически наклонив голову к левому плечу, он начал выводить твердым каллиграфическим почерком: «считать государственными преступниками тех, кто не почитает богов по установленному обычаю или объясняет научным образом небесные явления…». Едва он успел закончить фразу и вытереть чернильной губкой сгустившуюся краску с кончика пера, как секретарь покинул кафедру.
Словно театральная бочка для воспроизведения грохота прокатилась по залу, когда на деревянную, выкрашенную в красный цвет тумбу, «камень непрощения», поднялся молодой дифирамбический поэт. Прежде чем начать речь, он оглянулся на Ликона и Анита – старик боязливо шевельнулся, а кожевник продолжал сидеть, как сидел: сложив руки на груди и свободно вытянув ноги в плетеных сандалиях. Поэт по-актерски вскинул голову и произнес высоким взволнованным голосом:
– Я хочу сказать вам, мужи афинские…
И как только он заговорил, веско упала первая капля в водяных часах, пущенных судебным стряпчим.
– …вовсе не личная обида заставила меня выступить против Сократа, человека старого и известного в нашем городе. Меня, как и вас, волнует падение нравов в самом сердце эллинского мира – фиалковенчанных Афинах. Молодые люди не слушаются своих родителей, подвергают насмешке божественные обряды. Каких трудов стоит теперь найти достойного юношу и доверить ему нести факел в праздник Великих Панафиней…
– Его устами говорит Правда! – крикнули с первого ряда.
Мелет просиял, как школьник, и, воодушевляясь с каждым словом, продолжил обличительную речь. Он говорил о том, как много вреда благонравию приносит Сократ, человек хитрый и красноречивый, умеющий выдать кривду за правду, не признающий богов и переполненный высокомерным презрением к людям великим и государственной службе.
Философ по-прежнему сидел, притулившись к правому, уже достаточно расшатанному подлокотнику, незаметный на скамье, предназначенной не только для обвиняемого, но и для его свидетелей. Он ощущал себя обыкновенным зрителем, которого любопытствующие друзья затащили на судебный процесс, и вовсе не думал о том, что ему придется несколько, раз оставлять скамью для произнесения речей. И люди, находящиеся в зале, казалось, не замечали Сократа. Их возмущенный ропот словно относился не к живому человеку, а к темной тумбе, «камню обиды», на который должен был подняться старый гордец и развратитель нравов. Может быть, это особое внимание к тумбе было вызвано тем, что Мелет, произнося речь, иногда для убедительности простирал руки к тому месту, на которое должен был встать его противник.
«Он недурно говорит!» – подумал Сократ и, закрыв глаза, он снова ощутил солоноватый запах чеснока. Откуда здесь чеснок? А, впрочем, нет ничего удивительного – многие люди, идя на суд, прихватили с собой провизию. Старика начало клонить в дрему. И он, наверное, легко бы задремал, если бы не эта надоедливая муха. Она прилетела откуда-то из зала и бесцеремонно села на лоб. Он отогнал ее, но она не улетела далеко. У мухи, видимо, было отменное чутье: утром старик отведал немного гиметтского меду. Сократ вторично махнул рукой и чуть не уронил палку, стоящую между ног.
Мелет вдруг почувствовал, что зал, внимающий каждому повороту его блестящей речи, начинает изменять ему: яркие, остроумные сравнения почему-то встречались довольно равнодушно, а общие места неожиданно вызывали дружное оживление и даже смех.
Предупреждающе поднял руку басилевс, но зал продолжал оставаться неуправляемым. Басилевс, ничего не понимая, глянул на своего секретаря, который бегло писал за Мелетом – тот недоуменно поджал губы. Скифы-стражники, рассеянные в проходах и возле сцены, зашевелились, однако в движениях блюстителей порядка не было беспокойства – этот шум их не касался. Басилевс посмотрел на Сократа – философ находился в прежней безмятежной позе. Секретарь, догадавшись, в чем дело, вежливо шепнул:
– Муха!
– Что? – не понял председатель суда.
Секретарь сделал глуповатое лицо:
– Возле обвиняемого муха.
Опять грохнула театральная бочка, сопроводив безуспешную попытку отогнать муху. Второй архонт в коллегии архонтов и дадух-факелоносец, бесспорно, понял, что смех не относится лично к нему, и все же ему было неприятно как человеку, отвечающему за все, происходящее в суде. Щеки басилевса, окаймленные кучерявой растительностью, покраснели. Недовольно посапывая, он поманил пальцем молодого раба, который только что принес большой сосуд для голосования.
Раб оказался человеком смышленым. Он перенес сосуд поближе к эстраде, создав впечатление, что архонт приглашал его только за этим, а потом безразличной походкой подошел к обвиняемому и уселся рядом. Лицо его было обращено в зал, в то время как глаза изо всех сил косились на муху, замершую на подлокотнике. Сократ завозился, и раб, во избежание возможных недоразумений, решил объяснить свое неожиданное появление.
– Сделай одолжение! – вяло отозвался Сократ. – Я и сам не прочь избавиться от нее.
Муха, словно поддразнивая, подлетела ближе. Теперь она сидела на первой букве грубо вырезанной надписи: «Прощай, Электра!» – и деловито чистила крылышки. «Электра! Электра!» – повторял про себя раб прилипшее имя и тихонько, бочком подвигался к мухе.
– О, боги! Помогите мне! – прошептал раб и прытко загреб рукой. И тут судебный стряпчий, следящий за временем, громко хлопнул в ладоши. Это означало, что в часах упала последняя капля. Поэт смешался, смял фразу и все же, собравшись, сумел довольно внятно произнести последние слова:
– Я прошу мудрых судей поверить мне и поступить, как велит их благородное сердце и требует государственная присяга! Хвала богам!
«Как я забыл о часах!» – сокрушался поэт, шагая по выщербленной актерскими ногами сцене. Он никак не мог просинь себе этот просчет. Закончить речь ранее отведенного времени считалось не только правилом хорошего тона, но и служило для некоторых судей косвенным доказательством непогрешимости оратора – правому человеку не нужно говорить долго.
Хлопок стряпчего и уход главного обвинителя спасли мухолова от дотошных взглядов. С бесстрастным лицом, обращенным к толпе, он силился понять, что происходит в его правой, старательно зажатой руке. «Проклятье! Неужели она улетела?». Желая убедиться, так ли это, раб продолжал осторожно сжимать руку, и тут муха забилась в своей тесной темнице, тонко заверещала. А на красный «камень непрощения» уже вставал Анит, сын Антемиона, человек, исполнивший немало дорогостоящих литургий во славу родного города. Он вставал, доброжелательный, как любящий сын, и подтянутый, как гоплит на параде, и зал, ворчливый и взъерошенный, послушно успокаивался, расправляя на своем избалованном теле пестрые складки рядов.
Мухолов воровато оглянулся и оставил скамью, ставшую опять безразлично-тихой. Бесшумно, почти не ступая на пятки, подошел сзади к председателю суда.
– Я поймал ее!
Басилевс вздрогнул:
– Что ты сказал?
Раб безо всяких объяснений положил муху на стол и удалился. Басилевс брезгливо поморщился и хотел было смахнуть неподвижную муху на пол, но в последний момент ему показалось, что нарушительница порядка жива. Он прикрыл муху ладонью и, как ожидалось, ощутил смутное щекотанье. «Ах, ты, притворщица!» – подумал архонт и, опомнившись, недоброжелательно взглянул на своего секретаря. Однако секретарь был занят протоколом: в глубокой сосредоточенности он сеял на плотном папирусе колющие ионические буквы и не отрывался от листа даже тогда, когда следовало окунуть ненасытное черное жальце в чернильницу. Председатель успокоился и, придавив ногтем слюдяное крылышко, стал наблюдать…








